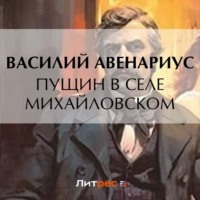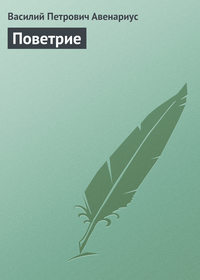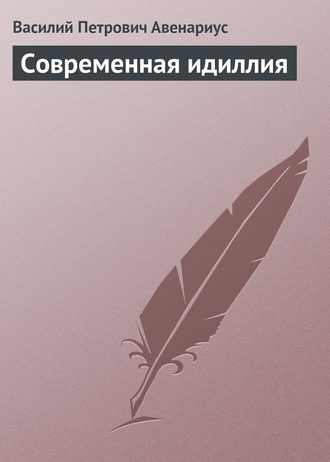 полная версия
полная версияСовременная идиллия
– Ну, а другую свечу куда вы дели? – спросил, смеясь, один из слушателей. – Вероятно, с собой везете, как реликвию, и, домой воротившись, стеклянным колпаком накроете?
– То-то, что нет. Теперь жаль. Я отдал ее тут же мальчику, который нес мою поклажу. Он баснословно обрадовался подарку и обещался снести домой матери.
– Вы русский? – спрашивал между тем американец Змеина.
– Русский.
– Догадались-таки вы наконец освободить своих рабов. Наши южане и по сю пору не уразумели истины, что с людьми нельзя обращаться, как с вещью, как с неразумным скотом.
– Позвольте вам заметить, – сказал Змеин, – что ваши рабы и в самом деле не люди.
– Как так?
– Они составляют переходное состояние от обезьян к людям. Лучшее тому доказательство их череп, который несравненно площе нашего. Негр никогда не может достигнуть одного развития с белым.
– Будто? А Туссён-Лувертюр?
– Туссен – исключение, не всякий и у нас Гумбольдт, Гете. Да и чем же необыкновенным отличился Туссен? Он был хорошим полководцем, и только.
– Так, по-вашему, плантаторы совершенно правы, обращаясь с неграми, как с животными?
– Все в мире относительно: со своей точки зрения они правы. Только толстокожее, коренастое племя чернокожих способно, без ущерба для своего здоровья, нести нечеловеческие плантационные работы, под знойным солнцем юга. Да и нужно же что-нибудь делать неграм? Для головной работы они слишком тупы, так пусть работают хоть телесно, доставляют человечеству почтенные запасы греющего хлопка.
– Ну, и пусть работают, но зачем же из-под палки? Освободите их – и они будут работать по-прежнему, только добровольно, для дневного пропитания.
– Вы думаете? Как же вы мало знаете чернокожих. Ведь они страсть ленивы.
– Это верно.
– Они рады скорее умереть с голода, чем добывать кусок хлеба вольным трудом. Только авторитет господской палки подвигал их до сих пор на труд.
– Александр Александрович! – воскликнула с изумлением Лиза. – Неужели вы такой консерватор, что стоите за рабство?
– Я, Лизавета Николавна, приводил только взгляд южан. По-моему, негров все-таки следует освободить. Понятно, что и негры разовьются со временем, если дать им на то возможность. Мы же, белые, как существа высшие, должны способствовать их развитию, освобождая их прежде всего от телесного гнета, с которым так неразрывно связан и гнет моральный. Пусть оттого цветущие плантации южан в начале даже заглохнут – плантаторы станут изощрять свой ум для изобретения мертвых машин взамен прежних, одушевленных, и по всему вероятию изобретут.
– Messieurs! – воззвала тут Моничка к Куницыну и Ластову, внимавшим, подобно другим, предыдущему спору. – Sauvez nous de cette trombe sauvage de radotage savante d'un savant sauvage sur des sauvages savants![63]
– Vous n'avez que d'ordonner, m-lle[64], – отвечал правовед и, шепнув Ластову на ухо: – Помни наш уговор, – обратился к Наденьке.
Поэт не замедлил приблизиться к Моничке.
– Не посещали ли вы, подобно старшей кузине вашей, университетских лекций? – начал он вопросом.
Барышня насмешливо взглянула на него.
– Как же, раз Лиза уговорила меня пойти с нею. Читал знаменитый ваш Костомаров.
– Ну, и что ж?
– Так веселилась, что и сказать нельзя.
– В самом деле?
– Да, чуть не заснула.
– А! Что ж он, плохо читал?
– Не берусь судить. Должно быть, по-вашему, не очень плохо, потому что ему аплодировали. Одной шикать не пришлось, но скука, mon Dieu, что за скука! Рассказывал он про древних русских, кажется, про новгородцев; ну, сами посудите, что мне в древних новгородцах? C'est plus, que ridicule[65]! Если очень уж понадобятся, то чего же проще – справиться в тоненьком Устрялове? А то сидеть битый час в душной, жаркой зале, не сметь пошевельнуться, comme un automate[66], поневоле раззеваешься. Ха, ха! Жаль, право, то не заснула! Душка Костомаров, я думаю, был бы в восхищении от магического действия своих лекций. Прекрасное заведение для людей, страдающих бессонницей. Если не будет у меня сна, то можете быть уверены, не забуду вашего университета; до тех же пор к вам ни ногой.
Ластов слушал ее с улыбкой.
– А скажите, пожалуйста, другие слушательницы так же засыпали под снотворным обаянием лекции?
– То-то, что нет. Это меня и удивило. Одни сидели как вкопанные, с разинутыми ртами, точно проглотить хотели профессора; другие даже записывали! Я не иначе могла объяснить себе такую пассивность, как долгой привычкой: ведь и люди, нюхающие табак, не чихают более от него. Что меня, однако, более всего шокировало у вас, так это то… Не знаю, говорить ли?
– Говорите; вы ведь эмансипированная, если не ошибаюсь?
– Да… Так, видите ли, мне было и странно, и досадно, что студенты ни малейшего внимания на девиц не обращают, точно их там и нет.
– Да мы этим гордимся! – возразил с некоторою горячностью Ластов. – Чтобы девицы ничуть не были стеснены в своих занятиях, мы нарочно их не замечаем.
– Как вы, милостивый государь, смешно рассуждаете. Если девица удостаивает ваши лекции своим посещением, то первый долг ваш, я думаю, как galants cavaliers, показывать, по крайней мере, глубокое внимание.
– Вот как! Вы, Саломонида Алексеевна, хотите, видно, сделать из университета нечто вроде Летнего сада с его майским парадом невест? Покорно благодарим за незаслуженную честь! Если девушка жаждет просвещения – мы не помеха ей, пусть посещает наши лекции – но и только.
– Очень нужно нам ваше просвещение! Истинное просвещение заключается не в том, чтобы знать, когда жили древние новгородцы, как назвать по имени и фамилии всякую букашку; это дело особой касты чернорабочих – касты ученых. Да, господа университетские, вы – черный народ. Истинно просвещенный пользуется вашими открытиями, пользуется железными дорогами, телеграфами и т. д., но сам не стает марать себе рук унизительным трудом.
– Никакой труд не унизителен, – отвечал Ластов, – менее всего умственный. Это уже до того общепризнано, столько раз перевторено, что отзывается даже общим местом. Так, по-вашему, истинно просвещенные те, которые сидят сложа руки, жар чужими руками загребают, то есть паразиты? Браво!
– Вы не дали досказать мне! Эмансипация прекрасного пола – вот что главным образом характеризует истинное просвещение. Свобода во всем. Прежде, бывало, ни за что не дадут в руки девиц Поль де Кока…
– А вам дают? Моничка расхохоталась.
– Qu'il est naif[67]! Я сама беру его. Отчего же и не читать Поль де Кока? Вслух прочитывать, конечно, – un peu genant, ну, а про себя…
– Пол де Кок – писатель очень хороший, – заметил Ластов, – рисует прекрасно парижский быт, но все-таки я того мнения, что чтение его в ваши лета более вредно, чем полезно: юношество имеет обыкновение вычитывать из романов именно то, чего не следует.
– Ну да! Послушайте, ведь вы уважаете Лизу, как вашу же студентку?
– Положим, а что?
– Да то, что она и Наденьке позволяет читать, что той вздумается.
– Не может быть!
– Я же вам говорю; что мне за выгода лгать?
– Надо переговорить об этом серьезно с Лизаветой Николавной.
– Можете.
Моничка ускорила шаги, чтобы поравняться с Куницыным, который в это время с особенным жаром объяснял что-то Наденьке; но осторожный правовед сделал вид, будто не слышит вопроса, с которым обратилась к нему Моничка; чтобы не возбудить общего внимания, последняя нашлась в необходимости воротиться к своему буке-«университанту».
– Если бы вы знали, m-r Ластов, какой вы скучный – ну, просто Костомаров!
Ластов рассмеялся.
– Дай-то Бог; очень рад был бы.
– Нет, в самом деле, как же, сами согласитесь, ходить с молоденькой девицей и не уметь занять ее?
Ластов зевнул в руку.
– О чем говорить прикажете?
– Мало ли о чем. Если не можете ни о чем другом, так говорите хоть о театре. Часто вы бываете в опере? Говорите, острите, ну!
– Бываю.
– А, скажите, пожалуйста, бываете! Какая же опера более всего нравится вам? Каждое слово приходится выжимать из вас, как из мокрого платка.
– Какая мне опера более всех нравится? Если б я был хвастлив, то сказал бы: «Разумеется, „Дон Жуан!“» Но я откровенен и сознаюсь, что и музыку Верди слушаю с большим удовольствием, например, «Трубадура», «Травиату»…
– «Травиату»? Да ведь все наши примадонны толсты, а Травиата умирает от чахотки? Да и декорации в «Травиате» очень незавидны.
– Опять-таки должен сознаться, что ни певицы, играющей Травиату, ни декораций не видел.
– Как не видели? Где же вы сидите?
– А в парадизе, притом на второй скамье. Первая скамья, как известно, искони абонирована, и абонементы эти переходят из рода в род, от отца к сыну, так что нашему брату, постороннему, не родившемуся под счастливой абонементной звездой, приходится удовольствоваться второй скамьей; а с этой ничего не видно, если с опасностью для жизни не перегибаться всем корпусом через головы впереди сидящих. Я сажусь обыкновенно лицом к стене, чтобы не ослепнуть от яркого блеска люстры, висящей перед самым носом, закрываю глаза и обращаюсь весь в ухо.
– Все-таки не понимаю, зачем вы ходите наверх, а не в партер?
– Очень просто: потому, что по скудности финансов не имею доступа в преисподнюю; поневоле взлетишь в высшие сферы.
Моничка посмотрела на молодого человека искоса и сжала иронически губки.
– Вы, как поэт, везде, кажется, взлетаете в высшие сферы.
«Окончательно провалился!» – подумал поэт.
IX. Ржаной хлеб и безе
Не более успеха, однако, имел и правовед у гимназистки.
– Поедете вы отсюда в Париж? – спросил он ее по-французски.
– Не думаю, – отвечала она на том же языке. – Сестра пьет сыворотки и, вероятно, придется пробыть здесь все лето. Да в Париж в это время года, я думаю, и не стоит: жарко, душно, как во всяком большом городе; да и вообще туда, кажется, не стоит.
– Ай, ай, m-lle Nadine, какие вы вещи говорите! Париж – центр всемирной цивилизации, всякого прогресса: науки, искусства, высшее салонное образование, всевозможные безобразия наконец – все это сосредоточено в новом Вавилоне, как в оптическом фокусе, и всякого мало-мальски образованного человека влечет туда с неодолимой силой, как магнитная гора в арабской сказке. Приблизится к такой горе на известное расстояние корабль – и все железо корабля: гвозди, обивка и прочее вырывается само собою из стен его и мчится навстречу волшебной горе.
– То-то, – подхватила Наденька, – что когда железные части такого корабля отрывались от него, существенные составные его части, как-то бревна и доски, лишались взаимной связи, распадались, и бедные пассажиры судна погибали в волнах. Молодежь, стремящаяся на всех парусах в Париж, лишается там своих гвоздей и распадается в ничто. Недаром гласит немецкая поговорка: «Nach Paris gehen Narren, davon – kommen Gecken»[68].
Правовед усмехнулся, подбросил себе в глаз стеклышко (в чем достиг настоящей виртуозности) и свысока посмотрел на собеседницу.
– С ваших, m-lle, хорошеньких губ как-то странно слышать столь резкий приговор. Верно, Добролюбова начитались?
– Не скрываю, начиталась.
– Кстати, как вы смотрите на танцы? Добролюбов по своей неуклюжести, не танцевал, – поклонники его ненавидят танцы.
– Видите, m-r Куницын, я люблю побесноваться, покружиться; как-то особенно весело, точно улетаешь куда-то; но все-таки танцы – ребячество, глупость. Лиза тоже не танцует.
Куницын расхохотался.
– Потому и глупость, что m-lle Lise не танцует? Она для вас авторитет? В настоящее время, m-lle, авторитеты – нуль, всяки имеет обо всем свое собственное мнение.
– Да и я же высказываю свое собственное мнение! Ну, сами посудите: в огромный, празднично освещенный зал сходится в пух и прах разряженная толпа – для чего, спрашивается? Чтобы попрыгать, как марионетки, под такт музыки! Неужели это не глупо?
– А, нет, m-lle, в некоторых отношениях бальная музыка решительно незаменима. Она заглушает задушевный разговор, так что изливайся перед любимым существом сколько угодно – никто не услышит. Потом она дает случая обнять это любимое существо, прижать от глубины души к сердцу, что во всяком другом случае было бы преступлением.
– Все это вздор! – перебила Наденька. – Вы говорите про любимое существо, а любовь – нелепость!
– Вот как! А не обожали ли вы сами в гимназии кого-нибудь из учителей?
– Были у нас глупенькие, которые обожали. Я слишком умненькая для того.
– Погодите немножко, придет и ваша пора, будете сами глупенькой.
– А вы уже глупенький?
– К вашим услугам.
– То-то я заметила, – Наденька засмеялась.
– Смейтесь, смейтесь! Вспомяните мое слово: не успеете оглянуться, как окажетесь глупенькой.
– Перестаньте вздор нести, – серьезно заметила гимназистка. – В сентиментальный период романтиков любовь действительно была в моде; нынче она брошена, как шляпка старого фасона.
– Так-с. И всякая привязанность вздор?
– Привязанность? Нет, разумная – не вздор. Разумная привязанность рождается вследствие долгого знакомства с предметом нашей привязанности, когда мы успели вполне убедиться в душевных достоинствах его. Любовь же, в том смысле, как вы ее понимаете, – в смысле влюбленности, безотчетного, глупого влечения, – разлетается, как дым, коль скоро любимое существо сойдет с пьедестала, на который вознесено нашей же фантазией, и разоблачится в свою обыденную, человеческую форму.
– Прошу извинения за откровенность, – сказал, – смеясь, Куницын, – но слова ваши так и отзываются риторикой. Верно, цитируете Добролюбова?
– С чего вы взяли, что у меня нет собственных убеждений? Впрочем, если не у Добролюбова, то у Белинского, учителя его в деле критики, действительно есть нечто подобное: кажется, в восьмом томе, где он разбирает Пушкина.
– Ха, ха, ха!
– Чему обрадовались? Белинский, кажется, уважительный авторитет?
– Я только что говорил вам, что не признаю авторитетов. Впрочем, смеялся я не тому. Меня забавляет, что вы запомнили так хорошо и том, и статью.
– Не диво вспомнить, когда в восьмом томе всего две статьи.
– Что же говорит о привязанности ваш Белинский?
– Он не отвергает ее, однако считает ее возможною только в случае взаимности. Любят вас (разумеется, чувством привязанности, а не влюбленности) – и это до такой степени льстит вашему самолюбию, что вы начинаете сами благоволить к любящему, пока не полюбите его так же нежно, как он вас. Станет он пренебрегать вами – и вы, как окаченные холодною водою, остываете мгновенно. Привязанность без взаимности и верность до гроба могут быть допущены только как натяжка воли или – расстройство мозга!
– Сами вы себе противоречите, сударыня: только что говорили, что любовь не в моде, а теперь допускаете ее в случае взаимности. Ведь Белинский говорит же о любви между мужчиной и женщиной, а не между лицами одного пола?
– Н, да… Наденька замялась.
– А все виноват синьор Белинский! Я вот хоть сознаюсь откровенно, что не могу одолеть его: больно фразист и учен; вы же цитируете его, да сами сбиваетесь на нем.
Наденька покачала головой.
– Вы не понимаете меня… вы слишком молоды. Куницын сострадательно усмехнулся.
– Ну, а вы-то совсем еще ребенок.
– Извините! Мне скоро шестнадцать, а девицы развиваются несравненно ранее мужчин. Вам сколько?
– Двадцать первый.
– То есть двадцать. Девушка в шестнадцать лет считается уже взрослой, а мужчина в двадцать все еще недоросль.
– Не хочу спорить, – с достоинством произнес правовед, – пусть за меня говорят факты: в чем, спрашивается, заключается развитость шестнадцатилетней девицы, чем превосходит она нас: телесным или умственным развитием? Девица в шестнадцать лет еще большая невежда в науках, чем мальчик того же возраста, потому что начинает уже выезжать на балы, тогда как мальчик еще продолжает учиться; следовательно, развитость ее только телесная. Что ж! Собаки взрослы уже на восьмом месяце. Я, положим, еще недоросль, а между тем окончил уже курс в училище правоведения, а между тем уже имею девятый класс!
– Что это: девятый класс?
– Это значит: титулярный. Даже кандидаты университета получают только десятый!
– Да так и следует, – сказала Наденька, – они знают несравненно больше вас.
– Да нет, вы, кажется, не так понимаете: девятый класс выше десятого.
– Как так выше?
– Конечно, выше. Самый высший – первый класс, затем второй и т. д., четырнадцатый или китайский император – низшая степень.
– Как же я этого не сообразила! – насмешливо заметила Наденька. – Станут студентам давать ту же степень, как правоведам! Помните, у Добролюбова:
Правый брег горист, а левый брег низмен, Так и все на Руси – что выше правее бывает.
В университет поступает народ неимущий, низкий, парии, народ печеный из грубого, ржаного теста. Ржаной хлеб, пожалуй, и сытнее, и здоровее кондитерских пирожков, но цена пирожкам всегда выше.
– Оттого выше, что они идут на стол образованного сословия, тогда как ржаной хлеб годен для одних мужиков.
– Неправда. И я люблю ржаной хлеб – с жарким, с супом. Посмотрела бы я, как бы вы сами стали заедать эти блюда сладким пирожком!
– Но под конец обеда, в виде десерта, всегда же приятно что-нибудь сладенькое, например, безе, или нет?
– Что касается специально меня, то я охотница до безе, но вкус у меня еще неразвит. Спросите-ка людей бывалых, испробовавших всего в жизни – они пренебрегают пирожным, и верно недаром.
– Пренебрегают кондитерским безе, потому что вкушали уже безе более сладостное – с прелестных уст. Вы пока знаете только безе первого рода, но сделайтесь глупенькой, то есть полюбите, и найдете вкус и в безе второго рода.
– Вы, m-r Куницын, как я вижу, большой эгоист: сами из породы безе, так и расхваливаете свою братью… Вам бы только пирожных, да поцелуев, да романчиков: как есть сахарные – того и гляди, развалитесь.
– Вы, m-lle, кажется, думаете, что я не беру в руки серьезных книг? – с важностью заметил Куницын. – Напротив: я прочел всего Молешота, всего Фейербаха, Прудона… Знаете, главный принцип Прудона: «Le vol c'est la propriete»…
– Что, что такое? Воровство – имущество?
– Да, имущество всякого… то есть всякому предоставляется воровать сколько угодно, не попадись только.
– И это главный принцип Прудона?
– Да, это принцип всех вообще коммунистов…
– Знаете, m-r Куницын, мне сдается, что вы не читали никого из этих господ.
Правовед обиделся.
– Что ж тут необыкновенного? Современному человеку надо ознакомиться со всеми отраслями знания. Я ведь и не говорю, что философия – вещь интересная; материя она скучнейшая, суше которой едва ли что сыскать; но возьмите-ж опять – долг всякого человека образовать себя… Если философы посвящали лучшие годы жизни сочинению отвлеченных теорий, не слыша около себя веяния окружающей жизни, то обязанность современного человека – дышать одною грудью со вселенной, мыслить со всеми и за всех, а следовательно, и с философами. Понятно, однако, что философия для нашего брата лишь дело второстепенное, одно из звеньев всей цепи наших знаний. А как философия такая непроходимая сушь, то чем скорее отделаться от нее, тем и лучше; ведь все равно ничего путного, реального не вынесешь. И могу похвалиться: перелистал на своем веку столько философских переливаний, что на всю жизнь хватит.
Наденька пожала плечом и не сочла нужным сказать что-нибудь.
«Странное дело! – рассуждал сам с собою Куницын, схлыстывая тросточкою пыль со своих светлых, широких панталон. – Чем же развлечь, привлечь ее? О Париже, о чувствах, о предметах серьезных говорить не хочет; о чем же, наконец, толковать с ней? Sacrebleu[69]!»
Он не догадывался, что гимназистке вообще не хотелось говорить с ним.
X. Синий чулок
И Змеин, незаметно для себя самого, очутившись около Лизы, затруднялся вначале в теме для разговора.
– Не взыщите, если я не займу вас хорошенько, – откровенно сознался он, – но я не мастер болтать с барышнями.
– Болтать! Как будто женщина может только болтать и неспособна на разумный разговор? Знаете ли, что вы грубите?
– Очень может быть, я ведь предупредил вас, что не горазд на комплименты.
– Да от комплиментов до грубостей «дистанция огромного размера». Разве разговор мужчины с женщиной должен ограничиваться комплиментами? Я думаю, если женщина собирается сдавать на кандидата…
– И то! Я забыл. Но позвольте узнать, по какой вы это части?
– Сначала я занималась историей, но после, когда естественные науки получили у нас такое значение, я перешла к натуралистам. Что вы усмехаетесь так язвительно? Вы, как Куторга, думаете, что мозгу у женщин менее, чем у мужчин? Так знайте же, что я хочу убедить вас на себе, что женщина на все так же способна, как ваш брат, мужчина.
– Убедите.
– Какой бы стороною ума прежде всего блеснуть перед вами?
– Да хоть сметливостью. Сметливость у женщин развита более других способностей.
– Извольте. У вас есть теперь в кармане книга.
– Есть.
– Видите, какая сметливость; ни вы, никто не говорил мне, что вы взяли с собою книгу, а я домекнулась.
– Как же вы домекнулись?
– По простой, логической цепи мыслей: вы пренебрегаете женским обществом; вам предстояло гулять с женщинами – вы знали, что будете скучать. «Возьму-ка с собою книжку, – сказали вы себе, – при первом удобном случае улизну куда-нибудь в сторону и расположусь под сенью струй». Ведь так?
– Положим, что так.
– Я вам скажу даже, что у вас за книга.
– Едва ли.
– Беллетристикой вы заниматься не станете; значит, это не роман. Учено сочинения также не станете читать, потому что путешествуете для развлечения и не захотите скромную жизнь туриста отравить постным блюдом учености. Книга ваша должна быть из полуученых, популярно-ученых. Но вы натуралист и выбрали, конечно, сочинение по своей части… Пари: у вас что-нибудь Карла Фохта?
Змеин не мог скрыть некоторого изумления.
– Логика у вас действительно не женская!
– Что ж, угадала? Фохта?
– Фохта.
– Покажите.
Змеин подал ей книгу.
– «Bilder aus dem Thierleben[70]», – прочла она. – Как кончите, так одолжите мне. Я давно желала прочесть это сочинение, да неоткуда было взять. В библиотеках не дают: запрещено, дескать. Студенты же знакомые хоть и обещались достать, да по обыкновению забывали вечно.
– Можете взять хоть сейчас.
– Благодарю вас.
Перелистывая книгу, Лиза остановилась на одной странице и прочла вслух:
– «Das Werden der Oraganismen hat fur mich stets einen weit grosseren Reiz gehabt, als das Bestehen derselben und der Prozess der Selbsterhaltung. Es liegt etwas stabil-Langweiliges in der Erhaltung des thierischen Organismus – in dieser doppelten Buchfuhrung, die iiber Einnahme von Nahrungsstoffen und Ausgabe verbrauchten Materiales von dem Organismus mit ermudender Gleichformigkeit gefuhrt wird, und wo sich das Haben als Fett ansetzt, wahrend das Soil sich durch Abmagerung kundgibt, und endlich ein Bankerott oder der zunehmende Wucherzins, welchen der Organismus zahlen muss, das ganze Geschaf tendigt und die Firma zu deu Todten wirft»[71].
– Остроумен, как всегда, – сказала Лиза по прочтении отрывка. – Но я не вполне разделяю вкус Фохта. Его томит монотонное прозябание земных тварей. Меня тоже. Но есть случай, где такое прозябание делается в высшей степени интересным: это если акклиматизировывать какую-нибудь животную или растительную породу. Существо экзотическое, выросшее под знойным небом юга, вы перевоспитываете для своей холодной родины, холите его, защищаете от резких влияний климата, и вот – старания ваши увенчиваются успехом: ваш приемыш перерождается на ваших глазах, и вы дарите отечеству новую породу! Жаль, что у нас в России эта статья обращает на себя еще так мало внимания. Главная трудность заключается, конечно, в натурализации животных: растение, акклиматизируясь, в то же время и натурализуется; животное же, перенесенное в другой градус широты, хотя и существует вначале с грехом пополам, как степной помещик, приехавший в столицу пожуировать жизнью, – однако это не более, как прозябание, существование болезненное, от которого еще далеко до полной натурализации. Что ж вы молчите, Александр Александрович? Неужели вы не интересуетесь этим вопросом?
На Змеина красноречивый монолог экс-студентки не произвел почему-то того благоприятного впечатления, которого она обещала себе от него. Нахмурившись и надув губы, натуралист отвечал резко:
– Нет!
– Что нет?
– Нет, то есть я не согласен с вами.
– Насчет чего?
– Гм… Да хоть насчет того, что может найтись разумный человек, который возьмется акклиматизировать иноземщину ради одного плезира, без всякого вознаграждения.