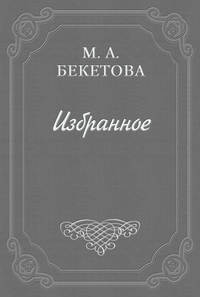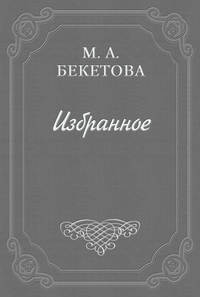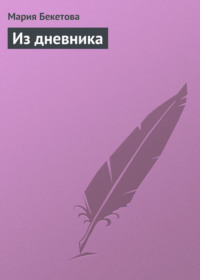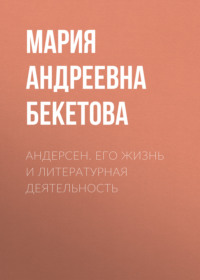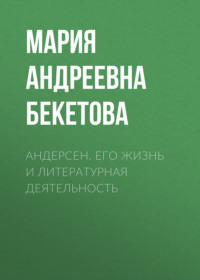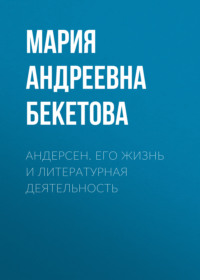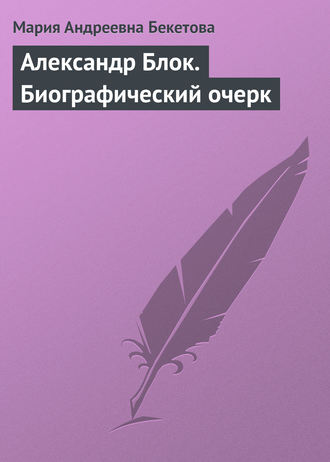 полная версия
полная версияАлександр Блок. Биографический очерк
Вскоре после приезда из Москвы у Ал. Ал. был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор А. Г. Пекелис, ныне уже покойный, тоже не сразу определил у Ал. Ал. болезнь сердца: подтвердив диагноз московского доктора, он нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил, как психостению, т. е. психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он недолго блуждал впотьмах. При первых припадках удушья и боли в груди он выслушал сердце Ал. Ал. и в конце концов вполне правильно поставил диагноз болезни, подтвержденный позднее известным профессором Троицким, ныне тоже покойным. По определению Пекелиса, у Ал. Ал. было воспаление обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психостении. Прошло около трех недель с первого припадка, прежде чем Пекелис окончательно убедился в том, что у Ал. Ал. настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто бывают обманчивы[270].
Болезнь начала быстро развиваться. Доктор Пекелис, который навещал А. А. ежедневно, предписал ему полный покой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы не утомлять его сердце разговорами и впечатлениями. Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы, что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. В начале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывали Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно, и потому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье Ал. Ал.
Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться.
Доктор Пекелис пустил в ход весь арсенал противосердечных средств. Доставать лекарства было нелегко, но на помощь пришли друзья, которые наперерыв предлагали свои услуги больному. Друзей этих оказалось великое множество. Между прочим, выказали самое теплое участие все служащие Б. Др. театра, особенно Гришин, Лаврентьев и Бережной. Со всех сторон предлагали денег, доставляли лекарства, посылали шоколад и другие сласти. Люб. Дм. отказывалась от денег, так как их было достаточно, но приношения и услуги всегда принимала с благодарностью. По части еды она доставала все, что можно было достать и что нравилось Ал. Ал. В доме была расторопная и ловкая прислуга, которая оказывала существенную помощь. Ал. Ал. кушал ветчину, жареных цыплят, свежую рыбу, икру и уху, бифштексы, яйца, разные пирожки, молоко, ягоды, любимые им кисели из свежей малины и огурцы. Булки, сахар, варенье, шоколад, сливочное масло не сходили с его стола. Ему не готовили сладких блюд, потому что он их не любил. Но ел он, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам.
Я нарочно привожу все эти подробности, чтобы разрушить басню, которую досужие русские эмигранты сложили о голодающем Блоке, кормимом из милости каким-то иностранцем. Все, что можно было сделать для него в Петербурге, делалось. Люб. Дм., разумеется, перестала играть со времени болезни мужа, она числилась в труппе, но не выступала.
Энергичное лечение Пекелиса принесло некоторый результат. Ал. Ал. стало значительно лучше, так что он ободрился и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце.
В периоды улучшения Ал. Ал. развлекался работой. Так как Пекелис с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетворительны, Ал. Ал. стал готовиться к отъезду за границу. Он рассчитывал, что, поехав в санаторию в сопровождении жены, он пробудет там месяца два, поправится и вернется домой, а Люб. Дм. уедет в Россию еще раньше его, как только лечение пойдет на лад, и приищет более просторную и удобную квартиру с ванной, на которую и переедет до его возвращения. Ввиду этого он стал разбирать свой архив, как делал не раз и прежде, то перед Новым годом, то осенью или весной. Он любил такую сортировку своих бумаг и основательную уборку с уничтожением ненужного материала. Теперь он отобрал при помощи Люб. Дм. все, что находил лишним, сделав тщательные записи того, что осталось и что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукописи и письма, привел в порядок все остальное и закончил перечень своих работ, начатый несколько лет тому назад… Последняя запись его гласит: «Окончен карточный каталог моих русских книг». Сбоку приписка: «Запись. 25 мая». Во второй половине мая, после облегчения, последовавшего за первым припадком сердечной болезни, и позднее, во все периоды улучшения, Ал. Ал. занимался писанием тех отрывков в стихах и прозе, которые напечатаны в посмертном издании поэмы «Возмездие».
После временного облегчения, наступившего в июне, болезнь опять наложила на Ал. Ал. свою жестокую руку, и все началось сначала. 17 июня был созван консилиум из трех врачей: Пекелиса, профессора Троицкого и специалиста по нервным болезням Гизе. Последний ничего не понял в болезни Ал. Ал., но Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза, – он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли Блока». Мнение это Пекелис до времени скрыл от близких больного. Лечение Пекелиса Троицкий нашел вполне правильным, и оно продолжалось по-прежнему. Решено было увезти больного в санаторию за границу. Начались хлопоты о разрешении ехать в Финляндию, которые взял на себя Горький. Не скоро, очень не скоро получено было разрешение. Когда оно пришло, Ал. Ал. был уже настолько слаб, что немыслимо было трогать его с места. Но в сердечных болезнях всегда бывают неожиданности: внезапно могло наступить улучшение, которым можно было бы воспользоваться, чтобы перевезти больного, но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о разрешении для Люб. Дм. Но оно пришло уже после смерти поэта.
Во все время болезни Ал. Ал. за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург, но Люб. Дм. и доктор Пекелис уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного.
Ал. Андр. вообще имела свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, а ее нервная болезнь, которая с годами не ослабевала, а все усиливалась, могла очень серьезно повлиять на такого больного, как Ал. Ал. По словам доктора Пекелиса, который не раз говорил с Ал. Андр., давая ей советы по случаю ее сердечных припадков, ее нервная болезнь была такого же типа, как болезнь Ал. Ал.; он был поражен сходством того, что говорили ему сын и мать во время его докторских посещений.
Люб. Дм. удерживала Ал. Андр. в Луге до последних дней жизни Ал. Ал. Мать подчинялась этому требованию из страха нарушить покой больного сына. Но всякий поймет, чего ей это стоило. Только раз рискнула она приехать в Петербург. Это было в июне и еще до созыва консилиума. Уже тогда мать была поражена страшной переменой, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым сердцем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе его болезни.
Ал. Ал. написал ей всего четыре письма со времени своего возвращения в Петербург. В первом от 12 мая он описывает свое пребывание в Москве и упоминает о том, что выгодно продал драму «Роза и Крест» театру Незлобина, который собирался поставить ее в сентябре[271], причем переговоры шли через Станиславского. Пишет он также про свое здоровье и про то, что сказал ему московский доктор:
«…Дело вовсе не в одной подагре[272], а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен… Никаких органических повреждений нет, а все состояние, и слабость, и испарина, и плохой сон, и пр. – от истощения. Я буду здесь стараться вылечиться. В Москве было очень трудно, все время болели ноги и рука, рука и до сих пор болит, так что трудно писать, читал я, как во сне, почти все время ездил на автомобилях и на извозчиках… Сейчас ноги почти не болят, мешает главн. обр. боль в руке, слабость и подавленность».
Второе письмо написано карандашом в постели после первого приступа болезни, третье тоже написано карандашом во время второго, самого сильного припадка, когда он начинал проходить (28 мая). Последнее, от 4 июня, написано пером, но сильно измененным почерком: «Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и т. д.».
После этого он совсем перестал писать. Ал. Андр. извещали о ходе болезни доктор Пекелис, Е. Ф. Книпович и Люб. Дм.
Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Люб. Дм. пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое-нибудь скороспелое блюдо, и давала ему поесть.
За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно-апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления, между прочим, отеку мозга, связанному с болезнью сердца. Психостения усиливалась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро. Слабость достигла крайних пределов.
Но ни доктор, ни Люб. Дм. все еще не теряли надежды на выздоровление. За четыре дня до смерти сына мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Ал. Ал. жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 ч. утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены. Перед смертью почти ничего не говорил[273].
Первая панихида была в 5 час. вечера. Но еще до панихиды с утра весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди. Между прочим, певец Ершов[274], живший в одном доме с Блоками, и другие соседи их по квартире. Мариэтта Шагинян[275] одна из первых принесла цветы, которые положила к телу покойного. Пришел Бенуа, Лурье – многие из тех, кто встречался с Ал. Ал. только вне его дома. Многие плакали навзрыд…
Вскоре тело поэта было засыпано цветами. Погода была жаркая, все окна открыты. Большой Драматический театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному: его обили глазетом и кисеей. В числе присутствовавших был артист Монахов, которому еще так недавно произносил свое приветствие усопший поэт. Пришли литераторы, пришла, разумеется, и Вольфила с Ивановым-Разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней, трагической смертью. Между прочим, привез роскошную корзину гортензий Ионов[276].
В то время, как тело лежало на столе, несколько художников сделали с него карандашные снимки. Лучшим из них, действительно очень хорошим, тогда как другие не удались, оказался рисунок матери Люб. Дм. – Анны Ивановны Менделеевой[277]. Он долго висел на стене той комнаты, где скончался поэт и куда перешла после его смерти его вдова. Позднее была снята маска и слепок руки покойного. Есть также и фотографии, снятые с него в гробу.
Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В числе их был и брат по духу поэта – Андрей Белый. В первую минуту забыли положить на гроб крышку; когда процессия уже двинулась и кто-то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали: «Не надо». И так и несли тело усопшего в открытом гробу до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась громадная процессия, запрудившая всю Офицерскую от дома поэта до Алексеевской ул. Гроб несли ровно и дружно, и на виду у всех было тело поэта, украшенное живыми цветами.
Отпевали его в церкви Воскресения, стоящей при въезде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным[278]. В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор Филармонии, тот же хор пел и на панихидах. Похороны были прекрасные во всех отношениях: торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографы, бесцеремонно распоряжавшиеся толпой и отдававшие какие-то наглые приказания. Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Е. А. Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашеный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов, не переводились на этой могиле свежие цветы. Близкие находили на ней чьи-то стихи, обращенные к поэту[279].
Первый, кто почтил память покойного, была Всерос. Ассоциация Пролет. Писат., которая совместно с Петрогр. Пролеткультом устроила 16 авг. вечер памяти Блока, а затем Вольфила, ближайшее заседание которой после смерти поэта было посвящено ему. Стенограмма этого заседания напечатана в книге, изданной Вольфилой[280]. Немного спустя в Вольфиле произошло второе событие, отметившее память Ал. Ал. Блока. Андрей Белый два дня читал свои воспоминания о покойном поэте. Кто имел счастье присутствовать на этих чтениях, знает, что это были дни, выдающиеся по своему значению. Андрей Белый говорил с таким вдохновением и проникновенностью, так прекрасно и выпукло очертил облик поэта в пору его светлой юности, что вся зала была потрясена и растрогана, а для нас – трех осиротевших женщин – это было живой отрадой: мы как бы вновь пережили эти прекрасные годы.
Эту книгу я писала не в одиночестве, я не могла бы довести ее до конца, если бы мать и жена поэта не помогли мне своими советами и воспоминаниями о том, что мне было неизвестно или неясно. Эта летопись жизни его написана нашей любовью.
Петроград17 июня 1922 г.Примечания
1
Указатель в настоящее издание не включен. (Прим. ред.)
2
Карп Сергеевич Лабутин (1895-после 1941) не был посторонним Блоку человеком. Он был знаком с поэтом, делился с ним книжными находками, написал воспоминания о Блоке (сохранились лишь частично). См.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 95–96.
3
Имеется в виду издававшийся А. А. Плюшаром «Энциклопедический лексикон» (СПб., 1835–1841; вышло 17 томов).
4
Туркестанский поход – ряд военных действий русских войск в Туркестане в 1864–1873 гг.; Турецкий поход – Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
5
Училище правоведения – привилегированное высшее учебное заведение в Петербурге. Л. А. Блок окончил его в 1843 г. И. С. Аксаков окончил училище в 1842 г., а К. С. Победоносцев – в 1846 г.
6
Петр Александрович Плетнев (1792–1865) – литератор, профессор и ректор Петербургского университета; Николай Иванович Греч (1787–1867) – литератор, журналист, автор наиболее известных в начале XIX в. пособий по русскому языку и истории русской литературы.
7
Бекетова Е. А. Стихотворения. СПб., 1895; Бекетова Е. А. (Краснова). Рассказы. СПб., 1896. Обе книги сохранились в библиотеке Блока (Библиотека, вып. 1, с. 27).
8
Анна Павловна Философова (1837–1912) – известная общественная деятельница, выведенная в поэме «Возмездие» под именем Анны Павловны Вревской. О ней см.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой, т. 1–2, Пг., 1915.
9
О внимании Достоевского к личности А. Л. Блока поэт писал в поэме «Возмездие» (III, 321). Свидетельство М. А. Бекетовой о намерении Достоевского сделать его героем романа является уникальным.
10
игры «по маленькой ставке» (фр.).
11
Книга писалась при жизни матери Блока.
12
Няню Блока звали Софья Ивановна Колпакова. См. о ней: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 85–86.
13
«Степка-растрепка» – рассказы для детей в стихах, выдержавшие множество изданий с 1849 по 1923 г. Отзыв Блока об этой книге см.: ЗК, с. 269–271. «Говорящие животные» – детская книга (1860).
14
Феликс Адамович (Фероль) Кублицкий-Пиоттух (1884–1970) оставил записи о Блоке (Воспоминания, т. 1, с. 82–90). Его брат – Андрей Адамович Кублицкий-Пиоттух (1886–1960). См.: Письма Блока к А. А., С. А. и Ф. А. Кублицким-Пиоттух. Публ. В. П. Енишерлова. – ЛН, т. 92, кн. 4, с. 339–369.
15
В семье Блока долго все называли Сашурой.
16
Имеются в виду Виктор Конрадович (1883–1940) и Ольга Конрадовна (в замуж. Самарина, 1887–1972) Недзвецкие; Николай Евгеньевич (умер в детстве) и Анна Евгеньевна (в замуж. Стратоницкая, 1888–1952) Лозинские. Воспоминания А. Е. Лозинской и О. К. Самариной (публ. В. П. Енишерлова) см.: Александр Блок и современность. М., 1981, с. 325–333. Об А. Е. Лозинской см. также: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 99–100.
17
Знаменитый «Энциклопедический словарь» в 86 томах, издававшийся фирмой «Ф. А. Брокгауз и А. Е. Ефрон» в 1890–1907 гг.
18
Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух (1860–1920) впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта. См. о нем далее в воспоминаниях М. А. Бекетовой, а также ЛН, т. 92, кн. 3, с. 91–92. Мария Тимофеевна Блок (урожд. Беляева, 1876–1922) и ее дочь Ангелина после смерти А. Л. Блока были хорошо знакомы с поэтом. См. в его письме к жене от 9 декабря 1909 г.: «Мария Тимофеевна удивительно простая и добрая» (VIII, 299).
19
Виктор Викторович Грек (1880–1914) – приятель Блока по детским играм.
20
В первом издании книги фраза имела продолжение: «…этим не интересовался, как и никакими семейными отношениями… Это у него осталось на всю жизнь».
21
Вячеслав Михайлович Грибовский (1866–1924), помимо своей научной и педагогической карьеры, был также поэтом и беллетристом. Следует отметить, что, учась в университете, Блок участвовал в руководимых им практических занятиях по истории русского права. В указании даты поступления Блока в гимназию М. А. Бекетова ошибается: он поступил во второй класс Введенской гимназии в 1891 г.
22
Интерес к Овидию Блок сохранил надолго. Он рецензировал переводы его стихотворений (V, 523, 578–581), в университете сам переводил Овидия. См.: Г. Г. Анпеткова, К. Н. Григорьян. Студенческие работы Блока об античных авторах. – «Русская литература», 1980, № 3, с. 200–214; Д. М. Магомедова. Блок и античность (к постановке вопроса) – «Вестник МГУ», серия 9. Филология. 1980, № 6, с. 42–49; А. Блок. Перевод «Amores», III, 5 Овидия. Публ. Д. М. Магомедовой. – Там же, с. 50–51.
23
Леонид Федорович Фосс (1878-?) и Николай Васильевич Гун (1878–1902). См.: А. Конечный, К. Кумпан. Александр Блок во Введенской гимназии. – ЛН, т. 92, кн. 4, с. 597–619.
24
Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871–1913) – знаменитая эстрадная певица. Об отношении Блока к ней см.: С. Волков, Р. Редько. А. Блок и некоторые музыкально-эстетические проблемы его времени. – В кн.: Блок и музыка. М., 1972, с. 113–114.
25
Н. Гуну посвящено стихотворение «Ты много жил, я больше пел…» (I, 5), а его памяти – стихотворение «На могиле друга» (I, 485; ср. I, 670).
26
См.: М. И. Дикман. Детский журнал Блока «Вестник». – ЛН, т. 92, кн. 1, с. 203–221.
27
Платон Николаевич Краснов (1866-?) – известный литератор, сотрудник многих журналов.
28
Отсылка к классическому произведению древнеримской литературы «Комментарии о галльской войне» Гая Юлия Цезаря, изучавшемуся в гимназическом курсе латинского языка.
29
Из стихотворения Пушкина «Пробужденье» (1816).
30
В первом издании следовала фраза: «Я переписала это стихотворение, сохранив все знаки препинания, тоже характерные для того времени». Стихи Блока из «Вестника» перепечатаны: Александр Блок. Полное собрание стихотворений в 2 томах, т. II, Л., 1946, с. 345–354. Прозаические произведения – см. указанную в примечании 8 статью.
31
Василий Пантелеймонович Далматов (Лучич, 1852–1912) – драматический артист, которого Блок «обожал» (Воспоминания, т. 1, с. 112). См.: Т. Родина. А. Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 99–101. Мамонт Викторович Дальский (Неелов, 1865–1918) – драматический артист.
32
Ксения Михайловна Садовская (урожд. Островская, 1860–1925). См. о ней: Л. Жаравина. Письма А. А. Блока к К. М. Садовской. – Блоковский сборник, вып. II, с. 309–324. Отношения Блока с Садовской М. А. Бекетова идеализирует.
33
Рокамболь – цикл романов французского писателя Понсон дю Террайля «Похождения Рокамболя».
34
Наиболее подробно о жизни Л. Д. Блок можно составить себе представление по книге Александр Блок. Письма к жене (ЛН, т. 89). М., 1978. Ее воспоминания «И быль и небылицы о Блоке и о себе» – Воспоминания, т. 1, с. 134–187 (не полностью).
35
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – поэт и философ, сын историка С. М. Соловьева (1820–1879).
36
Из стихотворения «Сегодня шла Ты одиноко…» (1901).
37
«Новая жизнь» (ит.).
38
Наиболее подробные автокомментарии Блока к «Стихам о Прекрасной Даме» сохранились в его дневнике 1918 г. (VII, 338–350).
39
Из стихотворений «Там – в улице стоял какой-то дом…» (1902) и «Я долго ждал – ты вышла поздно…» (1901).
40
См. его письмо от 8 октября 1901 г. (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 258–259).
41
Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944) – профессор Петербургского и (с 1921) Варшавского университетов. Об увлечении Блока его лекциями см.: ЗК, 71.
42
Черновой вариант зачетного сочинения «Болотов и Новиков» опубликован (А. Блок. Собрание сочинений, т. 11, Л., 1934, с. 9– 80). См. также: И. В. Владимирова, М. Г. Григорьев, К. А. Кумпан. А. А. Блок и русская культура XVIII века. – Блоковский сборник, вып. IV, с. 27–115. Материалы об учебе Блока в университете см.: Л. А. Иезуитова, Н. В. Скворцова. Александр Блок в Петербургском университете. – Очерки по истории Ленинградского университета, т. 4. Л., 1982, с. 52–87; К. А. Кумпан. Александр Блок-выпускник университета. – Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 42, 1983, № 2, с. 163–178.
43
4 марта 1901 г. полиция избила и арестовала многих студентов из числа устроивших демонстрацию на площади Казанского собора. Однако эпизод, рассказываемый М. А. Бекетовой, произошел за два года до этого, в марте 1899 г., после первой всероссийской студенческой забастовки.
44
Павел Иванович Георгиевский (1857-?) – профессор политэкономии. Рассказ самого Блока об этом эпизоде записан в дневнике 1918 года (VII, 340–341). См. также: Очерки по истории Ленинградского университета, т. 4. Л., 1982, с. 56.
45
О месте этих стихов в творческом сознании Блока см., напр.; Анат. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Изд. 2-е, доп. Л… 1973, с. 85–89.
46
молодой премьер (фр.).