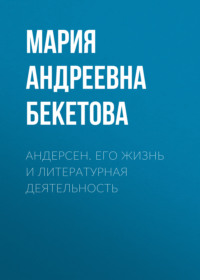полная версия
полная версияШахматово. Семейная хроника
Фед<ор> Дм<итриевич>, как человек легкомысленный, но добрый, был огорчен и поражен тем, что дело приняло столь трагический оборот, но исполнил просьбу Соф<ьи> Андр<еевны>. Он принадлежал к числу тех немногих мужчин, которые часто увлекаются, но никогда не женятся. Следует заметить, что он был более привлекателен для женщин как мужчина, чем его приятель Майков, но, несомненно, уступал тому же в уме и талантах. Мне и тогда уже казалось, что Майков гораздо интереснее его в разговоре. Впоследствии Батюшков развился, но в то время ему было очень далеко до Майкова, который в дальнейшем оказался талантливее и значительнее его.
После эпизода с бальной запиской Софа поплакала и погрустила, но к весне чуть ли не того же сезона утешилась. За ней стал ухаживать Адам Феликс<ович> Кублицкий, красивый и энергичный брюнет живого характера, сильно обрусевший поляк и неусердный католик. Он был юрист, дружил со своим земляком Недзвецким (оба были родом из Витебска и учились в тамошней гимназии) и жил на учительское жалованье, но всегда хорошо одевался. Последнему обстоятельству, т. е. хорошему и модному костюму, Софья Андр<еевна> придавала значение. Кстати замечу, что Блок, характеризовавший эту сестру Бекетову метким двустишием:
Старшая томитсяИ над кипсэком мужа ждет… —в дальнейшем изменил ее облик, дав ей в мужья лохматого студента с демократическими наклонностями. За такого Соф<ья> Андр<еевна>не только никогда бы не вышла замуж, но и смотреть на него бы не стала. Итак, к весне завязался роман между сестрой Софой и Ад<амом> Фел<иксовичем> Кублицким, что кончилось сватовством и браком к тому времени, как Ад<ам> Феликс<ович> с успехом кончил курс и был оставлен при университете у талантливого криминалиста проф. Фойницкого. В то время, т. е. в начале 80-х годов, Ад<ам> Фел<иксович> еще не забыл Мицкевича, радовался, когда убили Александра II-го, назвав его тираном, и вообще не был чужд политике. Впоследствии он поправел, но всегда хорошо помнил родной язык, который совершенно забыли его военные братья. Ученую карьеру он скоро бросил, не написав даже магистерской диссертации, и, пробыв короткое время пом. прис. пов. адвоката Люстига, оставил и это занятие и сделался мало-помалу отменно честным и рьяным чиновником. К службе своей относился он с редким интересом и рвением, основательно изучая те отрасли, которыми приходилось ему заниматься. Так, будучи уже в зрелых годах директором лесного департамента, он самолично изъездил и исходил все леса России, совершенно загоняв подведомственных ему чиновников, не обладавших ни его здоровьем, ни интересом к делу. Он энергично преследовал воровство, с бешенством выгонял людей, пытавшихся дать ему взятку, а в своем департаменте – в каком бы ведомстве он ни служил – проводил столько времени, что, когда он опаздывал домой к обеду, его младший сын, глухонемой Андрей, которого выучили говорить по губам, говорил обыкновенно: «Бедные папины советники». Его работоспособность и любовь к делу были совершенно исключительны, причем основательные его познания в юридических науках и, в частности, в законах придавали его деятельности особую ценность.
В Шахматово Ад<ам> Фел<иксович> приезжал не раз еще женихом. Помню одно лето, когда отец мой и старшая сестра Катя были за границей, а Ал<ександра>Андреевна еще в Варшаве, Ад<ам> Феликсовиче приехал в Шахматово вместе с Недзвецким. Тогда же гостила у нас одна из моих подруг Леля М. Это была очень полная девушка, отличавшаяся томной грацией и некоторой театральностью манер, которая была у нее врожденная, но многим казалась фальшивой. Она была милая, умная и ласковая девушка, очень привязчивая и постоянная в своих чувствах, но актерская среда среднего пошиба, в которой она вращалась (ее дядя был второстепенный артист Александрийского театра), а также наследственная в их семье страсть к актерству, приучили ее к рисовке, которая ее портила. Она бы сильно выиграла в нашем обществе, если бы в ней было побольше простоты и поменьше претензий. Между прочим, будучи действительно нервной, она очень этим рисовалась, считая, что так интереснее, и не подозревая, что сдержанность была бы ей больше к лицу. Помимо этих слабостей, она была очень мила. Мы с ней сдружились еще с гимназии, она стала бывать у нас очень часто, ее полюбили и сестры мои, и родители. Никто из моих подруг, которых у меня было несколько, не был так близок к нашей семье, как она. В Шахматово она приезжала много раз. В числе молодых людей, побывавших в Шахматове, были граф Мусин-Пушкин, который так настойчиво ухаживал за Верой Л., но ее он в Шахматове не встретил. Сколько я помню, он главным образом проводил время с нашей матерью, которая после его отъезда изобразила свои разговоры с ним в юмористической форме. Самое выдающееся событие во время его пребывания в Шахматове было то, что он страшно напугал нашу горничную, пришедшую в комнату, где он спал, с намерением вычистить его сапоги и платье. Она с ужасом рассказывала, что в углу стояла нога. У бедного графа одна нога была сухая или с другим каким-то дефектом, и он снимал на ночь свой аппарат. Этим недостатком и объяснялась его странная походка. Вообще он у нас, что называется, не привился: что-то в нем было пресное, чего мы все не полюбили. А, впрочем, мы были в то время ужасные насмешницы и, легко подмечая смешные стороны, не замечали за ними серьезных достоинств, которые, несомненно, были у Мусина-Пушкина. Он не был ни талантлив, ни оригинален, но занимал впоследствии место попечителя Уч. Округа в Ленинграде, показал себя с хорошей стороны, т. к. был человек просвещенный и гуманный.
Леля Мазурова
Кажется, мы познакомились с ней как раз в том году, когда наша семья переехала в ректорский дом и начались наши многолюдные субботние вечера. Ей было в то время около 16-ти лет. Ее нельзя было назвать красивой, но она была привлекательная. В своем кругу она очень нравилась, но у нас ей вначале не повезло. Я думаю, что тут играла большую роль ее манера себя держать, а также и то, что она не освоилась в нашей среде и чувствовала себя не свободно. За ней никто не ухаживал. А так как все барышни, часто нас тогда посещавшие, неизменно влюблялись в кого-нибудь из студентов, то эта участь постигла и Лелю… Но роман ее был неудачен. Как водится, Леля изливала мне все свои чувства, и я была ее верной и сочувствующей конфиденткой. Во время ее ночевок у нас после субботы мы проводили полночи в разговорах о том, можно ли ей надеяться на взаимность и «если нет, то почему», как значится в какой-то современной анкете, но Леле нравилось быть несчастной, и она все время как бы играла роль безнадежно влюбленной, но молодость все же брала свое, и, несмотря на все свои страдания, Леля часто от души веселилась, особенно если к нам присоединялась веселая и беспардонная сестра моя Ася, с которой трудно было выдержать меланхолическую нотку. В то время она уже отдохнула от страшных впечатлений своего брака, а с Лелей очень сошлась. В Шахматово Ольга Алексеевна приезжала много раз. Одно лето выдалось на редкость жаркое. Помню душные ночи и горы великолепной клубники, которую мы поедали в огромном количестве и просто не знали, куда ее девать, тем более что как раз в это время заболела мать, а у нас были гости, и поэтому никто не варил варенье. Мать лежала в жару в своей комнате, мы вызвали со станции земского доктора и ухаживали за ней, как умели. Как раз в это же время приехал жених сестры Софьи Адам Феликсович и его приятель Недзвецкий. Сестре приходилось и хозяйничать, и наблюдать за лечением матери. Мы с Лелей, конечно, ей помогали, но все же ей приходилось часто уходить от жениха. Но она все-таки находила время уединяться с ним под сень шахматовского сада, и их можно было заметить в нежном дуэте на дерновой скамейке в конце нижней дорожки. Когда матери стало лучше, начались общие прогулки молодежи по лесам и лугам. Помню несколько походов на Малиновую гору за грибами, в Праслово на полянку и т. д. Посещение Лели в это лето было неудачное, т. к. у ней разболелась нога, она хромала, и это сильно мешало ей во время прогулок, приходилось то помогать ей перебираться через канавы, то переходить по кладкам через ручей. Мы с сестрой Софой с легкостью преодолевали все эти преграды, ей же было это особенно трудно при ее грузной фигуре. Но это было единственное лето, когда моей подруге не посчастливилось. В другие разы все шло гладко, и мы особенно весело проводили время.
Семья наша имела хорошее влияние на Лелю. С годами она заметно утратила свою театральность и стала гораздо проще, а потому и милее. У нас же научилась она более к лицу причесываться и одеваться. Потом она как-то развернулась и стала гораздо живее и веселее. Тут появились, разумеется, и поклонники, с которыми она очень удачно и непринужденно кокетничала. Одно из милых воспоминаний этого времени – это ее отношение к двухлетнему Саше Блоку, с которым она по целым часам просиживала у окна, выходившего на Неву. Саша стоял на подоконнике, а Леля ждала вместе с ним то полуденную пушку, то хриплый свисток буксирного парохода «Николая», который появлялся всегда в одни и те же часы, и Саша говорил при этом, что он сморкается.
Когда Ольге Алексеевне было лет 20, она уехала в Кронштадт вместе с родителями. Отец, занимавший место экзекутора в Петербургской таможне, отличался необычайной честностью (редкая черта в его звании). Прослужив много лет в этой должности, он был переведен в Кронштадтскую таможню, где тоже имел казенную квартиру и довольно скромное жалованье. Тут моя Леля расцвела окончательно. Она имела большой успех среди моряков, танцевала и играла на любительских спектаклях в Морском собрании и вообще очень веселилась. Поклонников было несколько. За ней ухаживал, между прочим, и не на шутку поэт Надсон. Но она вышла замуж не за него, а за солидного Николая Алексеевича Мазурова, который познакомился с ней, снимая комнату у содержателей того пансиона, в котором она преподавала. Подобно некому Вертеру уже зрелого возраста, Николай Алексеевич пленился девушкой, которую он увидел, окруженной детьми.
Ольга Александровна очень любила детей и имела особый дар ласково, но твердо руководить их занятиями и оживленно и весело забавлять их в часы досуга. Николай Алексеевич сам чрезвычайно любил детей и поэтому сразу был очарован этой милой и женственной наставницей с пышной фигурой и красивыми глазами. Он был значительно старше своей жены, но оказался как раз подходящим ей мужем, так как нежно любил ее и детей и легко переносил ее причуды, которых при всех ее добродетелях у нее было немало. Сама же она до такой степени любила и берегла своего мужа, что даже мешала ему иногда есть, беспрестанно спрашивая его за обедом – не болит ли у него что-нибудь, не имея оснований этого опасаться. Ольга Александровна была очень любящей, но властной женой. Несколько лет Мазуровы прожили в Ленинграде, где Николай Алексеевич занимал какую-то скромную должность. Здесь родился у них первый сын, который на третьем году жизни умер от молниеносной скарлатины. Это было большое горе для обоих родителей, особенно для Ольги Александровны. Вскоре после этого случая Николай Алексеевич переселился с женой своей в Тверь, где получил место инспектора судоходства. Здесь Мазуровы прожили много лет. Николай Алексеевич был честнейший и ревностный служака и добрейший человек, которому многие обязаны были своей поддержкой. Жалованье он получал изрядное, жизнь в Твери в то время была очень дешевая, и поэтому Мазуровы жили довольно широко. Дом их, несмотря на скромное положение Николая Алексеевича, был один из самых приятных в Твери. У них бывали все, начиная от губернатора и кончая скромными обывателями. Они были радушные и милые хозяева-хлебосолы, а Ольга Александровна сделалась светской, но милой провинциальной дамой, которая оживляла тверское общество и принимала участие во всех, кто был с ней сколько-нибудь близок. Детей своих – мальчика и девочку – она воспитывала очень тщательно, по-своему нежно, но властно, нанимала им лучших учителей и т. д. Незадолго до революции Николай Алексеевич вышел в отставку, и семья Мазуровых, проведя некоторое время в Швейцарии, переехала в Ленинград. Эти годы были уже далеко не так благополучны, как те, что они провели в Твери. Сын их поступил в Петроградский университет, где окончил курс на юридическом факультете, и в то же время занимался по классу фортепиано в школе Ренгофа. Впоследствии он держал экзамен на свободного художника в Консерватории. Дочь по окончании курса института поступила на Высшие женские курсы, специализируясь по истории искусства, а также прошла курс танцев в одной из частных школ.
Старики Мазуровы уже покойники. После смерти мужа, которую Ольга Александровна очень оплакивала, ей жилось вообще тяжело. У нее всегда было очень плохое зрение, а последние годы своей жизни она совершенно ослепла. Живя в Петербурге, супруги Мазуровы часто у нас бывали. В первый же год их женитьбы они побывали у нас в Шахматове, причем Николай Алексеевич очень восхищался маленьким Блоком, которому было в то время года три-четыре.
В дальнейшем оба Мазуровы относились к поэту Блоку с большой симпатией и уважением.
Глава XIV
Друзья дома. Старшее поколение. Анна Николаевна Энгельгардт
Из старых друзей дома, посещавших Шахматово, вспоминаю сейчас милую, умную А. Н. Энгельгардт, жену известного в 60-х годах Александра Николаевича Энгельгардта, химика, либерала и бонвивана, который за какие-то вольные по тому времени, а по нашему до смешного невинные речи был сослан на всю остальную жизнь в свое Смоленское имение Батищево. Человек он был талантливый и энергичный и, будучи лишен всех соблазнов и прелестей Петербурга, не опустил рук и стал усиленно заниматься сельским хозяйством, сделав из своего имения образцовую ферму, которая поступила впоследствии в ведение государства. В Батищево в 70-х и 80-х годах ездили молодые интеллигенты и интеллигентки, желавшие приобщиться к народу, опроститься, заняться физическим трудом и т. д. Особого толка из этого, кажется, не вышло, но все же эти юные мечтатели помогали Энгельгардту обрабатывать его поля, ходить за его скотом и т. д.
Жена Энгельгардта за ним не последовала. Дело в том, что, женившись на ней, Александр Николаевич сразу же объявил, что брак есть только первый этап половой жизни женщины. Анна Николаевна с этим не спорила. Она была сильно влюблена в своего мужа, но, будучи женщиной трезвой и совершенно лишенной романтизма, прожила довольно счастливо со своим умным, очень мужественным и здоровым мужем лет десять, произвела на свет двух сыновей и дочь и безболезненно с ним рассталась. Она пребывала с ним в добрых отношениях, ездила время от времени в Батищево, где жила в отдельном флигеле, а в городе занялась переводами и журналистикой, чем и содержала себя и своих троих детей. Она была дочь составителя французского словаря Макарова[49], считавшегося в дни моей юности образцовым, а на самом деле плохого: там не хватает очень многих слов, и переводы слов часто неметки, так что во многих случаях лучше пользоваться толковым словарем талантливого француза Ларусса, даже и в однотомном издании. Анна Николаевна была, кажется, смолянка, она прекрасно знала французский язык, а также и свой собственный русский, была литературно и исторически образована, очень начитана и сделалась вскоре хорошей переводчицей. Она была постоянной сотрудницей «Вестника Европы», в котором переводила Золя и других французов. Работала и в других изданиях и газетах. Свою профессию переводчицы она ненавидела, называла себя литературным батраком, но добросовестно исполняла свою работу. Зарабатывала она, по-видимому, изрядно. Один Стасюлевич платил ей 75 руб. в месяц за ее 2½ листа – цена, считавшаяся роскошной в то время, а что получала она от других издателей, я не знаю. Сыновья ее получили высшее образование. Любимец ее, Николай, был филолог, пописывал стишки. Анна Николаевна, в своем пристрастии к сыну уверяла – без всякого основания, что он похож на Альфреда Мюссе, и вообще его обожала. Он тоже любил ее, у них были общие вкусы и воззрения. Анна Николаевна не разделяла либеральных идей своего мужа и, не интересуясь естественными науками, тяготела к литературе и к музыке. Таков был и сын ее Николай, после которого остался томик слабых стихов, несколько исторических романов патриотического направления и история русской литературы. Сын Михаил Александрович был совершенно в другом Роде. Он был естественник и то, что в то время называлось радикалом или красным, а жил, как и мать, переводами. Переводил хорошо, между прочим, недурно справился с таким труднейшим переводом, как «Саламбо» Флобера. На мой взгляд, он был гораздо симпатичнее Николая, но мать была к нему равнодушна.
Дочь Вера была некоторое время в частной гимназии Спешневой, учась в одном классе со мной. Это была румяная, тяжеловесная, очень здоровая девочка, прямодушная и простая. Но как-то вскоре ее взяли из гимназии (это совпало с арестом ее отца), и она так и не кончила своего образования, а впоследствии уехала в имение к отцу и так там и осталась. Я видела ее раз в Петербурге уже взрослой – красивой и рослой девушкой. Она была молчалива и очень замкнута. Думаю, что судьба ее не удалась, но ничего больше о ней не знаю.
Но вернемся к Анне Николаевне. В детстве я ее смутно помню. В 60-х годах она имела облик своего времени. Будучи очень высокой и в меру полной, она одевалась в черные платья наипростейшего покроя, напоминавшие подрясник, и стригла волосы[50]. Очки, которые она всегда носила по крайней близорукости, еще дополняли этот облик. У нее было приятное лицо с нежной кожей, маленькие изящные и очень холеные руки. Позднее она отрастила волосы и стала более тщательно одеваться, хотя никогда не молодилась. У нее были дружеские, хотя и неблизкие отношения с моими родителями. Но по мере того как подрастали мои сестры и я, отношения становились все ближе и теплее. Анна Николаевна подружилась с тремя из нас – с Катей, Алей и со мной. С сестрой Софой она была дальше. Мы три сошлись с Анной Николаевной главным образом на литературе да и вообще как-то подошли друг к другу. Ей было тогда, вероятно, за 40, а нам– 16, 18 и 20, что-то в этом роде. Ко всем нам Анна Николаевна относилась по-особому и всем дала свои прозвища. Особенно она любила Катю и называла ее «русалкой» – вероятно, за переменчивые глаза и насмешливый нрав. Сестру Алю она называла «перлушек», а меня – «средневековая». Должна признаться, что последнее название было довольно метко, так как мой романтизм и мечтательность были наиболее сильно выражены. Анна Николаевна проводила с нами целые часы, до упаду хохоча над Катиными остроумными рассказами и беспрестанно снимая и вытирая свои очки от слез, набегавших на глаза от смеха. Не раз бывала она на наших субботах в ректорском доме и очень интересовалась победами сестры Кати. Ей очень понравился Катин поклонник Валерий Николаевич Майков. Она огорчалась тем, что Катя его только высмеивала, но, узнав, что он заложил часы нашей матери, которые было поручено ему отдать в починку, воскликнула в горести: «Разбиты все привязанности!» Она любила выражаться цитатами из наших писателей. В те времена (70-е годы) в нашем кругу считалось чудовищным заложить, хотя бы и временно, чужие часы, чем и объясняется ужас Анны Николаевны. Впоследствии, разумеется, на это взглянули бы проще, да и тогда в более демократических кругах это не показалось бы странным или зазорным. Но Анна Николаевна была отнюдь не демократка, так же как и мы, дворянские дочки.
В те времена сестра Катя, которой было 22, была бойкой курсисткой Бестужевских курсов. Она носила прическу с локонами (в то время это было в моде), и у нее было очень красивое платье лилового цвета с оттенком сливы, из индийского кашемира, которое чрезвычайно шло к ее нежному цвету лица и к стройной, хотя и худощавой фигуре. Летом Анна Николаевна поехала в Батищево чуть ли не на целое лето и пригласила погостить к себе нашу Катю. Забрав какие-то интересные летние наряды городского покроя, сшитые у лучшей портнихи (сестра Катя зарабатывала в то время порядочные деньги и хорошо одевалась), она съездила в Батищево и произвела там фурор. Дело в том, что в дни ее пребывания случилось не то рождение, не то именины Александра Николаевича Энгельгардта, по поводу чего в Батищево наехало множество гостей. Нужно было соорудить обед на все это общество, а в обиходе не было ни одной кухарки. Александр Николаевич, очень любивший тонкие обеды, должен был довольствоваться бабьими пирогами и щами. И вдруг Екатерина Андреевна Бекетова, раздушенная барышня со шлейфом, в модном платье и с беленькими ручками, обнаружила кулинарные таланты и соорудила при помощи бабы-стряпухи и собственных рук настоящий барский обед на всю компанию: бульон с кореньями, гора пирожков «со вздохом» (крошечные вздутые пирожки из нежного пресного теста) с разными начинками, какое-то большое жаркое, кажется, телятина, и огромный земляничный мусс, сооруженный в огромном, начисто вымытом умывальном тазу. Александр Николаевич был в восторге и от обеда, и от его создательницы, а гости уплетали пирожки «со вздохом» и проч. Анна Николаевна была, разумеется, очень горда успехом своей «русалки», которая не преминула, конечно, и пофлиртовать, пустив в ход свои чары и распоряжаясь, как подручными, молодыми людьми, случившимися на ту пору в Батищеве в качестве сотрудников Александра Николаевича по сельскому хозяйству.
Анна Николаевна очень любила бывать у нас в Шахматове. Помню, как однажды она приехала в ужасную погоду среди лета. Выходя из экипажа и охая после долгой езды по ужасной дороге, она возгласила: «Карикатура южных зим!» Она прожила в Шахматове около недели, в урочные часы переводила какую-то книгу и часто развлекалась разговорами с тремя сестрами, причем и ей и нам было превесело. В городе она жила некоторое время по комнатам, но потом, внезапно вообразив себя Hausfrau[51], она наняла себе квартиру в три крошечные комнатки. В это время Анна Николаевна вообще увлекалась домовитостью и, между прочим, восхищалась воронами, находя, что это очень хозяйственная птица: «Карр-карр – такая славная мать семейства», – говорила она, изображая ворону. Она наняла прислугу и устроилась очень уютно. Свои комнаты она называла «наперстки», и мы не раз посещали ее в то время все три, и даже как-то раз привели к ней студента К. В. Недзвецкого, который пришел в восторг от интересной синеглазой писательницы Ламовской[52], которая была известна между нами под именем «Полосы», потому что только что напечатала в каком-то журнале интересный рассказ «Полоса», где трактовалась психологическая тема о помешательстве на какой-то полосе. Недзвецкий восхитился синими глазами этой дамы и находил, что у нее голос, как виолончель Давыдова[53]. В «наперстках» нам бывало превесело. Мы пили чай с каким-то печеньем и без конца болтали.
Будучи литературной дамой, Анна Николаевна встречалась со многими писателями: с Тургеневым, с Достоевским и другими. Она особенно ценила последнего. Из ее рассказов о нем я помню, что он говорил ей как-то: «Ведь во мне все Карамазовы сидят». Помню, как Анна Николаевна приехала к нам в Шахматово из Москвы после пушкинского праздника, на котором, к стыду нашему, никто из нас не был по причине какой-то глупой инертности. Она с восторгом рассказывала про знаменитую речь Достоевского, начинавшуюся словами: «Пушкин есть явление чрезвычайное», и призналась, что после этой речи она поцеловала Достоевскому руку[54].
В 90-х годах возник журнал «Вестник иностранной литературы», издаваемый владельцем магазина серебряных вещей по Садовой линии Гостиного двора Григорием Фомичом Пантелеевым. Почему он сделался издателем, не знаю, вероятно, кто-нибудь указал ему на выгодность этого предприятия. Он был совершенный профан в литературе, но человек чрезвычайно приятный в обхождении, за что наша мать, к которой он часто являлся, так как она по нездоровью не могла ездить в редакцию, прозвала его «благоприятный купец Пантелеев». Этот издатель, вероятно, по чьей-то рекомендации, пригласил первым редактором своего журнала Анну Николаевну Энгельгардт, она же пригласила в сотрудники сначала мою мать, а потом и меня с сестрой Александрой Андреевной. Сестра Екатерина Андреевна писала тогда оригинальные стихи и рассказы и не нуждалась в переводах. Первой работой матери в этом журнале было путешествие Стэнли «В дебрях Африки», за которой последовало множество других и при редакторе Булгакове и Трубачеве. Анна Николаевна отдавала полную справедливость живому таланту нашей матери и поощряла мои первые работы. То было золотое время нашего заработка: мать зарабатывала больше 1000 р. в год, а я 300 руб., что было вполне достаточно для моих костюмов, развлечений и других мелких расходов. Я даже купила себе в эти годы в рассрочку рояль взамен того Лихтенталя, который мать подарила сестре Александре Андреевне при ее вторичном выходе замуж. Новый рояль стоял в моей комнате, а не в гостиной, и я могла играть на нем без помех всех своих Бахов и Шуманов, непереносных для моей матери. Знакомство с Анной Николаевной окончилось, однако, плачевно. Она поссорилась с сестрой Катей, «русалкой», из-за своего сына Коли, потому что та не возмутилась по поводу фельетона Буренина, остроумно отщелкавшего в «Новом Времени» стихи Ник. Энгельгардта. Анна Николаевна была оскорблена этим фельетоном до слез и сказала Кате, что если та ей не сочувствует, она просит оставить ее дом навсегда, и сама прекратила с нами знакомство. Так и кончились наши отношения с этой милой и интересной, но слишком пристрастной женщиной.