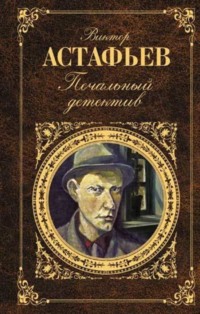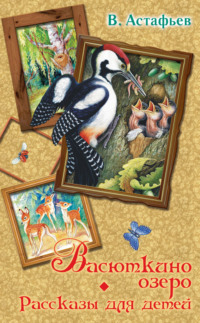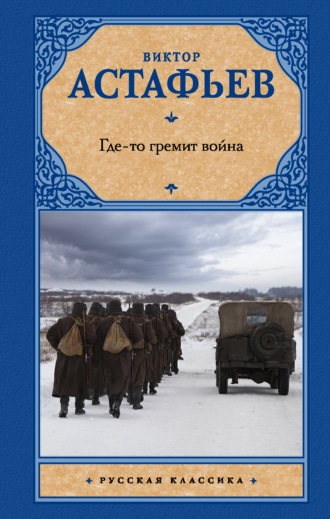
Полная версия
Где-то гремит война
Ну, о Дерикрупе говорить нечего. Он весь на виду. В артели его любили за болтовню, беспутную и широкую натуру, называли малахольненьким. Узнать поближе и расспросить его о прошлом житье-бытье как-то не догадывались, считали, должно быть, что делать это незачем, а сам о себе он распространяться не любил.
Что же касается братанов, то тут особый разговор. В каждой более или менее порядочной артели есть или должны быть вот такие здоровенные работяги, которые двое не скажут за одного, а сделают за четверых. Никакими братанами они не были. Вплоть до прихода на сплав они и не знали друг друга. Первый из них, Гаврила, родом из низовьев Енисея, из так называемых сельдюков. Второй со святым именем Азарий – из минусинских крестьян.
Когда и как подружились Гаврила и Азарий, никто точно сказать не мог бы. Но видели их всегда вместе и считали за братьев. А уж если требовались по отдельности, кликали: «братан низовской» или «братан верховской». Что же касалось лично их, то Азарий думал, что без Гаврилы он давно бы пропал, а Гаврила, в свою очередь, не смог бы представить себя без Азария, которого надо было опекать, поддерживать и при нужде с уверенностью опереться на его широкое плечо.
Пожалуй, самой незаметной и все-таки очень занимательной личностью в бригаде был Сковородник. У него тоже, как и у Исусика, имелись, конечно, и фамилия, и имя, но какие – никто не смог бы вспомнить сразу. Если Трифону Летяге требовалось записать, он всякий раз спрашивал у него об этом.
Наиболее заметной достопримечательностью лица Сковородника, как уже отмечалось, была нижняя губа, за которую он и получил прозвище. Впрочем, он не обращал на это ни малейшего внимания. Если мужики прокатывались насчет губы, он невозмутимо заявлял: «Зато, когда я хлебаю, так не каплет».
Сердился Сковородник редко и больше сердился ни с того ни с сего. В разговорах участвовал тоже изредка и если вставлял слово, то обычно невпопад. Работал Сковородник старательно, однако в азарт не входил. Стоило кому-нибудь всерьез или в шутку крикнуть: «Шабаш!», как Сковородник тут же закидывал багор на плечо, и уж никто не мог заставить его спихнуть лежащее на пути бревно. Мужики говорили, что, если у Сковородника загорится изба и он возьмется тушить ее, надо крикнуть: «Шабаш!», и он тут же перестанет лить воду.
Была у Сковородника многочисленная семья на Усть-Маре. Но он никогда о ней не вспоминал, хотя Трифон Летяга, хорошо знавший его, утверждал, что ребятишек своих Сковородник любил сильно и жену, очень работящую и бойкую, никогда не бил. А бить жен для сибиряков – занятие не только привычное, но даже модное.
Зато Исусик постоянно трещал о своей семье, о своих ребятах, которых у него было четверо, и о жене, которую он учитывал в каждой копейке и лупил нещадно за любую хозяйственную проруху. Он встревал в любой спор и бывал до глупости откровенным в иные минуты. Вот вчера вечером раскинули сплавщики портянки возле печки, думали, что она прогорела. В печке оказалась головня. Когда все уснули, головня подсохла и разгорелась. Лежащие на дровах портянки Исусика затлели, и, наверное, был бы пожар, да дядя Роман проснулся, затоптал горящие холстины, а потом тряхнул за ногу Исусика:
– Дрыхнешь, ястри тебя, пропастина, а онучи начисто сгорели.
Исусик подскочил, плеваться начал:
– Ить слышал я, слышал, что горят портянки, но думал – не мои…
Дядя Роман, не употреблявший ругательства, кроме «ястри тебя», свирепо матюкнулся после этих слов.
Исусик большой словолей и обычно заводил споры сам. Разговорчивых людей в артели мало, и потому все баталии разгорались чаще всего между дядей Романом, Дерикрупом и Исусиком. Спор начинался с божественных тем и доходил до матюков.
Дядя Роман ни в Бога, ни в черта не верил и никаких божественных книг не читал. Не прикасался к Божьим писаниям и Исусик, а только слышал разные обрывки и отдельные изречения из десятых уст. Но он отстаивал все эти истертые холщовыми мужицкими языками пророчества с ярым упорством.
Мужики подзуживали его, особенно дядя Роман, вызывали на разговор, а потом высмеивали. Дело иной раз доходило чуть не до драки, и тогда Трифон Летяга разгонял всех спать.
В тихий вечер, располагающий скорее к молчанию, а не к разговору, Исусик уселся после ужина возле барака и певучим голосом завел:
– Вот, братцы мои, какая хреновина в божьем писании есть насчет роду людского. – И, делая вид, что он наизусть цитирует, загнусавил: – «И прийде такое время, когда два человека один веник в баню таскать станут». Это значит, выродится человек, – пояснил он, – обессилет.
– Да к той поре уже все переменится: и бань-то не будет, и париться люди не подумают, бескультурье это и вред для сердца, – возразил дядя Роман, у которого было худое, изношенное сердце.
– Чо-о? – изумился Исусик. – Бань не будет? Ха-ха, значит, культурных людей вша загрызет!
– Олух! Ванные будут, души и тому подобное!.. – выкрикнул Дерикруп.
– Души! – взъелся Исусик. – Пусть бусурмане, азияты в душах-то моются. А русскому человеку баню с каменкой подай, да чтоб пар столбом. Игрушкино дело удумали – коммунизм без бани! Не признаю такого паршивого коммунизма!
– Эх ты, молотилка-колотилка, мелешь, сам не знаешь, чего мелешь, – с укоризной заговорил дядя Роман. – Таким, что в твоем писании обрисованы, если ты хочешь знать, только в душе и мыться подсильно, хлибкие-то не больно-то парятся.
Исусик наморщил лоб.
– Да, это рассужденье сурьезное… – И тут же начал спасаться: – А раз в Божьем писании есть, должно все сбыться. Писание не игрушкино дело!
– Демагог! – заключил Дерикруп. – Скажете, нет? – спросил он у мужиков.
Те согласились с ним, явно приняв незнакомое слово за какое-то ругательство.
Потом разговор перескочил на другие темы, и было рассказано множество былей и небылиц. Когда дело коснулось медицины, Исусик заявил, что вся эта медицина сплошной обман и что доктора существуют только для того, чтобы денежки выуживать у простаков. В подтверждение он рассказал такую историю.
– Вот в одном селе парень захворал. Молодой был – кровь с молоком! А потом стал чахнуть, чахнуть. Родители евонные к одному доктору, к другому, не игрушкино дело с дому работника терять. Корову стравили, коня, за куриц принялись, а доктора все свое: не можем ничего сказать определенного. А тут как раз на постой к этим крестьянам верховские обозники встали. Узнали они про всю эту ужасную жизнь парня и говорят: «Поезжай-ка ты, брат, в Минусу. Живет там в одном селе старуха, ужасть дошлая по леченью». Ну, долго ли, коротко ли колесил по свету парень, а только, значит, напал на ту лекарку и в ноги ей бух: «Спаси, – грит, – баушка, век за тебя Богу молиться стану. Всех докторов, фершалов объездил – никакого результату». Старушка эта любезно и спрашивает его: «А скажи, милый сокол, куришь ли ты табачок?» «Нет, – говорит, – не курю, милая бабуся, где уж мне, и без табаку впору на карачках ползать». – «А спал ли ты на покосе или на пашне один?» – снова спрашивает старушка. «Спал, баушка, спал, а зачем тебе это знать?» – «Тогда все ясно-понятно», – сказала лекарка и велела жарко баню натопить.
Натопили баню. Завалила старуха этого парня на полок – и ну парить, ну парить. Попарит, попарит да ковш ледяного квасу поднесет. И до того она парня искуделила, что он из сознанья вышел. А когда в себя пришел – лежит на постельке, и так-то ему легко дышится, и совсем-то он здоровый. Давай он эту старушку благодарить, и в пояс ей кланяться, и спрашивать, что это за хворь у него была. Бабушка и говорит: «Сидела у тебя в брюхе змея. А залезла она тебе в рот, когда ты спал. Если бы ты табак курил, она бы не залезла – табаку змея не переносит. А так вот заползла и сосала из тебя кровушку, тварь гремучая. Ну теперь я ее выгнала оттудова и земле предала…»
– Фу-у ты! – тряхнул головою дядя Роман. – Видал хлопуш, слыхал хлопуш, сам хлопуша, но такого, как Исусик, встречать не приходилось. Брешет, ястри его, ну просто, как пишет!
– Тебе чо, тебе все не так, – протянул Исусик, – все осмеешь, все сомнению предашь. А это истинная правда!
– Ну, если правда, тогда почему тебе змея в рот не заползает? Ты ведь тоже не куришь?
– Хэ, сказал! Я его, рот-то, трижды закрещу, прежде чем уснуть, а через крест не только змея, даже сам черт не перелезет.
Дядя Роман плюнул, со злом пнул головни. Упав в воду, они зашипели и поплыли, чадя последним дымком.
– Спать пора, – проговорил дядя Роман. – Этого остолопа не переслушаешь и не переспоришь.
Илька, у которого мураши по спине от страха ползали во время рассказа Исусика, помялся и ушел в барак, так и не поняв, правду рассказал Исусик или нет.
В бараке было душно, и братаны, а за ними и Исусик, с постели отправились спать на берег.
Когда все затихло, Илька шепотом спросил у дяди Романа:
– Дядя Роман, а ну как залезет Исусику змея в рот, что делать будем? Из одного котла едим. Может, крест-то не всегда действует?..
– Да-а, это верно, – рассудил вслух дядя Роман, и мальчишке показалось, что Дерикруп заколыхался от смеха. – А мы вот сейчас проверим, паренек, надеется на крестное знамение Исусик или нет. Посмотрим…
Приговаривая так, дядя Роман осторожно спустил с нар босые ноги, нащупал на стене легость, которую забрасывают с плота на берег во время учалки, и пошел из барака. Илька двинулся за ним, поднялся и Дерикруп, любитель занимательных сцен и острых ощущений. Сковородник уже пускал носом свист с переливами.
Осторожно приблизившись к кусту, за которым спал Исусик, дядя Роман отошел, размотал легость и кинул ее через Исусика на поляну. Потом медленно потянул и стал сматывать бечевку легости на руку.
Илька уже понял, какую проделку хочет учинить дядя Роман, и зажимал рот ладонями. Бечевка шуршала в траве, ползла по одеялу Исусика, потом скользнула по его лицу, холодная, гладкая. Послышался вопль, Исусик выскочил из-за куста и начал истово креститься.
Дядя Роман, Илька и Дерикруп, давясь смехом, вернулись в барак.
– И когда вы угомонитесь? – поднял голову Трифон Летяга. – Ты-то, дядя Роман, старый человек, а вроде дитя!
Через несколько минут появился Исусик с одеялом. Дядя Роман, позевывая, скучным голосом вяло полюбопытствовал:
– Чего вернулся?
– Да чтой-то прохладно стало, – отозвался Исусик и тут же притих.
– Змеи небось испугался?
– Чего мне змея? Мне стоит перекреститься…
Илька прыснул первый, за ним покатились Дерикруп и дядя Роман. Дерикруп даже кулаками по нарам колотил. Он всегда так самозабвенно смеялся.
Исусик слушал, слушал, видимо, догадался, в чем дело, выругался и с головой завернулся в одеяло.
Трифон, подавив смех, двинул Дерикрупа в бок и приказал:
– Да спите вы!
УхаШелковые нитки нашлись. В сундучке Дерикрупа отыскалось фасонистое шелковое кашне с красными полосками. От него отрезали две кисточки. Илька распорол угол подушки и вынул несколько рыженьких перышек. После этого он сел за стол и принялся делать обманки, или, как их еще называют, мушки. Сплавщики с любопытством наблюдали за его работой, дивились. Перышко, подрезанное и очищенное на концах, Илька продел в ушко крючка, обернул вокруг него и кончики прихватил ниткой. Эта нитка плотными рядками легла до изгиба крючка и пошла вверх, снова к ушку. Петельки постепенно образовали брюшко искусственной козявки, а растопыренное перо было крыльями.
Илька не без форса бросил на стол самодельную мушку, и она пошла по рукам.
– Этот парень, братцы, не пропадет! – заверил сплавщиков Сковородник. Он хотел добавить еще что-то, подумал и брякнул: – Одно слово, сирота!
– Фокусник! Скажете, нет? – приставал ко всем восхищенный Дерикруп.
– Ловкач! – хвалили по-своему сплавщики.
Один Исусик засомневался:
– Как на деле покажет себя эта штука…
– Покажет, покажет!
– И язва же ты, Исусик, – вполголоса сказал ему дядя Роман. Мальчишка мастерит своими руками – пусть забава, а ему радость…
– Не забава… Не забава! – услышав это, вскипел Илька и выбежал из барака. – Вот увидите! Сами увидите!.. Сами!..
Продукты вовсе на исходе, а баркас так и не появлялся. Илька все еще чувствовал себя нахлебником в артели, лишним ртом и хотел чем-нибудь пополнить артельные харчи, внести свою долю.
Илька рыбачил прямо с плота. Мушка подпрыгивала и вертелась возле бревна. Илька слегка потряхивал удилище, будто мушка беспомощно билась, попав в воду. В узлом закрученной струе раздался шлепок, и мушка исчезла. Илька снял с крючка крупного хариуса и ловко бросил его в ведро.
– Вот те и забава!
Мальчишка потчевал сплавщиков ухой очень торжественно. Он принес котел, вынул ложки, объеденные, треснутые. Перед каждым мужиком положил кусочек бересты и вывалил по разваренному хариусу, а если попадались рыбины меньше – по полторы. Потом выловил уголек из котла, плеснул через плечо и важно пригласил:
– Давайте, мужики, подвигайтесь!
Подвязанный мешком вместо передника, с мазком сажи на лбу, потный и довольный, он похаживал вокруг стола. Сплавщики наперебой запускали ложки в котел, обсасывая рыбьи косточки и хвалили Ильку.
– Постой, а сам-то ты чего не садишься? – спохватился Трифон Летяга, освобождая место на шаткой скамье.
– Ешьте, ешьте, я потом, – замахал руками Илька.
Так уж заведено в сибирских семьях: сперва накормить хозяина-работника, а хозяйке что достанется. Бригадир спросил у Ильки:
– Большая семья у бабушки была?
– Тринадцать дитёв, – сказал Илька и так внушительно, что всем стало понятно: «Тринадцать дитёв» – это не шутейное дело!
– Да-а, жизнь у твоей бабушки незряшная была, – протянул Трифон Летяга, – но подражать бабушке во всем не след. – Бригадир велел Ильке сесть за стол, разделил пополам свою рыбину.
Вечером, перед закатом солнца, Трифон Летяга с Илькой удили хариусов и снова разговаривали про дедушку и бабушку.
– Моя бабушка щуку ни за что есть не станет, – рассказывал Илька. – Хоть какую рыбу ест, а щуку ни в какую, ни Боже мой.
– Брезгует, что ли?
– Не-е, по леригиозным соображениям.
– Это как понять?
– Обыкновенно. У щуки в голове есть крест, из хряща крест, и бабушка считает, что есть рыбу с крестом нельзя, грех…
Илька замолк с таким видом, словно это бабушкино чудачество он снисходительно прощал. Помолчав, он сообщил как открытие:
– А я всякую рыбу ем. И в великий пост сметану с кринки пальцем слизал. За это бабушка меня антихристом назвала. Ага, антихристом. Она, ой, лютая, бабушка-то! Ой, лютая!
Трифон Летяга слушал Ильку, улыбаясь одними глазами. Он не мешал мальчишке вспоминать самое дорогое – дедушку и бабушку.
Вот едут Илька и дед с пашни. На телеге небольшой воз зеленой травы для скота. Конишка слабый, не может вытащить воз из лога. Дед распрягает лошадь, становится в оглобли и вытаскивает воз вместе с травой и Илькой на косогор. Потом неторопливо впрягает коня и, подъезжая к селу, роняет внуку: «В деревне-то не болтай».
– Скоро, скоро ты попадешь к дедушке и бабушке, – треплет по голове расслабевшего от воспоминаний мальчишку Трифон Летяга и отправляется спать.
Илька сидит один на краю плота, забыв про удочку, и когда вынимает ее, мушка оказывается обдерганной до того, что видна лишь нитка.
– Дрыхнул бы побольше, так и самого съели бы.
Привязав другую обманку, Илька пустил ее по течению и снова затих.
Плот причалили под скалой, которая щербатым животом нависла над рекой. Под скалой уже темно. А сверху струится еще желтоватый отсвет зари и, ударяясь в камешник на той стороне реки, высекает из него слюдяные искры. Илька засмотрелся на эту слепящую суету искорок, на вздремнувшего не ко времени молодого кулика и оттого вздрогнул, когда впереди булькнул камешек. Мальчик поднял голову и замер: на самом краю скалы, в поднебесье, проткнув рогами полотно зари, стоял горный козел. За ним на почтительном расстоянии замерли козлушки. Козел надменно смотрел на плот и на Ильку. Мальчик встал, и козы отпрянули вглубь, а козел не дрогнул и стоял все так же, подавшись грудью вперед.
Не успел мальчишка проводить стадо взглядом, как с неба в табун стрижей, спугнутых козами, ворвался сокол. Он ударил одну птичку, и на зорьке закружилась щепотка перьев. Стрижи завизжали еще яростней и ринулись на сокола, но он, спокойно, деловито помахивая крыльями, улетел в скалы.
Погасла зорька. Снизилась на реку темнота. Угомонились стрижи, спрятались в норки. Рокотала под скалой вода, и жалко поскрипывала упавшая сосенка, которую раскачивало, трепало течение, вырывая из расщелин корешок по корешку, обламывая хрупкие ветки.
Сплавщики раздевались, устраивались на нарах. В открытую дверь барака сочилась ночная стынь. Тонкими нитями в нее вплетались запахи иван-чая, багульника, ягоды черники и листвы, уже местами зажелтевшей.
На окне барака, словно заведенные, надоедно жужжали пауты и мухи. И окно, и дверной проем чуть отсвечивали от воды.
Как хорошо вытянуться, закинуть за голову гудящие от работы руки, несколько минут побыть наедине с собой и с этой тихой, обещающей крепкий сон ночью.
Но покой этот спугнула песня. Она звучала робко, вполголоса, как бы нащупывая себе дорогу в потемках. И все же голос крепчал, разрастался, отодвигал на стороны установившуюся было тишину.
Он был мальчишеский, этот голос:
Сяду я за стол да подумаю,Как на свете жить одинокому…Первый раз слышали мужики, как пел Илька, и боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил сплавщиков, будил в них воспоминания, разжигал тоску по дому, по детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел – скорее думал.
Никто из мужиков не знал, что Илька затянул самую любимую бабушкину песню.
Долгожданный баркасВся жизнь на плоту смешалась, как только показался вдали баркас. Его тянули две лошади, а за кормовым веслом стоял мужчина и покрикивал. Нос суденышка шибко зарывался в воду, оставляя после себя мелкую волну и мутную полосу. Лошади шли по колено в воде там, где нависали кусты, а миновав их, выбирались на берег и облегченно фыркали. Коновод (он же киномеханик) с закатанными по колено штанами сидел на одной лошади верхом и время от времени покрикивал во все горло. Лошади прядали ушами и спокойно делали свое привычное дело.
Завидев плот, лошади туго натянули постромки и прибавили шагу. Они знали, что здесь уж точно будет остановка и отдых.
А с плота в семь голосов раздавалось:
– Жмите, милые! Подналяжьте! Ждем не дождемся!..
На баркасе, в корме, откидным барьером был отгорожен ларек. За прилавком хозяйничала дородная круглолицая сибирячка, известная по всей реке под именем Феша. На самом деле ее звали каким-то другим именем, в котором даже буквы «ф» не было.
Здесь же находился и кассир сплавной конторы, во время рейса исполняющий обязанности рулевого. Он выдавал зарплату.
Получка везде есть получка. Даже здесь, на плоту, она была праздником. Зажав деньги в горсть, сплавщики наседали один на другого, пытаясь продвинуться поближе к Феше, и говорили ей комплименты. Даже молчаливые братаны и те широко улыбались и придумывали сказать чего-нибудь веселое.
Феша похохатывала и отшучивалась. Между делом она била по рукам тех, кто переходил дозволенные границы.
Мужчины гоготали.
– Нам только и радости, что ущипнуть тебя, Фешенька. Уж потерпи, пострадай за опчество.
– Да у вас, у леших, ногтищи-то чисто багры, вся в синяках сделаюсь, пока по реке проеду.
– Ну-к что ж, такая ваша женская планида.
– Не завлекай мужиков-то, а дело делай, смутительница, – напустился на Фешу Исусик.
Продавщица зачерпнула из мешка медной тарелкой куски сахара и, ставя гири, отрезала:
– Чего раскудахтался? За свою бабу не пугайся, она у тебя в мослах вся, а щиплют за что есть ухватиться, – и при этом Феша так повела своими пышными достоинствами, что мужики защелкали от восхищения языками: «Корпусная баба!»
– На казенных-то харчах и моя бы раздобрела, – промямлил сконфуженно Исусик, но мужики уже не обращали на него внимания.
Они просились в помощники к Феше.
– Возьми хоть до Шипичихи, я те сахар нагребать стану и крупу, – приставал к Феше дядя Роман, – а то к нам на плот переходи, в полном достатке будешь!
Дерикруп, поддерживая просьбу дяди Романа, с выражением прочел:
…Мы, дети вольные эфира,Тебя возьмем в свои края,И будешь ты царицей мира,Подруга вечная моя!..– Во-во, царицей будешь, – подтвердили мужики.
Но Феша не соглашалась быть царицей и съездила тарелкой по голове Дерикрупа, пытавшегося шепнуть ей что-то на ухо.
Шум и гомон стояли в тот день на казенке. Все были в праздничном настроении. Мужики побрились, надели чистые рубахи, купили водки. Архимандрит забился под нары и не дышал. Илька, очутившись как бы не у дел, потерянно болтался по плоту, придумывал себе занятие.
Феша, узнав про Илькины дела, расчувствовалась и насыпала ему пригоршню леденцов. Когда торговля закончилась, она села возле весел поносных, – стала расспрашивать мальчишку. У Феши был когда-то сын, но умер еще маленьким.
Спутанные лошади паслись на поляне. К вечеру овод схлынул, и они стояли, обнявшись головами, по привычке обмахивались хвостами и дремали.
Пока мужики получали продукты, пока суетились и говорили Феше всякую всячину, киномеханик натянул на двух баграх, воткнутых в бревна, полотно, которое по всем видам было когда-то белое. На это полотно уставился одним глазом киноаппарат. Для регулировки под аппарат подложили поленья, чурки, обрезки, щепки. К ручной электродинамке тянулись облезлые провода.
И вот братан Азарий крутанул динамку, послышалось жужжание, щелк, треск, и на грязно-сером полотне появилось пятно, ровно бы иссеченное полосками дождя, а затем блеклые буквы. Все разом прочли:
– «Когда пробуждаются мертвые», – и тут же закричали друг на друга: – Ша! Про себя читать!
В это время киномеханик, стоявший на чурбаке и крутивший ручку аппарата, сделал резкое движение, аппарат качнулся, из-под него выпал чурбачок, и широкий луч метнулся выше экрана, на реку, на скалы, выхватил из темноты оцепеневшую осину. «Квя! Квя! Квя!» – заполошно вскрикнул черный дятел, спавший на дереве, и заметался из стороны в сторону, пока со сна не плюхнулся в воду.
– Тьфу, так твою растак! Все чего-нибудь не слава Богу! – ругались мужики.
– Не волнуйтесь, граждане! – привычно и монотонно завел киномеханик. Сейчас устраним неполадочку. А ну, малец, – обратился он к Ильке, который завороженно глядел на машину, – подай-ка мне деревягу какую-нибудь.
– Подмена! – потребовал Азарий, все еще крутивший динамку, но подмена не торопилась.
– Покрути еще, по части, а может и больше, на брата должно обойтись, – сказали ему.
Азарий на ходу сменил уставшую руку, и динамка снова зажужжала ровно, усыпляюще.
Картина была немая, но страшно веселая – про бродягу, который ушел из родной деревни, а попы объявили его мертвым и вместо него схоронили церковное золото. Бродяга же взял и объявился. Попы испугались, давай откупаться от него, умасливать всячески.
Бродягу играл молодой Игорь Ильинский. Уже при одном появлении на экране его круглой плутоватой рожицы с дыркой на подбородке, с бровками-запятыми, нечесаной головой, где всякая волосинка норовила торчать куда ей вздумается, сплавщики хватались за животы.
После того, как бродяга залез ночью к попадье, которая была не в курсе дела и твердо знала, что он мертвый, да сел на нее верхом и потребовал свое золото, мужики уже не смогли смотреть кинокартину, а только дрыгали ногами и тыкали один другого в бока. Когда кончилась часть, изнемогающие сплавщики попросили киномеханика пошабашить, чтобы колики в боках унялись. Однако киномеханик заявил, что ему нужно еще много участков обслужить, что его ждут.
В те годы киномеханики да шоферы были «фигуры» и здорово важничали.
Картина продолжалась. Конец у нее оказался грустным. Одурманенные попами деревенские люди все-таки схватили явившегося с того света и снова, теперь уже окончательно, повезли хоронить бродягу вместе с его крестом и домовиной.
– Ат, что делают! – ругались мужики. – Вот она, темнота-то, живую душу губят…
– Но как он на попадью-то, а? Попадья-то! Ха-ха-ха!
– Не, не, постой! – кричал Исусик. – А как он купаться пришел: рубаху долой, штаны расстегнул и смотрит на меня. Я думаю: «Неужто сымет?» А он ровно угадал мои думки, покачал головой и за камыш присел. И как токо власти пропущают такое охальство?!
– А потом!.. Нет, постой ты, – настаивал Гаврила, – а потом нырнул, а там, на озере-то, неводят, и попал он в сеть. А те, ха-ха-ха, таймень, должно, подумали, ха-ха-ха, ой, не могу!..
– И заместо тайменя бац из воды человечья рожа! – визжал Исусик. – Ну, ей-богу, комедь, ну, ей-бо… Придумают же!..
Весь остаток ночи па плоту только и разговоров было, что о кинокартине. Илька тоже насмеялся до судорог в животе и пытался вставить слово. Дерикруп взялся рассказывать, как снимаются кинокартины, но его все время перебивали.