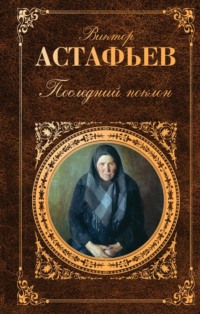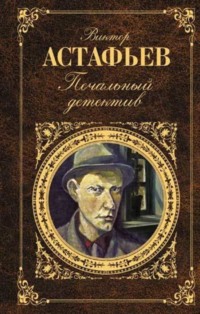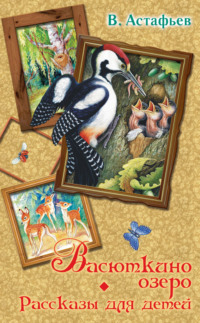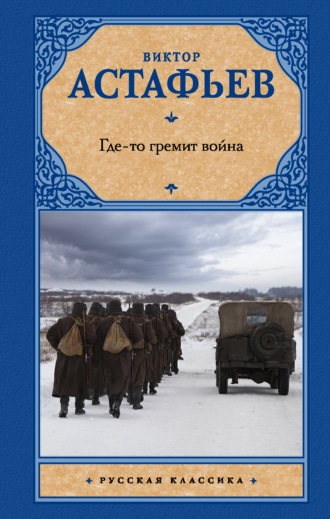
Полная версия
Где-то гремит война
– Иди поспи.
На дворе трещал мороз, и сквозь разрисованное кухонное окно падал ломающийся свет луны. Илька выбегал до ветру и слышал, как скрипели закоченевшие шипичихинские дома, видел подымающиеся из труб столбы дымов. Только из квартиры Верстаковых дым не поднимался. Дров мало, и печь топили раза два – утром и вечером, а иногда только утром. В углах и под окном в комнате поселились белые зайцы куржака. Темно в квартире Верстаковых. Нет керосину, нет еды, и дров совсем маленько. Хватит ли до рассвета?
Утром Илька надевал полушубок отца, подпоясывался. Мачеха засовывала ему сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. Впереди него черным клубком катился маленький Осман, бойко изогнув тонкий щенячий хвост. Осман тыкался во все следы носом, пробовал нюх. Щенок от знаменитой лайки, и его, несмотря на скудость с харчами, никому не отдавали.
Илька рубил тонкий сухой осинник и, взяв по две осинки под мышки, тянул их по снегу, тяжело выдыхая клубы морозного пара.
Как-то заприметил Илька небольшую сухостойную лиственницу и решил срубить ее. Лиственница не то что осина. Она горит жарко. От нее больше тепла.
«Свалю, разрублю на кряжи и стаскаю, – думал парнишка. – Теплынь всю ночь будет».
Но подрубленная лиственница завалилась на березу и не падала. Раскачивал ее Илька, раскачивал, колотил обухом, ругался матерно, – дерево ни с места. Отступиться бы мальчишке, но он человек упрямый, принялся березу рубить. Рубил, рубил, стылая березка, будто выстрелив, хрустнула, сухая лиственница сорвалась, упала Ильке на голову. Свет померк в глазах у мальчишки, все перевернулось вверх ногами и упало куда-то.
Очнулся Илька в снегу. Осман ему лицо облизывает. Повел по лицу ладонью Илька – кровь. Огляделся: на снегу, как от мышки, малюсенькие красные капли. Ничего не поймет мальчишка, стукнуло по голове, а кровь из носа прыснула.
Поднялся Илька. В голове звон, искры гасучие из глаз в снег сыплются. Шатаясь, побрел домой.
Мачеха перепугалась, завидев пасынка. Уложила в кровать, компресс на голову ему наладила и, перебарывая страх, запричитала:
– Да чтоб ты там, в больнице, и околел! Чтоб тебе отравы подали вместо микстуры. Загуби-ил! Мои молодые годы загубил! Детей своих загубил!
Мачеха любила причитать насчет своих молодых лет.
Илька к этому привык. Но тогда мачеха как-то непривычно причитала, совсем по-другому, и оттого Ильке сделалось ее жалко, себя жалко. В самом деле, у нее тоже житье незавидное. Она старше Ильки всего на девять лет. Какая же она мать? Люди говорят, что не такую бы надо брать отцу, а ей не за детного выходить бы. Да у них все не как у людей, так приблизительно думал Илька, трясясь в ознобе. Видно, долго в снегу лежал, успел застудиться.
В комнату набились люди, все больше лесозаготовители. Щупали Илькин лоб. Старший из лесорубов, которого называли десятником, сказал резонно:
– Мальчишка отойдет, прогреть его только надо. – И распорядился подвезти бедствующей семье сушину.
Лесорубы еще посоветовались между собой и принесли из конторы четыре охапки пиленых дров. Тетка Парасковья дала Ильке лекарство, выбранила его отца, мачеху и жарко натопила печь.
Она распоряжалась в квартире Верстаковых как хозяйка, и квартира эта как-то сразу преобразилась, посветлела. Мачеха виновато помалкивала и, как чужая, услужливо помогала тетке Парасковье наводить порядок в своем жилье.
Илька ночью хорошо прогрелся и уже утром возился с братишкой Митькой.
У Ильки еще несколько недель кружилась голова. Но из-за дров они больше не горевали. Лесорубы привозили каждую неделю лиственную или сосновую сушину. Однако с едой по-прежнему было плохо, и когда Илька оправился, принялся сооружать ловушку. За палку он привязал бечевку и насторожил старое деревянное корыто, под которым нащипал крошек и насыпал овса, взятого потихоньку из конских кормушек. Бечевку Илька протянул в форточку и сидел у окна, зорко наблюдая за ловушкой.
Зима лютовала. Птицы были голодны. Они стайками сбегались под корыто. Тогда Илька дергал за веревку и выбегал на улицу. Из-под корыта он вытаскивал тепленьких птичек. Сердце у них колотилось быстро-быстро. Илька без лишних рассуждений свертывал головы птичкам, потрошил их и варил суп. Без головы и без перьев птички оказывались величиной с бутылочную пробку. Но из чугунка все-таки пахло мясным, и сверху плавали светлые жиринки.
Однажды тетка Парасковья увидела, как Илька вылавливал из-под корыта птичек, догадалась, зачем он это делает, и закричала:
– Брось! Отпусти, говорю!
Илька послушно выпустил из горсти помятых пичужек и виновато потупился. Тетка Парасковья забросила в огород корыто, отняла у Ильки бечевку, хотела отстегать его, но посмотрела на понурого худого мальчишку и уронила руки:
– Не надо птичек душить, не надо! Они ведь тоже голодные… – Она смолкла на минуту и тяжело выдохнула: – Ох, и семейка! Ну что мне с вами делать? – Она отдала Ильке бечевку и сказала, чтобы Настя завернула к ней. В тот же день она подрядила Настю стирать белье лесорубам и убирать их жилье. За это мачехе установили небольшую плату деньгами, а главное давали муки, крупы, лапши и мыла.
Как-то в одной из комнат вымораживали тараканов. Воробьев и синичек залетело туда – тьма. Илька захлопнул дверь. Птички забились о стекла, как мухи. Лупи их и собирай. Илька подумал, подумал и снова распахнул дверь.
Тетка Парасковья часто просила Ильку подежурить у телефона и подкармливала его за услугу. Тетка Парасковья одновременно работала приемщицей и телефонисткой, но сидеть у телефона днем ей было недосуг. А может, то был предлог. Даром Илька ну ни от кого ничего не взял бы.
Контора располагалась в соседней комнате. Илька смотрел на блестящие звонки аппарата, с интересом и нетерпением ждал, когда зазвонит. Но звонили днем редко.
Десятник дал Ильке книгу, чтобы он не скучал, и здесь же, в конторе, Илька прочитал эту первую в жизни книгу про Робинзона Крузо. Книга была растрепана, в ней не хватало страниц и не было конца, но Илька все равно читал ее каждый день, шевеля губами, и за зиму одолел. Весной, уезжая с участка, лесорубы отдали ему эту книгу. Илька читал ее еще раз, но Митька добрался до книжки и распластал всю.
Жалко.
Да, жить им стало тогда легче. Тетка Парасковья помогала, лесорубы, совсем незнакомые люди, помогали – не дали пропасть. А то, пожалуй, каюк пришел бы семейству Верстаковых. Ведь к той поре, как стукнуло Ильку по голове (не бывает худа без добра), они уже успели съесть курицу, потому что петуху откусил голову Осман и одной курице, без петуха, было тоскливо. Ну, может быть, и не очень тоскливо, однако Илька с мачехой внушили это себе и съели курицу. И картошку съели и лосину, а объездчик, особенно его жена да мать стали куражиться.
Отец вернулся домой в начале марта. Он обвел взглядом комнату, полутемную оттого, что окна были завешаны половиками, заглянул в пустой курятник, скользнул взглядом по закутанному в тряпье Митьке и произнес, пожав плечами:
– Я же знал, что без меня вам гроб. Вы же никуда не годитесь…
Мачеха от обиды захлебнулась слезами. Илька сжал кулаки. Было бурное объяснение, в котором первый раз в жизни принял участие Илька. Он вместе с мачехой лез в драку на отца.
Собрав скудные харчишки, отец отправился с ружьем к берлоге, которую заприметил еще с осени, и принес в мешке кусок медвежатины. Назавтра он съездил с объездчиком в лес и привез остальное мясо.
Дела пошли на поправку. Илька ел жареную, пареную, вареную медвежатину, и мускулы его округлились, сделались что камешки.
Страшная зима позади. Но лучше бы уж жить в голоде, в холоде, да в ладу. Ведь всем пополам делились, каждой крошкой. Помнится, на Новый год в доме не было ничего поесть, кроме картошки. Мачеха зачем-то вечером ходила к объездчику и принесла творожную шаньгу.
Илька догадался: она ее украла.
Жена объездчика, вынув из печи листы, ставила их обычно на ларь возле дверей. Мимоходом можно взять шаньгу. Мачеха взяла и отдала ее Ильке. Она хотела, чтобы мальчишка что-нибудь вкусное съел в праздник.
МатьНо отчего же изменилась мачеха потом? Должно быть, сделала она какую-то ошибку, неправильно распорядилась своей молодостью и вот злилась, срывала душу на Ильке, если не было дома отца. А когда возвращался отец, начинались скандалы и жить становилось еще тяжелей. Мачеха и отец кляли друг друга, а Илька чувствовал себя в чем-то виноватым, лишним. Потом они принимались драться. Отец как-то страшно избил Настю. Ладно, до суда далеко, посадили бы его в тюрьму.
Да-а, все у взрослых сложно, непонятно. Вот, к примеру, зачем мачеха всегда поддевает покойницу мать? Утонула мать давно, и могила ее крапивой заросла, а мачеха ее тревожит. Илька не может этого стерпеть. Если его обижают, куда ни шло. Но мать…
И он не дает. Молотком, топором, чем угодно ударит, обороняя самое дорогое, что хранится в душе. Не тронь! Не дам! Мое, и все тут. Больше у меня с собой ничего нет.
Илька любил видеть мать во сне. Он плохо помнил мать, и она всякий раз виделась ему по-разному. Но вот один день и запах земляники он запомнил на всю жизнь. Если он закрывал глаза, события этого дня проходили перед ним со всеми подробностями и отовсюду наплывал земляничный запах.
Это было накануне того дня, как уйти матери навечно. Они отправились на увал за земляникой. Мать сказала, чтобы Илька старался и набрал бы полную кружку земляники. А потом она поплывет на лодке в город и отдаст землянику отцу. Отец в ту пору сидел в тюрьме, а Ильке говорили, что он в больнице. Когда они возвращались домой, дорогу им пересекла черная змея. Мать прижала к себе Ильку и, провожая глазами медленно уползающую гадюку, прошептала: «Господи! Не к добру!»
Спать они легли поздно, и всю ночь чудно пахло в избе земляникой.
Рано утром, да, это было совсем, совсем рано, его разбудили. У Ильки слипались глаза, и потому, наверное, он и не помнит лица матери, со сна-то не разглядел ее как следует. Рано утром, когда еще сквозь щелястые ставни чуть просачивался синеватый рассвет, мать наклонилась над Илькой и позвала: «Сыно-ок!» Мальчик через силу разлепил ресницы и обхватил горячими руками ее шею. И, словно чувствуя, что они прощаются навсегда, женщина, не приученная к нежностям, крепко притиснула сына, заглянула в лицо и стала жадно целовать в щеки, в нос, в ухо. А потом опомнилась. «Что это я? – сказала и деловито поправила на голове платок. – Ну, пойди запрись и спи, а я гостинцы поплавлю отцу».
В прохладных сенцах она подняла котомку. От котомки доносило ягодой земляникой. Поцеловала Ильку крепко еще раз.
Губы матери тоже пахли земляникой.
Илька вернулся в избу, нырнул в теплую постель. И казалось, только закрыл глаза, в дверь забарабанили. Илька вскинулся, огляделся. За дверью слышался хриплый, надорванный голос бабушки:
– Иленька!.. Илюшка!..
Илька откинул крючок, и бабушка с перекошенным ртом, с растрепанными волосами упала к его ногам, ткнулась в колени, пытаясь что-то сказать, но вырывалось у нее только:
– Ой! Ой! Лизавета-а! Лизавета-а-а! Касатушка-а-а!
Илька ничего не мог понять. Но все равно стиснуло у него грудь, и сделалось трудно дышать.
Сбежался народ. Бабушку оттащили, плеснули из ковша воду на ее лицо и голову. А Илька вернулся в избу и стал одеваться. В избе плавал лесной запах. Илька пошарил глазами и заметил на столе кружку с земляникой. «Мама мне оставила», – подумал он и с надетой на одну ногу штаниной поковылял к столу и принялся есть ягоды, жадно, горстями.
В первые дни Илька о матери не тосковал. Он еще не мог постигнуть смерти. В его голове еще не укладывалось, что мать может никогда не вернуться. Ведь запах земляники, тот самый запах, который оставила мать, был всюду с Илькой. Она уехала и все равно приедет скоро. Надо только ждать.
И он ждал. Уже выловили мать из реки и привезли на подводе. А он все равно ждал. Какое ему дело до того темного, вздутого, что под навесом. Его даже показать Ильке боялись. Правда, он все же тайком заглянул через забор, но ни жалости, ни боли не испытал, а только страх.
Нет, это все не то. Мать не могла быть страшной. Все эти плачущие люди и бабушка, рвущая на себе волосы, ошибаются, а Илька не ошибался, потому что он один чувствует тот запах, который никто другой уловить не может.
И когда хоронили мать, когда по всему кладбищу разносились вопли, а Ильку просили: «Поплачь, поплачь, легче будет», – он, сколь ни старался угодить взрослым, ни одной слезинки из себя выдавить не смог. Он ждал. Месяц, два ждал, потом съежился, примолк, ходил потерянный.
Минуло лето, и мальчишка стал что-то постигать.
Однажды бабушка, которая не пускала Ильку к реке, боясь, что он тоже утонет, после долгих поисков обнаружила Ильку на кладбище. Он стоял у могилы матери. Возле самого креста была выцарапана ямка. В ней торчал тоненький стебелек со звездочкой среди сухих багровых листьев.
Это была земляника.
Заметив бабушку, Илька прижался к ней и долго, безутешно плакал. Потрясенная бабушка гладила его по спине и повторяла: «Что ты? Что ты, дитятко? Успокойся, не плачь, – и со вздохом прибавила: – Твои слезы впереди».
И лежа в шалаше с закрытыми глазами, Илька, как ему думалось, видел во сне мать и ощущал сладкий, томительный земляничный дух. Но он вовсе не спал, потому что вдруг вздрогнул, заслышав шаги. Приподнявшись, Илька выглянул в треугольный выход шалаша – и увидел отца. Тот шел через покос.
Илька заметался в шалаше, как в мышеловке, и, смекнув, принялся поспешно выдирать сено в другом конце шалаша. Отец уже подходил к огневищу. Илька нырнул в отверстие, выполз на четвереньках и кинулся вброд через протоку. На острове он забрался в чащобу и внезапно упал на живот.
Перед его носом была кочка. Из нее торчал пучок метлиги. Казалось, кочка выбросила фонтанчики, которые рассыпались мелкими струйками. Раздвинув метлигу, Илька выглянул. Отец стоял у шалаша, пожимая плечами. Это было признаком раздражения. Потом отец поворошил носком сапога огневище и, видимо, обнаружив жар, вдруг усмехнулся.
Отец был невысок ростом, кривоног и подвижен. Он уже выпил, это чувствовалось по тому, что пальцы рук у него все время находились в движении, выдавая молчаливые рассуждения. Мальчик уже знал, что если отец перстит, значит, он под градусами. Как-то, будучи под этими самыми градусами, отец учил Ильку ходить на шесте в лодке. Правда, Илька сам напросился, чтобы его научили этому хитрому делу. Отец все обещал, обещал, а потом, выпивши, значительно прищурился и сказал: «А ну-ка, сын, бери шест!»
Илька взял шест. Отец столкнул с берега верткую лодчонку и, показав на другую сторону Мары пальцем, спросил: «Во-он, белый камень видишь?» – «Вижу», – ответил Илька. «Так вот, если тебя снесет ниже того камня, этот шест об тебя обломаю. А теперь плыви!»
Ильку, конечно, снесло, и далеко ниже камня. Мара неумелых не любит. Мальчик сидел по ту сторону реки и ревел. Отец прыгнул в другую лодку – и за ним. Илька испугался и обратно поплыл. Отец гонял его от берега к берегу полдня и таким образом научил ходить на шесте.
Пьяненький, он похвалялся перед людьми своим «методом», Илька не мог его слушать, постоянное раздражение так и кипело в нем.
Люди рассказывали, будто отец сильно бил покойницу мать, и, видимо, за это Илька его не переносил. Бабушка прямо в глаза говорила Верстакову, что мать погибла из-за него. Не пьянствуй он, не мошенничай на мельнице, был бы на воле. А то сел в тюрьму, срок получил, и мать Илькина из-за этого утонула. Он отбыл на строительстве, в какой-то шараш-монтаж конторе, припаянный ему срок, освободился. Матери же у Ильки нет и не будет.
Постояв у огневища, отец обошел вокруг шалаша, должно быть, заметил дыру и направился к берегу протоки. Илька припал к земле, пополз.
– Илька-а!
Мальчишка не отзывался.
– Илька-а! – повторил отец и, не дождавшись ответа, сердито приказал: – Сейчас же иди домой!
Илька молчал.
– Я кому говорю, вертайся домой! – снова потребовал отец и, подождав, добавил: – Никто тебя не тронет!
«Да, не тронете! Знаю я вас! – металось в голове Ильки. – Сейчас-то, может, и не тронете, а потом…»
– Чтобы сегодня же был дома! – удаляясь, хмуро бросил отец.
До глухой темноты околачивался Илька на острове, боялся, что отец вернется. Поздней ночью пробрался в шалаш, зарылся в сено и, поминутно просыпаясь, дрожал мелкой дрожью до самого утра.
Встреча со сплавщикамиМешочек с хлебом и узелок с солью отец не заметил или не захотел взять. Должно быть, не заметил, удочки и те унес.
Илька прикрепил мешочек к поясу, перебрался на остров и здесь, срывая горстями смородину, поел с хлебом. Делать было нечего. Мальчишка вышел на берег, привалился спиной к изогнутому стволу вербы и снова задремал. Солнце еще не вышло из-за гор, и губы Ильки скоро задрожали от озноба. Он проснулся, поежился и длинно зевнул. Потом резко вскочил, принялся прыгать, махать руками. Чтобы стряхнуть утреннюю тишину, так угнетающе действующую на одинокого человека, сердито заорал:
– Мо-о-орда!
Горы согласно ответили: «Да-да-да…»
– То-то же… – буркнул мальчишка и стал бросать камни в воду, стараясь угодить в плывущую щепку.
На другой стороне реки, на высокой скале, стояла громадная лиственница. Лучи солнца откуда-то снизу ударились в ее вершину, и сразу мелкий клочковатый туман, робея, сполз к подножию гор, заколыхался над рекой, вытягиваясь в легкую, как пух, полосу.
Илька ждал солнца. А оно не торопясь просыпалось за перевалом, и, когда наконец выкатилось на гребень дальних елей, все кругом засияло яркими отблесками. От бревен, что тесно нагромоздились на берегу, шел пар. Гладкий камешник на берегу стал быстро обсыхать. Птицы перестали петь и чиликать, занялись промыслом, обследуя гнилые деревья, вылавливая жуков и насекомых. Куда-то пробежал бурундучишка, выскочила на берег лиса и раскопала мышиную норку. Понюхала, разочарованно фыркнула и подалась дальше. Ворона снизилась над водой, сцапала зазевавшуюся рыбинку – и на берег. Склевала добычу, очистила клюв о камень, задумалась. С одного берега на другой с угрожающим криком перелетел ястреб и опустился на островерхую сушину. Мелкие птахи сразу перестали там хлопотать и возиться – затаились. Вверху, сваливаясь за горы, кружил подорлик.
Новый день, с трудами и заботами, начался. Илька забрался на тот самый залом, с которого удил хариусов, и лег животом на широкое бревно. Спину и голову пригревало. После беспокойной ночи мальчишка крепко спал.
– Что ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе! – услышал он и, вздрогнув, поднял голову.
Перед ним с камбарцами – короткими баграми – стояли двое. Один молодой, в рубахе с расстегнутым воротом, с курчавой белой головой. Казалось, кто-то выхватил из-под столярного верстака пригоршню крупных стружек и швырнул их на голову этого парня. На лбу у него широкая поперечная складка.
Второй уже стар. У него дряблое лицо, нос красный, только губы мягкие, улыбчивые. Он-то и обращался к Ильке так складно.
– Придется тебе, брат, удалиться отсюда, – продолжал старый сплавщик. – Сейчас мы твою кровать разберем и на лесопилку отправим.
Илька молча сошел с залома и сел на камень. Сплавщики принялись сталкивать бревна, не обращая внимания на мальчика. К удивлению Ильки, залом они разобрали быстро и словно бы играючи. Потом закинули багры на плечи, пошли вниз и стали отталкивать от берега обсохшие лесины. Сплавщики нет-нет да и поглядывали в сторону Шипичихи, кого-то, очевидно, ждали.
– Копаются, черти! – ругнулся молодой.
– Не спешат от людей уплывать, – подтвердил второй сплавщик и предложил: – Давай покурим.
Сплавщики сели неподалеку от Ильки на бревно и принялись развязывать кисеты. Пожилой, набивая табаком трубку с коротеньким кривым мундштуком, посмотрел на Ильку и, обхватив колени, что-то сказал молодому. Тот тоже посмотрел на мальчика и поманил его к себе. Илька послушно подошел, сел на край бревна. Пожилой сплавщик насмешливо прищурился, протянул ему кисет.
– Не курю, – отверг предложение Илька хрипловатым голосом и прокашлялся.
– Ты чей будешь, паренек? – обратился к Ильке кучерявый плавщик.
– Здешний.
– А чего рано из дому ушел?
– Да так…
Разговор не клеился. Вид у Ильки подавленный, и в глазах его, еще вялых со сна, гнездилась тоска. Старый сплавщик внимательно присмотрелся к нему.
Заношенная синяя рубаха без пуговиц, штаны, прорванные на коленях, поцарапанные ноги, давно не стриженная и не чесанная голова – все это не ускользнуло от цепких глаз старика.
– Так чей же ты все-таки? – неожиданно повторил он свой вопрос.
Илька, нахмурившись, недружелюбно ответил вопросом на вопрос:
– Вам-то что? – Глядя на быстро плывущее бревно, прибавил: – Ничей. – Заметив, что таким ответом он озадачил сплавщиков, пояснил с грустной усмешкой: – Вольный казак!
– Чего, чего?
– Вольный казак, говорю, – повторил Илька и ожесточенно закончил: – Бродяга!
С этого и пошел разговор. Нехотя выжимая из себя слова, паренек начал рассказывать о себе, а затем, ободренный вниманием и участливыми взглядами сплавщиков, продолжал уже уверенно, ничего не утаивая, доверяясь этим людям.
– Конечно, дело семейное – непростое, – вздохнул Илька, повторяя чьи-то чужие слова. – Но и терпенья моего больше нет. Тряпкой в рожу?! Это как называется? За это даже в сельсовет можно идти. А где он, сельсовет-то? Нету сельсовета. Кому пожалуешься? Некому. А они увезли меня сюда и изгаляются. Вот и рубанул я мачеху молотком. Довели! Это еще ладно, ружья дома не было, а то бы до смертоубийства дошло. Тетка Тимофеиха вон говорит, что я очень даже опасный для опчества, если обозлюсь. Я нервный. Есть даже такая болезнь – нервоз называется. Это отец в больнице узнал. Он у нас все по больницам, по лесам да по тюрьмам скитается. Вот кабы наоборот было: отец бы утонул, а мама бы осталась. Бабушка говорит, что без отца был бы я полсироты, а без матери – полный сирота…
Сплавщики слушали не перебивая.
Молодой парень уже докурил цигарку до того, что она обжигала губы, но он словно бы не замечал этого, тянул и тянул, жадно, порывисто. И у него все чаще и чаще подпрыгивало веко. Илька заметил это и подумал, что молодой дяденька тоже очень нервный человек, раз у него глаз так дергается.
– Говори, говори, – попросил пожилой сплавщик с глубоким вздохом и протянул кисет своему товарищу.
Но Илька не мог дальше говорить. Ему как раз надо было рассказывать о том, как отец вчера унес у него все, даже старое пальтишко и удочки.
Из-за острова выплыл плот, на котором стояли два домика: один длинный, наподобие барака, другой маленький, как будка. Все это, вместе взятое, на сплавщицком наречии именовалось казенкой. Люди на плоту дружно работали потесями, прибиваясь к берегу, на котором сидел Илька со сплавщиками. Молодой сплавщик подбежал к воде и, сложив руки рупором, закричал:
– Эй, приставайте ниже острова! – И, заметив, что его поняли, с досадой полюбопытствовал: – Чего это вы мало спали?
Но плот уже пронесло мимо, а может, люди делали вид, что ничего не слышали. Из всего этого Илька заключил: кучерявый парень хотя и молодой, но, видимо, у сплавщиков за старшего. Вернувшись к бревну, на котором сидел Илька со стариком, он первым долгом поинтересовался:
– Ты ел сегодня?
Мальчик молча кивнул головой. Сплавщики переглянулись между собой. Илька догадался – не поверили ему, и пояснил:
– Хлеб остался. Он не увидел его… У меня мешочек-то в кустах спрятан…
– А-а, ну тогда другое дело, – согласился старый сплавщик и тут же обернулся к товарищу: – Что будем делать, Трифон?
Молодой сплавщик сердито тыкал багром в гальку, а когда поднял голову, Илька заметил в его глазах злобу.
– Я вот пойду сейчас в поселок и его преподобному папе морду набью: умей содержать родное дите, коли произвел на свет…
– Нет, нет! – вскочил Илька с бревна. – Я утоплюсь лучше, но домой не пойду…
Старый сплавщик обнял Ильку, посадил рядом с собой и стал гладить по голове, отчего Илька разревелся. Сирота чувствителен к ласке, особенно к мужской. Трифон сидел, стиснув зубы, и веко его снова застрочило.
– Бабушка-то с дедушкой, значит, в деревне Увалы живут? – спрашивал между тем пожилой сплавщик.
Илька тряс головой.
Захрустела галька под ногами. Растянувшись цепочкой, подходили четыре сплавщика. Два здоровенных детины, которым по локоть были рукава сплавщицких брезентовых курток, шли рядом. Чуть поодаль, словно досыпая на ходу, брел мужик, опираясь на багор. Нижнюю губу вместе с челюстью вынесло у него вперед, точно у старушки. За ним, держа камбарец под мышкой, как ружье на полевой охоте, переставлял длинные ноги прыщеватый парень, и по лицу его плавала мечтательная улыбка.