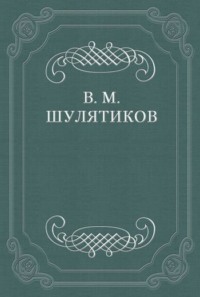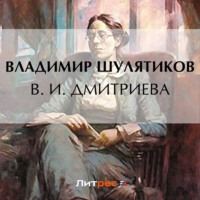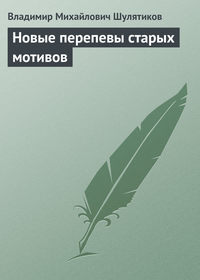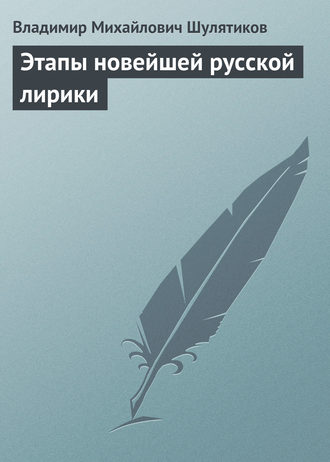 полная версия
полная версияЭтапы новейшей русской лирики
Исследователи названной области выяснили генетическую зависимость появления новых форм прикладного искусства от завоевательных шагов машинной техники. Здесь не место детализировать вопрос. Желающих мы позволим себе отослать к «Das Moderne in der Kunst» Юлия Лессинга, где дается арсенал соответствующих доказательств и иллюстраций. Ограничимся констатацией наблюдаемого процесса[24]: машинная техника, вторгаясь в область художественной промышленности и заставляя обрабатывать новые материалы (например, железо вместо дерева или камня), тем самым меняет стиль и характер предметов искусства, порождает новое направление в нем. Достигается упрощенность и легкость форм. Отметается все то, что оказывается излишним. Сложные орнаменты античных колонн уступают место простым железным столбам, массивная старомодная мебель – легким, свободным от украшений столам и стульям; изображения вычурных цветов – изображениям диких полевых или лесных растений и т. д. Простота, непринужденная эластичность contre громоздкого мертвого академизма – таково знамя, выкинутое новым направлением.
В начале неяркое, хаотичное, в последние годы это направление вылилось в определенную систему художественного миросозерцания, в школу I'art moderne, модернистского искусства.
Соответствующие художественные концепции рождаются иp области искусства, «чистого», и там идет борьба во имя отрешенности от всего лишнего, борьба во имя простоты и легкости, во имя «устойчивости», приобретаемой ценою эстетической революции.
Абстрактный человек, совлекший с себя ветхого Адама, творящий все и вся из недр своей индивидуальности, руководясь священным принципом наименьшей затраты сил, – таков герой экономических трактатов А lа «Логика экономии». Собственно экономические, производственные факторы оказываются, в конечном итоге, элементами второстепенными. «Новая» экономия протестует, против обращения человека в бездушную машину. Допустим, – заявляет один из новейших буржуазных экономистов, – что «все мировое производство реализуется помощью вращения всевозможных машин и механических движений человеческих рук: в таком случае, человек потерял бы всякое господство над природою». Господства нет там, где царит несознательная, а слепо механическая работа. Люди в подобном идеальном состоянии оказались бы не господами, а рабами производства»[25]. Это говорит автор, который свою книгу посвятил как раз горячей апологии современной промышленности, автор, который пытается даже построить схему морального и религиозного миросозерцания, применительно к условиям и требованиям современного капитализма.
Если взять отдельно подобные тирады, то мы получим представление о новейших буржуазных идеологах как о противниках современной промышленности и сторонниках жизни А la nature. В экономических трактатах даются комментарии, разъясняющие истинный смысл идеала абстрактного человека. Другое дело область «чистой идеологии». Там, где допустимы лишь отвлеченные формулы и символы, где отсутствуют всякие комментарии экономические, там герои современной индустриальной эпопеи оказываются людьми, осуществляющими безусловное «господство» над природой, самодовлеющими существами, носящими в себе самих источник силы и могущества, В произведениях нового искусства процесс абстрагирования hominis economici достигает высокой степени развития.
Принято слишком наивно относиться к лирической поэзии, – считать воспеваемые поэтами чувства и настроения за чистую монету, не ставить их ни в какую связь, помимо личных переживаний лириков. Все допустимо в лирике, почти все признается в ней реальным. Делается оговорка лишь в таких случаях, когда, например, поэт качается в сетке лунного света или усаживается на рог луны, то есть в случаях, явно противоречащих условиям реальности. Но, например, воспевание чувства природы и призыв идти на лоно последней, спрятаться на нем от тревог городской жизни – приобретают обыкновенно среди читающей публики значение мотива an und fЭr sich, выросшего стихийно, исключительно как протест против современной «цивилизации»; в душе поэта – как протест без примеси каких бы то ни было посторонних соображений, протест радикальный.
Между тем, подпочва poesie de la nature далеко не такова, какой она рисуется наивному мышлению. Установлено, что она, в своей современной форме, возникала всегда там, где экономика приводила к удалению от «земли», от земледельческих форм хозяйства, от непосредственного соприкосновения с природою. Гимн природе, каким его знает европейская литература, дитя отношений, развившихся в рамках городского общежития, точнее, дитя социально-экономического строя, знаменующего собою рост городских центров. Правда, для полной характеристики генезиса воспевания природы необходимо принять в расчет и то обстоятельство, что знакомством с природой и богатством переживаний, вызываемых ею, обладали, например, «выкормки дворянских гнезд», и в свое время они сыграли видную роль в истории романтической школы, где лирика природы явилась, как известно, одним из главнейших аксессурсов. Но это не уполномачивает нас объявить poesie de la nature «феодальной идеологией». Опять-таки мы впали бы в большую ошибку, приписав влиянию «феодальных» мотивов колоссально непропорциональное значение. Пристрастие к природе в искусстве современного общества отражает собой известные тенденции данного общества, взятого в его доминирующих верхах, то есть общества не феодального, а буржуазного. «Феодалы» принесли с собою лишь товар, который оказался в большом фаворе на культурном рынке. Притом они принесли его не готовым; они даже не подозревали в себе, перед своим появлением на подмостках новой культуры, собственников этого товара.
Итак, гимны природе и «естественному состоянию» слагаются не «людьми природы»: это во-первых. Во-вторых, природа и естественное состояние, фигурирующие в этих гимнах, представляют для новейшей буржуазии отнюдь не самостоятельную ценность: перед нами, прежде всего, иллюстрация к модной социально-технической теме, столь волнующей авангардные отряды капиталистического лагеря. Если же истинный смысл этих иллюстраций не так быстро можно разгадать, – тому ; виною идеологический язык и замечательное искусство, с которым идеологи пользуются – сознательно или бессознательно – этим языком, не выходя из рамок, предуказанных им их миссией.
Исследование новейших «природных» мотивов приводит нас как раз к выше охарактеризованным экономическим тезисам.
Какими, в самом деле, штрихами поэты отличают обетованную страну своих стремлений? Что главным образом они ценят в ней?
«Чистое и простое возвращение к первобытной жизни, очевидно, немыслимо, и идея его, сама по себе детски наивна», – признается одним из исследователей и вместе с тем поклонником тенденции в сторону примитивизма, культа природы и общения с при родой. Marius-Ary Leblond, автор книги «L'ideal du XIX-е siecle». «Достаточно избавить современное общество от того, что составляет его уродства: от излишка индустриализма, крайностей напряженной деятельности и ничегонеделания, излишней образованности. Таким путем возвращаются к первобытной жизни, но не оставаясь в ее рамках, а лишь заимствуя ее эстетические элементы». Такими элементами оказываются сила, простота, изящество, честность. «Избавимся от всего сложного и тяжелого багажа, навьюченного на нашу расу течением веков. Мы умираем от лишних платьев, лишних драгоценностей, лишней мебели, лишних фраз, умираем оттого, что наши души и тела задавлены. В первобытной жизни нас особенно чарует свобода, нагота или удобство легких одеяний, привычка к чистому воздуху и природе. Все это несовместимо с настоящей новой жизнью, жизнью сложной и прогрессирующей интеллектуальности»[26]. Золотые слова! Содержание, вкладываемое новейшей буржуазией в пропагандируемый ею лозунг: «ближе, назад к природе», выяснено достаточно недвусмысленно! «Природе» указано подобающее ей место – место в водовороте капиталистического обращения. Опять мы сталкиваемся лицом к лицу со знакомыми нам постулатами: простота, легкость, покойное удобство. Опять речь идет об отрешенности от старых форм, потерявших право на существование с развитием новых экономических отношений, новой техники и методов производства. И Marius-Ary Leblond при этом совершенно правильно подводит под одну категорию явления, наблюдаемые в различных областях культуры – прикладных искусств, искусства речи, психологии, домашней обстановки, одежды. Заявляя, что «мода уже довольно часто возвращается к легким, упрощенным костюмам, линии которых более непосредственно отвечают линиям тела», французский критик продолжает: «массивная мебель уступает место мебели легкой, подвижной, как мысль, изогнута, как форма человеческого тела, для которой она предназначена». Сопоставление факта, являющегося одним из наиболее ярких показателей «примитивистского движения», с переворотом, происходящим в обстановке современного буржуазного дома, – не случайное и служит лучшим комментарием к новейшему культу «естественности» и «природы».
Мы знаем, в чем сущность означенного переворота, и, зная ее, не должны обманываться насчет сущности новейших порывов назад, к покинутым лугам, долам и рощам.
Природа низводится на роль риторической антитезы «излишнему» в социально-экономической жизни и в ее культурных надстройках. Высшим выражением подобной антитезы должны явиться пейзажи наиболее глухих или диких мест, девственных лесов, пропастей, горных крутизн, пустынь. Новая поэзия воспевает их. Тем не менее буржуазия не обнаруживает ни малейшего желания предпочесть существование в какой-нибудь пустыне или в лесу городскому комфорту. Почему, – рассуждает тот же Леблон, – известные группы поэтов так любят пустыню? Что они находят в ней? «Пустыня для них не может иметь абсолютного значения». Пустыня для них – синоним глубочайшего возрождения: в ней, по выражению поэтов, человек становится самим собою, начинает жить «истинно человеческой жизнью», жизнью духа, вернувшего себе первобытную чистоту и непосредственность. Другими словами, даются просто-напросто утопические картины. Рисованием подобных картин занимаются поэты, восхваляющие величие диких лесов или «царство молчания». Они заставляют силою своего воображения совершать прогулки в леса с целью «излечить слабые души горожан: там они черпают дикую силу, мощь и живительные соки природы». Благодетельное влияние молчащей природы сводится к внутреннему одиночеству, к незаметному развертыванию интимнейших сторон души; это своего рода «горняя жизнь», жизнь простая и высокая. «Ясная душа господствует над высотами и горизонтами»[27].
Всюду представление об освобождении от «излишнего багажа», от «ненужных» переживаний, «ненужных» привычек и действий. В этом и заключается «глубочайшее возрождение человека», развертывание «интимнейших сторон души», бесконечное приближение первобытной естественности, восхождение к горним высотам. Новейшая лирика природы есть сплошное славословие в честь легкости и простоты, – славословие, которое одновременно раздается во всевозможных уголках жизни, науки, философии, искусства.
«Примитивизм, идеал будущего, не может ограничиться тем, что сбрасывает ложный груз цивилизации и воскрешает счастливые элементы первобытного состояния; он развертывает или создает новые чувства, новые инстинкты; он устанавливает или определяет новые формы жизни»[28]. Идеолог новейшей буржуазии договорился здесь до слишком смелой формулы: объявил «примитивистские» тенденции за такие, которые могут быть приравнены к числу руководящих начал, движущих причин современной жизни. Но в данном случае он лишь разделил общую участь пророков и мудрецов буржуазного общества. Тенденция к «упрощению», к «легкости» вообще признана последними самодовлеющей силой, стихийно нарастающей и наделенной могучим творчеством. Это, наравне о абсолютным развитием, настоящее божество, которому теперь поклоняется капиталистический мир, притом, повторяем, не только в лице собственников фабрик и контор, официальных магнатов и собственников капитала, но и в лице так называемых промежуточных групп.
Роль, которую профессиональная интеллигенция играет в современном производстве, се квалификация обрекает ее на образ мышления, далекий от былого радикализма. В ее рядах царствует ревизионизм.: Квалификация заставляет ее смотреть сквозь задернутые густой вуалью очки на явления классовой борьбы, подменять понятия о последней понятиями абстрактного типа. И если новейшие поэты не забывают иногда «проклятых вопросов», если, отдыхая от цветов и «полутеней», они снисходят до рубищ, то и тогда они остаются неизменно верны самим себе и, с ловкостью волшебников, превращают социальные антитезы в психологические.
Герои поэмы г. Мережковского «Франциск Ассизский» не любит профессии своего отца. Ему скучно в лавке. Им владеют «примитивистские» настроения.
Он не мог понять его (отца) заботыО товарах, ценах и в тоскеВсе следил, как Пьетро сводит счетыС важным видом мелом на доске.Скучно! Он глядит из-за прилавка,Улыбаясь, в глубину небес…Поскорей бы за город и в лес,На поля, где зеленеет травка!..Совершивши на ярмарке выгодную продажу товара, он чувствует себя нехорошо: у него тяжелая голова. Всю ночь он не может заснуть в гостинице: «в голове – итоги, цифры, счета»… В нем говорят опять его настроения… Возвращаясь домой, он сгорает желанием уйти в «лес дышать прохладой и смотреть, как блещет мох росой». Но ему приходится торопиться: могут ограбить. «Примитивизм» ведет в нем отчаянную борьбу со страхом потерять деньги. «В страхе и тоске щупает он деньги в кошельке… Он бы лег в траву, под эти клены, чтоб над ним был листьев свод зеленый, – только страшно деньги потерять, и едва лишь вспомнил их – опять все померкло»… Показывается толпа слепых нищих. Франциск смутился; он почувствовал «совести упрек» и начал раздавать червонцы. Но суть здесь вовсе не в «совести упреке», а, – как недвусмысленно показывает автор дальше, – в ином. «В кошелек руку опустил, червонец вынул, думал спрятать вновь – и нищим кинул. Вот второй и: третий, и дождем сыплются монеты золотые. Он кидает с радостным лицом». Франциск продолжает кидать, пока у него не осталось ничего. Тогда с облегченной душой он едет к дому. «Едет дальше: кaждaя былинка, небо, птицы, резвый мотылек, и смолы янтарная слезинка на сосне, и трепетный цветок, полны радости великой, снова встретили Франциска как родного». Франциску доставил радость дождь золотых монет, самый процесс раздачи денег, который определяется как процесс психического облегчения, освобождения от «излишнего багажа», победы «естественного» человека над «горожанином», «примитивизма» – над тяжестью монотонных и сложных переживаний, составляющих достояние отцовской «культуры», отцовского хозяйства (торговые счета именно подавляют Франциска своей сложностью).
Этого мало. Поэт рисует нам дальнейшее развитие названного процесса. Он представляет в привлекательном свете лишения бедности опять-таки потому, что бедность рассматривается как совершенное выражение пресловутой «легкости». Заявляя перед епископом о своем решении отказаться от всякой собственности и обратиться в нищего, он выясняет мотивы своего решения: «Теперь душа моя чиста, и мечты мои свободней ветра». Сбрасывается «излишний груз». Франциск желает без всяких оговорок приблизиться к «естественному состоянию», к «природе»… «Будьте же свидетелями, братья, – восклицает он, – я хочу быть бедным и таким, как родился, слабым и нагим, кинуться спасителю в объятия!»
Франциск достиг своей «свободы». «Примитивизм» в нем окончательно восторжествовал. Теперь он беспрепятственно может отдаваться опрощающему воздействию природы. «Темный, свежий бор и ясный дол манят к счастью, миру и покою. Понимал он все, о чем в сырой траве мошки в солнечном луче жужжали, все, что ключ шептал на ложе мха; сердце чисто, дух его свободен»… И поэт набрасывает идиллию, повествуя, как Франциск «сердцем чист, в дружбе со зверями жил, как первый человек в раю».
Демонстрируя значение мотива «опрощения», «легкости», «покоя» в новой литературе, мы забежали несколько вперед. Мы взяли этот мотив уже в его развитом виде. Получить ясное, наглядное представление о любом факте можно только тогда, когда основные элементы этого факта наметились определенно и отчетливо. Имея дело с поэзией Надсона, мы имеем дело с литературным феноменом переходного типа. Наряду с новыми мотивами лирика Надсона содержит отголоски старых мотивов. Правда, она перерабатывает последние по-своему. Но не всегда эта переработка оказывается удачной в смысле выполнения требований новорождающегося искусства. Нередко получаются лишь эскизные намеки на новое.
Вернемся еще раз к ней. к ее намекам.
Содержание, вкладываемое Надсоном в понятие «чистой поэзии», в культ цветов и природы, мы в свое время выяснили. Цветы и природа успокаивают поэта, дарят ему душевное равновесие, покой, освобождают его от сложности и тяжести повседневных переживаний. Это уже свидетельствует о постулате «легкости». Но относительно названного постулата в нашем распоряжении имеются несколько более детальные указания.
Означенные указания дает техника поэта. Присмотритесь к его образам. Большинство из них раскрывает как раз несомненнейшую тенденцию ответить запросам «нового» искусства. Отрешенность от громоздких форм, легкие эластичные движения, легкие эластичные штрихи – вот что характеризует лирику Надсона. Приведем несколько примеров.
Описывается город, выросший из облаков («Облака»). «Целый чудный город… вырос из залитой мягкими лучами перелетной стаи вешних облаков. Тут немые рощи замок, окружили, там, через ущелье, легкий мост повис». «Вырос храм, и стройный портик обступили мраморные группы… Высоко вознесся купол округленный»…
Из стихотворения «Мелодии»: «Погоди: угаснет день, встанет месяц над полями, на пруду и свет и тень лягут резкими штрихами».
Из описания замка («Царство сна»): «А когда-то нередко ночною порой там пестрели наряды гостей, и с крыльца, под стемневшие своды аллей, извиваясь, сбегали одна за другой разноцветные цепи огней».
Образ ночи: «уронивши ресницы на пламенный взор с ароматным венком на челе, сходит знойная ночь с отуманенных гор к полной неги и мрака земле. Расплелись ее косы… С нагого плеча дымка звездной одежды скользит»… И поэт взывает к ней: «Протяни ж серебристые нити лучей в этой дышащей негою мгле»…
Изображается бег ручья («Певец»): «Бьется с тихим журчаньем холодный ручей! Серебристая струйка за струйкой бежит, догоняет, целует и тихо звенит».
Панорама южно-французского побережья утром («Лазурное утро я встретил в горах»…). Утро спускается «кремнистой тропой осыпать лучами залив голубой и зелень долины. Над морем раскинулась зелень садов: тут пальмы качались, там в иглах шипов желтели алоэ, и облаком света дымился миндаль, и плющ колыхал, как узорная шаль, шитье кружевное»…
Черты портрета Герострата[29]: «мрачно-строгий лоб, и волны черные отброшенных кудрей».
Герострат подходит к старинному храму: «холодный луч луны, скользя по мрамору, из мрака вырывает лепной узор колонн я выступы стены»…
Из стихотворения «Муза»: «Я угадывал темные кольца кудрей, очерк уст, горделивый и смелый, благородный размах соболиных бровей и ресниц шелковистые стрелы».
Серый день, в воздухе «нет игры причудливых лучей», «рельефы сглажены, оттенки мутно слиты» («Бывают дни, когда над хмурою землей»…). И внезапно, «как будто вздох раздастся и замрет, и вечер налетит – порывистый и крепкий. И бросит пыль в глаза и заволнует ветки… Разорван полог туч!.. Природа красками мгновенно расцветилась, и в вышине, в просвет, и блеском и теплом небесная лазурь, сверкая, заструилась»…
Поэт определяет характер своего художественного творчества. Образы рождаются у него именно как внезапный порыв ветра: «Захочу («Умерла моя муза!») – и сверкающий купол небес надо мною развернется в потоках лучей, и раскинется даль серебристых озер, и блеснут колоннады роскошных дворцов, и подымут в лазурь свои зубчатый узор снеговые вершины гранитных хребтов».
Мы нарочно привели так много примеров: читатели должны убедиться в выдержанности стиля надсоновских образов. Постоянно одно и то же. Постоянно говорится о непринужденном, порывистом или вообще свободном движении, о резких и смелых очертаниях. Упадать, разрывать, осыпать, раскинуться, уронить, прорезать, скользить, взмахнуть, вознестись, бросить, летать, нестись, метнуть, развернуться, виться, сбежать и т. д. – таковы излюбленные термины надсоновского поэтического словаря. В двух[30] последних примерах Надсон совершенно определенно заявляет о своей prediliction к «энергетической» эстетике, к эстетике, отрешенности от всего «лишнего», эстетике «наименьших усилий»: он дает в этих примерах обобщающую формулу создания своих пластических вымыслов: это не кропотливая работа, не построение массивного целого путем нанизывания детальной и тщательной их выделки; это – отрицание деталей и украшений, быстрое устремление вперед, рисунок, выполняемый редкими и решительными простыми росчерками.
V
Наконец, необходимо упомянуть еще об одном поэтическом приеме, порожденном теми же «опростительными» тенденциями.
Если лирика 60-х 70-х годов была лирикою реалистическою, если поэты 60-х – 70-х годов своими образами преследовали цели выпуклого, передававшего действительность изображения, то «новая» лирика стремится сократить изображение реального до возможного минимума. И для того она пользуется различными вуалями, описывает предметы окутанными дымкой, сумерками, тьмой или отстоящими на далеком расстоянии или же видимыми сквозь призму чего-нибудь полупрозрачного.
«А там, в отдалении, мелькало огнями село сквозь прозрачную зелень садов»… («Мы выплыли в полосу лунного света»…)
«Чуть пробивается блестками день сквозь кружевные покровы ветвей»… («В узком овраге прохлада и тень»…)
«Отрадно сквозь туман звезды видеть рожденье и отблеск мирных ламп за окнами домов… И мягкий лунный свет на дымке облаков; отрадно наблюдать немую жизнь природы и в ночи зимние, портьеры опустя… В чаду нарядных грез забыться, как дитя».
«Спит глухой городок: не звучат голоса, не вздымается пыль под копытами; неподвижно и ярко реки полоса, извиваясь, сквозит за ракитами» («В глуши»).
«Там и море будет видно; чуть доска твоя коснется, а оно тебе сквозь зелень в блеске солнца засмеется» («Жалко стройных кипарисов»…).
Описывается шествие толпы. Но ни толпы, ни пути, по которому она идет, читающий описания собственно не видит перед собою. Все покрыто глубокой тьмой. Намечаются лишь редкие, беглые, выхваченные из тьмы абрисы. «Ночь омрачили тучи» (Мне снилось, что иду куда-то я о толпой»). «…Наш узкий путь навис над бездною глухой… Мерцают факелы, то выхватив из мглы суровое лицо со сжатыми бровями, то мшистый перелом нахмуренной скалы, то ель, склоненную над пропастью ветвями»…
Или уже цитированное выше описание храма из стиха «Из тьмы времен»: «Пред ним (Геростратом) – старинный храм; холодный луч луны, скользя по мрамору, из мрака вырывает лепной узор колонн и выступы стены». Опять незначительная pars pro toto, часть вместо целого.
В наши дни подобного рода описания являются самым характерным достоянием модернистской литературы. К ним сводятся, в сущности, результаты многошумной художественной «революции», произведенной «молодыми» поэтами и беллетристами. Но родословная их восходит еще к надсоновским временам. Пусть они у Надсона не так ярки и определенны, как в новейшей лирике, но «новое слово» в данном направлении было произнесено, несомненно, Надсоном.
И не только это новое слово. А, как мы видели, ряд новых слов.
В последнее время, – особенно среди «молодых» – установилось пренебрежительное отношение к нему; его поэзию объявили чем-то архаичным, бесповоротно-пережитым. Нелепейшая оценка. Не что иное, как элементы «новизны» способствовали некогда громадному успеху его, успеху среди ново слагавшегося, переживавшего свои юношеские годы буржуазного общества. Идеологию этого общества он передал в необыкновенно выразительных тонах. Последующие поэты занимались лишь дальнейшей разработкой тех же идеологических тем. И не отворачиваться от него, не петь отходную его поэзии должны «молодые», а признать его своим предтечей, с почетом включить его в свою семью.
Наметивши на примере поэзии Надсона главнейшие мотивы, выдвинутые литературным ренессансом 80-х годов, мы остановимся теперь на характеристике отдельных из них, характеристике их оттенков и их развития.
Перед нами произведения А. Н. Апухтина, – поэта, далеко не обладавшего талантом Надсона и далеко не отразившего своей лирикой полноты «новых» мотивов. Тем не менее, это – крайне типичная фигура на фоне вышеназванного ренессанса. Группа мотивов, говорящих о томлениях «квалифицированной» буржуазии, «аристократов духа», выявлена им с достаточной рельефностью[31].
Апухтин находится в оппозиции к современной ему жизни. И находится в оппозиции не потому, что является представителем экономически-обездоленных социальных низов, а из тех оснований, с которыми мы уже встретились при анализе надсоновской лирики: его тяготят монотонность и однообразие окружающей среды. Жизнь для него – «бесцветное, пустое повторение» одного и того же («На новый, 1881 год»). Жизнь – это царство посредственности, вседневной суеты, пошлости, бессмысленности.