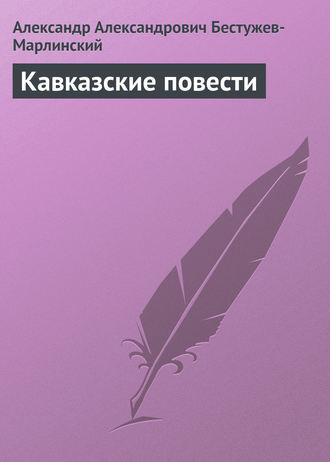
Полная версия
Кавказские повести
Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.
Глава II
Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие клики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.
Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, – порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащие к северу, – прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным: на дорогах и улицах ни души… стада овец лежали в тени скал… буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор – и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, – и наконец взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.
– Нефтали! – закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у
дверей которой стоял оседланный конь.
И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.
– Я вижу двух вершников, – продолжал мулла, – они объезжают селение!
– Верно, жиды либо армяне, – отвечал Нефтали, – им, конечно, не хочется нанимать проводника – да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы и наши первые удальцы скачут, оглядываясь.
– Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку[13] и навидался армян и жидов во всех сторонах… Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски… разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным – а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.
Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.
– Полдень жарок и путь тяжел, – примолвил Сулейман, – пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького – да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кораном.
– У нас в горах и раньше Корана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье – только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?
– Кажется, они земляки твои, – сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее вглядеться. – На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседов; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.
– Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими – пощеголять добычей? Это и не кровоместники и не абреки – лица их не закрыты башлыками, – впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием… Черт силен!
– На тех, у кого слаба вера, Нефтали… Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!
– Пускай я рассыплюсь прахом, если неправда! Это или русский, или, еще и того хуже, шагид-татарин[14]…Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри) – через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.
Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.
– Алла акбер! – преважно сказал Сулейман – и закурил трубку.
Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний – в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.
– Селам алейкюм, – сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.
Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.
– Алейкюм селам, – отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.
– Дай Бог доброго пути, – молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.
– Дай тебе Бог ума, чтобы не мешать путникам! – возразил нетерпеливо противник. – Чего ты хочешь от нас, кунак?
– Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина… не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников п полдневный жар и не освежили, не угостили их!»
– Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости… да и быстрота для нас нужнее покоя.
– Вы едете навстречу погибели, не взявши провожатого.
– Провожатого! – воскликнул путник. – Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши… Отсторонись, товарищ… на Божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздор.
– Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откудова.
– Дерзкий мальчишка! прочь с дороги… иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодари судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Тереком – узнай меня!
– Султан-Ахмет-хан! – вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестию; голос его замер… он упал на гриву коня в тоске невыразимой.
– Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!
Странники проехали мимо. Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) – в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя; усы были опалены вспышками полки и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу – мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.
– Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой – по росе помчались бы далее.
– Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что также легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними – мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими – и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, – значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время: слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови, тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что Аллах дает и отнимает победу… Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом – а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня, – завтра мы будем дома; потерпи до тех пор!
Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу – он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.
Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, – столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень – пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы, – но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною травою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника, широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.
– Аллах берекет! – воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, – но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.
Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян; он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне… Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.
– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, – говорил он, – ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!
Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.
– Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, – сказал он решительно, – оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел, – он чует, что мое сердце скоро замрет в. когтях его, – и слава Богу! Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли!
– Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. велика беда, что ты ранен, что конь твой пал. Рана заживет до свадьбы – коня найдем лучше прежнего – и впереди у Аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня, я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!
– для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан… Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею… тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы… Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен… Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле… жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими… в родине, в наследии моем пируют гяуры – и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя – я не хочу и не должен жить!
– Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, – и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если не люб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским – святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты – это не новость для воина: сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостию… Ободрись, друг Аммалат… ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом – садись на коня, и мы еще не раз побьем русских!
Лицо Аммалата вспыхнуло…
– Да, я буду жить для мести им! – вскричал он, – для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой… клянусь гробом отца, я твой… Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!
Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.
– Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, – сказал он, – кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недре утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.
Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, – а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения расстилать начали свою зеленую пелену – то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чилдара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между каменьями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, – и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.
Уже путники наши были близки к селению Акох, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении… перекаты постепенно затихли.
– Это наши охотники, – сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. – Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!
Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана – все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!
Другой выстрел, однакож, развлек его внимание… удар и удар еще… выстрелы отвечали выстрелам и наконец слились в жаркую перепалку.
– Там русские, – вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, – и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, – но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. – Хан, – сказал он, ступая на землю, – спеши на помощь своим землякам – твое лицо будет для них дороже сотни воинов.
Хан не слышал слов его – он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русских от аварских.
– Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека – и откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни! – говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. – Прощай, Аммалат, – вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильная пальба. – Я еду погибнуть на развалинах, разразясь, как перун, ударом!
В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.
– Садись верхом, – сказал он ему, – скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку… У русских свинцовые пули – а это медная, аварская[15], моя милая землячка! Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.
Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рытвины; и из них-то производилась перестрелка. Жители залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той и другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.
– У нас это обыкновенная вещь, – отвечал тот, любуясь каждым удачным выстрелом. – Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала – у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении – стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин – пули, как мухи, жужжат, а им горя мало – достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину, – да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.
Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою… двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи… голова его кружилась… будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на вороты дома ханского, на сторожевую башню, и неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев – и, едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, – без чувств упал на узорные ковры.
Глава III
Аммалат пришел в память на заре. Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему – оно отнимало у жизни горе, у смерти ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат послышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни… Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговок, с длинными косами, распущенными по плечам, – тихо приблизилась к его ложу – и так заботливо обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетались все жилки… Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и… больше не мог он рассмотреть… веки его опали, как свинец, – он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, – и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»
Но это не был сон. Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана; подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики или давал суд правым и виноватым; между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце… взмахнутый кинжал остановлялся на воздухе – и часто, взглянув на нее, он отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов – а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унизить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя – тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков – и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с ней родом – по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, – но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее… Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, – нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости: чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, – и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!» – поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье…
Надо быть татарином, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.













