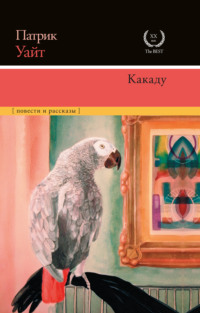Полная версия
Фосс
Мужчина снова зевнул. Однако он вовсе не скучал, он был счастлив. Хотя его тоже измучили события вечера, физическое истощение перекрывало воспоминания о них.
– В экспедиции я буду, разумеется, вести путевой журнал, – сказал Фосс, – который вы после прочтете, следуя за мной шаг за шагом.
Даже его гордыня устала и обрела черты ребячества.
– Официальный путевой журнал, – без всякой иронии прошептала молодая женщина усталому ребенку.
– Да. Официальный путевой журнал, – повторил он на полном серьезе.
Конечно же, она намеревалась его прочесть с тем интересом, который женщины питают к мужским достижениям.
О, я должна за него молиться, сказала себе Лора, ведь ему это очень понадобится. По непонятной причине ему льстило, что она просто находится рядом и уже ничего не говорит. Фосс был весьма доволен.
В светящемся окне возникла миссис Боннер и принялась вглядываться в темноту, словно желая прочесть ее мысли. Она позвала:
– Лора! Лора, дорогая, ты где? Ло-о-ора!
Племянница сочла своим долгом отправиться на зов. Уходя, она едва коснулась руки Фосса. Он гадал, не стоит ли ему остаться, но сразу же последовал за девушкой.
Они вышли на свет почти одновременно. Словно оба ходили во сне, содрогнулась тетушка Эмми.
– Мое дорогое дитя, ты замерзнешь… – принялась она сетовать и нахмурилась, однако сделала вид, что не замечает немца, – на этом коварном ветру.
И с этим никчемным мужчиной! Она закуталась в невидимую шаль, словно пытаясь защититься от неловкой ситуации.
– Миссис Холлиер очень хочет услышать в твоем исполнении ноктюрн Филда – тот, с красивенькой мелодией ближе к концу, которую я так люблю.
Они вошли в розовую комнату, где дядюшка сложил руки треугольником и объяснял мистеру Пэлфримену, у которого слипались глаза, опасности засилья сектантов, не говоря уже о католиках, в колонии. Как ни странно, духовные вопросы заставляли тело мистера Боннера раздуваться.
Лора Тревельян тут же села за фортепьяно и довольно посредственно сыграла ноктюрн Филда.
Немец, который вошел в гостиную вслед за леди, стоял, кусая губы и не замечая странности, даже неприличности своей позы, слушая или делая вид, словно музыка провозглашала некую идею, намного превышающую уровень приемлемой заурядности. И он совершенно по-хамски, как отметила позже мисс Холлиер, плюхнулся на диван с прямой спинкой, которая выдержала атаку с честью. Он сидел, развалившись, периодически проводя рукой по лбу и закрытым глазам, и вроде бы не заметил, что Лора встала из-за фортепьяно.
Так Фосс провел остаток вечера. Сам он не мог бы сказать точно, о чем тогда думал. Ему хотелось бы отдать неведомо что – если бы он только мог, если бы он только сам не убил в себе это нечто давным-давно, причем с нарочитой жестокостью. И теперь ему остались лишь переливы музыки в освещенной комнате и необъятные просторы, к которым лежал его путь.
Пять
Утром того дня, когда Иоганн Ульрих Фосс и члены его экспедиции должны были отплыть в Ньюкасл на первом этапе попытки пересечь континент, на Круговую пристань долго стекались многочисленные друзья и любопытные. Спустя три дня довольно ветреной погоды наступил полный штиль, морская гладь была ровной как стекло. Ветер еще поднимется, сказали те, кто чувствует такие вещи инстинктивно, после обеда непременно поднимется, и «Морской ястреб» выйдет из бухты.
Вот почему тем прелестным утром подготовка к отплытию шла своим чередом, хотя при виде спокойных зеленых вод, лениво плещущихся о борта кораблей и тупоносых лодок, никакой веры океанам не было и быть не могло. Жизнь казалась гуманной. Никого не стали бы распинать ни на одном из столь чудных деревьев, что росли вдоль северного берега. Во все стороны расстилался ландшафт, исполненный бесстрастной красоты, проступавшей даже в творениях рук человеческих. Дома выглядели куда честнее и дружелюбнее в безыскусных попытках соответствовать своему предназначению. Еще там был корабль – длинный, изящный, пахнущий свежей смолой, пенькой, солью, – и груз перепачканных землей клубней семенного картофеля. Корабль, который должен был заботливо доставить членов экспедиции ко второму этапу их грандиозного путешествия, выглядел так, словно возник в результате невероятно удачного союза искусства и науки, и паруса его никогда не знали бурь.
Большую часть снаряжения погрузили на борт либо предыдущим вечером, либо поутру до того, как пьяницы заворочались в канавах, пока недоенные коровы еще тянулись к окраинам. Когда Фосс сунул голову в ворот холодной рубашки, на небе гасли последние звезды. В скором времени он уже был подтянут и собран. Посмотрев в его голубые глаза, которые простым людям казались удивительно душевными, миссис Томпсон в ночной сорочке зарыдала в голос, как всегда вспомнив своих усопших родных. Топп, в ночном колпаке и еще опухший со сна, тоже растрогался, пожал бывшему жильцу руку и в конце концов решился идти провожать на пристань. Фосс взобрался на телегу ирландского поселенца и поехал к гавани. Всклокоченная городская трава, пробивавшаяся где могла, была полна росы.
Все утро Фосс сновал между кораблем и пристанью. Некоторые с ним заговаривали, спрашивали указаний или распоряжений. Некоторые к нему даже не подходили, воспринимая присутствие немца как само собой разумеющееся. Он уже стал главой экспедиции. Думая о будущем, он похудел и осунулся за одну ночь. И это будущее рисовалось теперь столь грандиозным, что порой Фосс сердито отворачивался и уходил, оставляя в недоумении тех из своих последователей, которые были настолько просты, чтобы ожидать объяснений. Другие, завидев, как он исчезает в трюме, чувствовали облегчение, потому что были не в силах решить, как теперь взаимодействовать с подобным человеком, и все же радовались присутствию предводителя, несмотря на его невнимательность и ожесточенность. Третьи мучились от ревнивой любви к нему.
Гарри Робартс, пришедший рано утром сразу после Фосса, не удостоился ни малейшего внимания и чувствовал бы себя совсем потерянным, если не приметил вскоре мистера Пэлфримена, орнитолога, который пытался занести на борт множество громоздких ящичков для будущей коллекции, кои бессовестный извозчик вывалил на пристань и скрылся. Подобная ситуация пробудила в Гарри радость и энтузиазм. Он обретал себя лишь в служении другим.
Мальчик поспешил спуститься, грохоча тяжелыми ботинками: простая душа его готова была открыться навстречу любому хозяину. Он коснулся своего кепи и довольно отрывисто проговорил:
– Вот, мистер Пэлфримен, я могу помочь с этими предметами, если вы не против. Когда чем-то занят, время вроде как идет быстрее.
Иные смотрели на Гарри Робартса как на раба, некоторые жители города на него даже бранились. Единственное, что могло навести на подобные мысли, – цвет его кожи, потому что со времени прибытия в колонию Гарри из невинно-розового сделался бронзово-коричневым. Во всем прочем он остался прежним и продолжал отдавать себя без всякого стыда, ибо такова была его натура.
– Что ж, спасибо, Гарри. С твоей стороны это очень похвально. Будь так добр, – пробормотал застигнутый врасплох орнитолог.
Последний был, чего уж там говорить, существом ничтожным. Притязать ни на что он не мог, ведь на него целыми днями никто не обращал внимания. На финальном этапе подготовки к экспедиции он погрузился в собственные мысли и вынырнул из них только сейчас, когда матросы бойко перекликались друг с другом, отвязывая канаты, подводы грохотали, портовый люд переругивался, потея на солнцепеке. Серые глаза орнитолога посмотрели на Гарри и на ящики, которые тот предложил перенести. Щека его дернулась, но только раз и почти незаметно.
– Поклажа для мула, прямо скажем, несерьезная, однако я должен их взять, потому что во всех иных отношениях они вполне годятся для моих целей. Понимаешь, Гарри?
– Да, сэр, – ответил мальчик.
Он ничего не понял, зато обрел некоторую уверенность, что было хорошо и приятно, и вдобавок обещало утешение в будущем.
Или он ошибается? Мальчик оглянулся и никого не увидел. Он подозревал, что совершает непростительную ошибку, наслаждаясь чувством товарищества под лучами теплого солнца. Где-то ему доводилось слышать, что главная обязанность человека – страдать.
Джентльмен, похоже, этот урок не усвоил, потому что как ни в чем не бывало склонился над своими ящичками, откинул крышки и принялся объяснять преимущества их конструкции, автором которой был он сам, судя по довольной улыбке.
– Вот эти отделения – для шкурок, которые я подготовлю, – говорил мистер Пэлфримен, – вот эти маленькие ячейки – для коллекции яиц… Откуда ты сам, мальчик? – спросил он, только ответа не дождался.
Видимо, Гарри увлекся разглядыванием ящичков.
– Ты ведь не из Лондона? – предположил орнитолог.
– Около того, – буркнул мальчик.
Как будто это имело значение… Теперь синее небо налилось злобой.
– В этом мы похожи, – откликнулся помрачневший мистер Пэлфримен и собрался продолжить в том же духе, изображая притворный энтузиазм, с которым мужчины разговаривают с мальчиками.
Вот только обоим стало ясно, что ничего из этого не выйдет. Они сравнялись. Пожалуй, и к лучшему. Под этим синим небом они расплавятся и сольются в одну команду. Или сгорят дотла.
Стоя на пристани, они поняли, что упорядоченное, унылое прошлое уже не имеет значения. Они подошли к тому, что им придется принять, в той или иной мере, либо поражение, либо победу. И теперь их трясло от этого осознания, здесь, у воды, а расстилавшийся за их спинами грубый, чванливый город шатался на рукотворном фундаменте посреди болотистых земель. Все испытания и свершения были впереди, пока же оставалось только ждать.
Понятное дело, подобные проблески длятся всего пару секунд, и вот Гарри Робартс сдвинул на затылок слегка потрепанное кепи из шкуры кенгуру, утер пальцем нос и воскликнул:
– Ну, сэр, так мы с вами до вечера простоим!
Он принялся составлять пахнущие свежеструганным деревом ящики в стопку. Если брать во внимание лишь физическую силу, то Гарри был гигантом. Поэтому он собой немного гордился. Однако довольно хрупкий орнитолог держался как ни в чем не бывало. В то время как звериная натура мальчика позволяла ему отгородиться от недавнего откровения физической силой, ученому приходилось нести незримый груз неопределенности будущего, каким оно виделось его душе.
Вскоре они уже бродили по трюму, ища место для своей поклажи. Мальчик на время обрел того, кто будет принимать решения, и успокоился; мужчина, более чувствительный к непривычному окружению, держался с заметной опаской. Прервав разговор с помощником капитана и боцманом относительно размещения припасов, Фосс бросил взгляд на нелепую парочку и вспомнил эпизод на берегу Темзы: ему показалось, что история повторяется. Что ж, тогда Пэлфримен тоже слаб.
Наконец орнитолог и мальчик сунули ящики в темный угол позади груды уздечек и вьючных седел. На этом их связь оборвалась. Гарри, которому было чем заняться, пошел за следующим грузом. Пэлфримен принялся бродить по кораблю среди босоногих волосатых матросов, всех как один обладавших силой и умением управлять неодушевленными предметами. Благодаря смирению он вновь обрел силу. Моряки перемену заметили и теперь хотели исправить допущенную ошибку после того, как грубо оттолкнули этого, на первый взгляд хрупкого и бесполезного человека. Один матрос, видимо, пребывавший в убеждении, что реституция требует полной открытости, решил расстаться с самой своей сокровенной тайной. Немного подумав и понаблюдав за лицом джентльмена, он шумно вздохнул, сплюнул, бросил парус, который чинил, и отвел Пэлфримена в сторонку.
В тот вечер, о котором он хотел рассказать, матрос напился рому. Вообще-то это не было ему свойственно, однако иногда случалось. Он прогуливался по окраине, неподалеку от дома друга, и неожиданно заметил на улице его жену. Поскольку состояние матроса ничуть не бросалось в глаза (он никогда не напивался вдрызг), то он немного проводил жену своего друга, заведя разговор, приятный обеим сторонам. Затем они вроде бы прилегли под деревом и вступили в любовную связь.
Матрос уснул, с его слов, в растрепанных чувствах, испытывая смесь вины и наслаждения, а когда пробудился, женщина исчезла.
Теперь он не мог понять, приснилось ли ему это или было наяву, потому что всякий раз, когда он встречал жену своего друга, она и виду не подавала.
– Чему же верить? – воскликнул матрос и посмотрел на так кстати подвернувшегося незнакомца, в чьи руки он не боялся себя вручить.
– Если это случилось во сне, который нельзя отличить от жизни, то грех лежит на вашей совести, – ответил Пэлфримен. – Вам хотелось пережить то, что вам приснилось.
Матрос расстроился.
– Значит, мужчина не прав, как ни крути, – сказал он и почесал волосатую грудь. – Если это творилось наяву, – продолжил он, понемногу приободряясь, – и женщина занималась этим, она виновна в той же мере! А сама и виду не подает!
– Если женщина занималась этим, – заметил Пэлфримен, – то она нехорошая женщина.
– А если во сне? – спросил матрос.
– Тогда нехороший – вы! – засмеялся Пэлфримен.
– Все равно сон очень даже хорош, – сказал матрос. – И она ничуть не возражала, я-то знаю, ведь в моем сне она была только за!
Благодаря мечтательному плеску зеленой воды о деревянный борт логика матроса казалась непогрешимой. Пэлфримен понял, что не вправе судить беднягу, даже если осуждает его моральные принципы. Человек стал важнее, чем двусмысленная ситуация, в которую он угодил и из которой они совместными усилиями нашли выход, стоя бок о бок у фальшборта.
И тогда Пэлфримен вспомнил свой разговор с Фоссом у перил мостика в Ботаническом саду. Он понял, что не хочет воскрешать в памяти ту сцену и утешение предпочитает искать, как и матрос, во втором варианте. Фосс, начал понимать Пэлфримен, это суровая скала, сквозь которую истина должна пробиться, чтобы уцелеть. Если я ищу самооправдания, сказал он себе, то обязан осудить моральные принципы и возлюбить ближнего.
Видимо, матрос почувствовал его неприязнь.
– Вы ведь не думаете обо мне плохо? – спросил он. – Ну, в общем и целом?
И тогда Пэлфримен, глядя в расширенные поры на лице собеседника, пожалел, что все его трудности не решаются столь же легко, как у этого простого матроса.
– Я был рад выслушать вашу историю, – проговорил он, – и надеюсь, что смогу у вас чему-нибудь научиться.
Теряясь в догадках, матрос вернулся к прерванной работе – к починке паруса.
Вскоре Пэлфримена окликнули, и тот обнаружил, что подошел его сотоварищ по экспедиции, Лемезурье. Учитывая обстоятельства, в нанковых брюках и синем кителе с броскими пуговицами он выглядел несколько франтовато.
– Значит, мы все-таки отправляемся, – проговорил Лемезурье без привычной нотки цинизма.
– Да.
Хотя Пэлфримен приветливо улыбнулся, из своих размышлений он вынырнул не сразу. Молодой человек сделал вид, что не замечает. То ли на него повлияло солнечное утро, то ли дружелюбное отношение, но Лемезурье вдруг осознал, что из подобного начинания вполне может выйти нечто путное, о чем не преминул сказать вслух.
Орнитолог прочистил горло.
– Рано пока об этом говорить.
– Вы – человек бывалый и осторожный, – ответил Лемезурье, – в то время как я – любитель всяческих начинаний. Для меня это как заблуждение или порок. Впрочем, мне никогда не удается ничего довести до конца.
Пэлфримен, который не представлял жизни без приверженности любимому делу, спросил:
– Скажите, Фрэнк, чего же вы достигли? Я не могу поверить, что совсем ничего.
– Намерения у меня всегда наилучшие, – усмехнулся Лемезурье. – Наверняка есть некое предназначение, найти которое мне еще предстоит. Всю жизнь я только и делаю, что изыскиваю, так сказать, способы. Именно поэтому рассказывать свою историю я не стану. Слишком она обрывочна, у вас голова кругом пойдет. Для таких, как я, эта колония – место гиблое. Уж очень тут много перспектив. Разве я могу нажить состояние на мериносах, если при этом мечтаю о золоте или о внутреннем море, кишащем тропическими птицами? Порой мне кажется, что все заблуждения и сомнения, все самое худшее во мне сольется в единое целое и я сотворю нечто красоты невероятной! Я называю это заблуждением устрицы.
Он рассмеялся.
– Думаете, я пьян? Мистер Пэлфримен, вы не верите в мою жемчужину!
– Поверю, – ответил сдержанный англичанин, – если смогу ее увидеть и потрогать.
Лемезурье ничуть не смутился. Мерцающее солнечными бликами утро на берегу залива и само было подобно жемчужине. Прислушиваясь к будничному шуму порта, грохоту экипажей и гвалту голосов, он удивлялся, почему прежде так ненавидел это радушный город. Благодаря скорому отплытию он смог наконец разглядеть его прелесть, ведь и ландшафт становится виден лишь по мере удаления от него наблюдателя. Прошлое – иллюзия, миазм. Молодые смоковницы у залива Моретон уже начали раскрывать сжатые ладони листьев. Две женщины-аборигенки, одетые в убогие лохмотья, с важным видом восседали возле костра, запекая в углях свежепойманную рыбу. Курносый мальчишка, оживлявший эту достойную сожаления картину, торговал горячими пирогами с бараниной, уложенными в деревянный ящик. Он расхаживал по пристани и подзывал покупателей, глазел по сторонам и ковырялся в носу. О другом месте жительства мальчик и не мечтал. Лемезурье испытал острое чувство ностальгии и опасение, что покидает именно тот берег, к которому всегда стремился.
Полный благих намерений Пэлфримен, раздраженный откровениями молодого человека, пообещал себе загладить вину перед ним позднее и теперь с удовольствием наблюдал за группой всадников, которая спустилась с восточного склона холма и уже подъехала к пустырю у гавани.
– Я вас ненадолго покину, Фрэнк, – сказал он, прикрывая добродушием облегчение, – и поговорю с друзьями.
Лемезурье молча кивнул, принимая утрату как должное. Его темная, мрачная натура возобладала. Раз у Пэлфримена есть друзья, то он ему не друг. Люди, равно как и намерения, никогда не принадлежали молодому человеку долго. Поэтому он угрюмо наблюдал, как англичанин спешит по трапу на встречу, из-за которой станет частью этого города. И Пэлфримен туда же! Лемезурье готов был обрушить проклятия на прямую и беззаботную спину своего бывшего друга, если бы не имел основания полагать, что орнитолога этим не проймешь.
Всадники приближались, бока лошадей сияли в солнечном свете, гривы развевались на ветру, упряжь позвякивала, ноздри нетерпеливо трепетали, с губ летела пена. Матросы принялись разглядывать джентльмена с двумя леди и чуть поодаль офицера в алом мундире, который управлялся со своей лошадью с огромным мастерством. Офицер ничуть не уступал ей в силе. По манере езды было сложно понять, чего он добивается от бедного животного, но выглядели его маневры впечатляюще.
Юная миловидная леди, тоже, судя по всему, наездница опытная, осадила коня и скрылась в облаке пыли.
– Том! – окликнула она. – Ах, Том, будь осторожнее!
В голосе ее не чувствовалось ни тени досады, лишь ласковая убедительность той, что все еще влюблена. Офицер не то чтобы выругался, однако ответил со сдержанным раздражением, в котором сквозила мужественная нежность:
– Это самый жесткий рот во всем Новом Южном Уэльсе! – Он изо всех сил резко дернул трензель.
Всадники продолжили движение.
На взмыленной лошади возвышался пожилой кирпично-красный джентльмен. Его ладные икры прекрасно управлялись с упитанным животным. Дорогая касторовая шляпа и манера твердо держать поводья свидетельствовали о том, что человек он серьезный. Джентльмен снисходительно и в то же время по-хозяйски оглядел корабль и разнорабочий люд, занятый при погрузке. Годы на солнце сделали его мягче. Или же он начал подозревать, что теряет свою власть?
Они подъехали.
Немного в стороне, на вороной кобыле, чья блестящая шея и голова гордо вздымались над запруженным людьми и грузами причалом, с равнодушным видом ехала вторая юная леди. Она сидела совершенно неподвижно, словно рассчитывала остаться незамеченной, однако тем самым привлекала еще больше внимания.
По крайней мере, именно к ней возвращались взгляды любопытных матросов и грузчиков после того, как они жадно изучили более понятные детали. Остальные всадники были людьми из плоти и крови, как и они сами. Эта же девушка, хотя она поднимала голову и сдержанно улыбалась солнцу или жизни, поступала в соответствии с некоей системой поощрения или же потому, что настало подходящее время. Мужчины при виде нее хмурились, но не гневно – скорее, сосредоточенно, и теребили бородавки на коже, выбирали вшей из волос или касались других привычных мест. Они робели перед тем, к чему не суждено прикоснуться. Случись молодой женщине на вороной лошади перепрыгнуть через борт, она застала бы их врасплох и нанесла бы им телесные повреждения.
Однако в то же время эта девушка – ей было лет двадцать, не больше, – в иные моменты проявляла заметную нерешительность, несмотря на холодную уверенность бледной, воскового оттенка кожи. Разговаривала она не столь непринужденно, как умеют истинные леди при любых обстоятельствах. Ей мешали жесткие рамки, в которые она сама себя загнала.
– Что за величественное зрелище, Лора! – воскликнул упитанный джентльмен больше сам себе, чем племяннице.
– Думаю, эти корабли никого не оставили бы равнодушным, – с сознанием долга отозвалась девушка.
«Боже, что за чушь я несу», – подумала она и прикусила бледную губу. Девушку ничуть не утешило, что временами в ней бушевал огонь вдохновения – увы, важно лишь то, как ты действуешь здесь и сейчас. Она до боли стиснула поводья и хлыстик, зажатый в той же руке, – красивую, но бесполезную игрушку с перламутровой рукояткой. Она носила его с собой в память об одном старике, которого не видела с детства.
– Вон у той девицы – кислая физиономия, – заметил матрос, который разговаривал с Пэлфрименом.
– Мне бы твои глаза, Дик. Сам-то я особо не вижу, – признался его сотоварищ. – Вообще-то она леди.
– Кислая физиономия никого не красит. Какая разница, леди она или нет?
– Разница есть, Дик. Тут тебе ничего не светит.
– Там даже подержаться не за что!
– Тебе бы и не предложили.
– Я – за права простого человека, – проворчал матрос, которому приснился сон.
– Ладно, Дик. Я-то не оспариваю твоих прав, но есть пазы, в которые они не войдут так просто. Эта леди встретит какого-нибудь джентльмена, и они состыкуются так же верно, как «ласточкины хвосты».
– Ха-ха! – рассмеялся сновидец. – Хотя к этому все и сводится.
– Ты и правда так думаешь? – спросил его товарищ, который благодаря привычке к размышлению и жизни в открытом море поднялся от низин наивного простодушия к высотам житейской умудренности. – Ну ты и котяра, Дик! Леди терпеть не могут, когда вокруг юбки вьется какой-нибудь бродячий кот. Им подавай любовь. Как видишь, эта – тоже не исключение.
– С чего ты взял, что она влюблена? Ты ведь и разглядеть ее толком не можешь – едет себе на лошади, расстояние приличное, раньше вы не встречались!
– Такова их природа, и так они коротают время, когда не глядят в книжки и не дуют в свои перчатки. Видал я этих леди через окошко. Видал, как они пишут письма и надевают накладные волосы. При таких обстоятельствах, Дик, поневоле узнаешь, что они там замышляют.
– Все-таки ты хитрец, – рассудил Дик, – да еще и в окна подглядываешь.
Кавалькада пересекла пустырь у пристани и обогнула груду ящиков и прочего груза, который еще не перенесли на борт, отдельные кучки пришедших пораньше зевак, скинувших из-за жары верхнее платье мужчин и их женщин, разодетых в пух и прах. Всадники остановились и обменялись приветствиями с подоспевшим орнитологом.
– Представляю, что вы чувствуете при подобном событии, Пэлфримен! – сказал коммерсант.
Для мистера Боннера действия и чувства людей в определенных ситуациях сводились к некоему стандартному набору условностей. Он и сам вел себя либо весело, либо серьезно, подчиняясь общему правилу. Для подобных личностей, собственно, и пишутся исторические брошюры и газеты.
Теперь он упивался соответствующими событию эмоциями, и, хотя принимал наличие сходных чувств у других провожающих как должное, его ничуть не заботило, так это или нет. Мистеру Боннеру самому было столь хорошо, что в поддержке со стороны он не нуждался.
Пэлфримен, пару раз пытавшийся заговорить, никак не мог подобрать выражения помягче.
– Еще слишком рано… – начал он и умолк.
Коммерсанту, впрочем, ответы не требовались.
– Дело за ветром, – с нетерпением проговорил он. – Ветра все нет!
Коренастая лошадка заставляла его кружиться вокруг своей оси, и мистер Боннер получал обзор на все триста шестьдесят градусов.
– Говорят, часа в три погода переменится, – добавил Пэлфримен, хотя это было совершенно излишне.
– Переменится? Ах да, ветер, – вспомнил коммерсант. – Горячий и сухой ветер с юга обычно поднимается около трех часов пополудни.