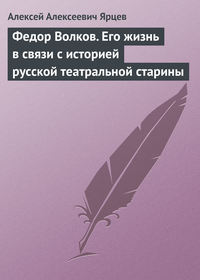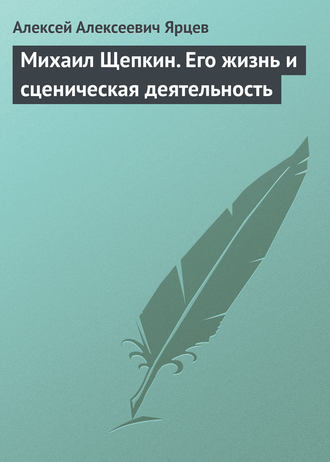 полная версия
полная версияМихаил Щепкин. Его жизнь и сценическая деятельность
Письмо, из которого приведены эти выдержки, интересно и в другом отношении: оно содержит отзыв Щепкина об известной «Развязке Ревизора». Но прежде чем сказать об этом отзыве, вернемся немного назад и проследим период между появлением на свет «Ревизора» и посылкой к Щепкину Гоголем «Развязки Ревизора».
После первой постановки «Ревизора» отношения между Гоголем и Щепкиным сделались вполне дружескими, а со стороны восторженного артиста они переходили чуть ли не в обожание. В Москве друзья встречались у Аксаковых, у Погодина, наконец, Гоголь часто навещал и дом своего земляка. И Щепкин, бывая в Петербурге, останавливался у Гоголя. Переписка между ними носит характер полной искренности и понимания друг друга. Само собою понятно, что Щепкин после «Ревизора» ждал от Гоголя новых созданий, где и он сам мог бы применить свои силы. Репертуар по-прежнему не удовлетворял Щепкина. В одном из писем своих к Гоголю в конце 1842 года он снова жаловался на отсутствие работы, на пустоту репертуара.
«Поприще мое, – пишет он, – и при новом управлении (театром) без действия, а душа требует деятельности, потому что репертуар нисколько не изменился, а все то же, мерзость, и мерзость и вот чем на старости я должен упитывать мою драматическую жажду. Знаете, это такое страдание, на которое нет слов. Нам дали все, то есть артистам русским, – деньги, права, пенсионы, и только не дали свободы действовать, и из артистов мы сделались поденщиками. Нет, хуже: поденщик свободен выбирать себе работу, а артист – играй, играй все, что повелит мудрое начальство».
И Гоголь не оправдывал надежд своего друга и не давал ничего нового для сцены, как ни побуждал его к тому Щепкин. «Женитьба» оставалась у автора и много раз переделывалась в течение десяти лет, с 1833 по 1843 год. Наконец Щепкин получил «Женитьбу» раньше появления комедии в печати, в нарочно переписанной для него рукописи. А когда сочинения Гоголя вышли отдельным изданием, то 28 ноября 1842 года Гоголь прислал Щепкину формальное заявление, которым отдавал в распоряжение артиста все драматические отрывки и сцены, напечатанные в 4-м томе его сочинений, с правом ставить их когда угодно и где угодно в свои бенефисы. «Женитьба» и «Игроки» шли в первый раз в бенефис Щепкина 5 февраля 1843 года. В первой пьесе бенефициант играл роль Подколесина, во второй – Утешительного. Обе эти роли не удались Щепкину. Скоро он отказался от роли Подколесина и стал играть в «Женитьбе» Кочкарева, и на этот раз с обычным успехом.
Отдавая Щепкину все свои драматические произведения и выражая этим свою любовь и уважение к нему, Гоголь советовал пользоваться этими отрывками умеренно, уверяя, что больше писать комедий уже не будет. А на продолжавшиеся сетования Щепкина об отсутствии работы Гоголь отвечал:
«Это стыдно вам говорить. Разве вы забыли, что есть старые заигранные, заброшенные пьесы? Разве вы забыли, что для актера нет старой роли, что он нов вечно. Теперь-то именно, в минуту, когда горько душе, теперь-то вы и должны показать в лице свету, что такое актер. Переберите-ка в памяти вашей старый репертуар, да взгляните свежими и нынешними очами, собравши в душу всю силу оскорбленного достоинства».
Далее Гоголь продолжает:
«Вы напрасно говорите в письме, что стареете. Ваш талант не такого рода, чтобы стареться. Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас было слишком много, который ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на вашу роль. Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли, тогда как прежде вы все еще как-то метались… Благодарите Бога за всякие препятствия… Они необыкновенному человеку необходимы… Увидите, что для вас настанет еще время, когда будут ездить в театр для того, чтобы не проронить ни одного слова, произнесенного вами, и когда будут взвешивать это слово».
В этом же письме Гоголь увещевает Щепкина хорошенько разучить и разыграть «Ревизора», первой постановкой которого автор был недоволен, а через четыре года, в 1846-м, он хочет, чтобы «Ревизор» был непременно поставлен вместе с «Развязкой Ревизора». Но Щепкина «Развязка» привела в негодование. Он ясно понимал, какое натянутое объяснение смысла «Ревизора» хочет дать Гоголь своей «Развязкой».
«Прочтя ваше окончание „Ревизора“, – пишет Щепкин Гоголю, – я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев „Ревизора“, как живых людей… Отнять их у меня и всех вообще – это было бы действие бессовестное. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Вы из целого мира собрали несколько человек в одно сборное место, в одну группу; с этими в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не дам, не дам, пока существую. После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».
Через несколько лет (в 1852 году) Щепкину пришлось испытать тяжкое горе: закрыть гробовую крышку над прахом горячо любимого им Гоголя. В то время всходило уже новое светило русской драматургии – появились первые произведения А. Н. Островского. Щепкин критически отнесся к новому направлению. Трудно определить истинную причину его нерасположения к произведениям драматурга, талант которого он уважал. Может статься, по мнению современника, он мало знал тот общественный слой, к которому принадлежат действующие лица в этих произведениях; или не находил в этих лицах истинного комизма, или изображение этого комизма казалось ему слишком реальным. В пьесах Островского Щепкин почти не выступал. Из главных типов Островского он изобразил Большова («Свои люди – сочтемся») и Любима Торцова («Бедность не порок»).
Последнюю роль он играл лишь во время своего приезда в Нижний Новгород, в 1857 году. Об этой поездке Щепкина надо сказать несколько слов. На этот раз не гастроли потянули в самой середине зимы 70-летнего старика в Нижний Новгород. Он поехал туда, чтобы навестить проживавшего там по возвращении из ссылки своего друга и земляка, поэта Т. Г. Шевченко. Дружба между ними была давнишняя, и Щепкин имел большое влияние на Шевченко. Чтобы судить о том, как дорог был поэту его «единый друг», «великий чудотворец», как называет он артиста в посвященных ему стихотворениях, приведем несколько выдержек из дневника Шевченко, относящихся именно к 1857 году.
«Праздникам праздник и торжество из торжеств, – пишет 24 декабря Шевченко, – приехал М. С. Щепкин». А через шесть дней после отъезда Щепкина в Москву находим в дневнике Шевченко такую горячую, вылившуюся из души исповедь: «Шесть дней, шесть дней полной радостно-торжественной жизни! И чем заплачу я тебе, мой старый, мой единый друже? Чем заплачу я тебе за это счастие? За эти радостные, сладкие слезы? Любовью! но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею». На следующий день Шевченко не успокаивается и отмечает в дневнике: «Я все еще не могу прийти в нормальное состояние от волшебного, очаровательного видения. У меня все еще стоит перед глазами городничий, матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов. Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся, друг мой единый, искренний мой, незабвенный Михайло Степанович Щепкин». Когда Шевченко разрешено было жить в столице, он приехал в Москву и поселился у Щепкина. На Шевченко, измученного житейскими невзгодами, Щепкин имел благодетельное, умиротворяющее влияние.
Из событий последних десяти лет жизни Щепкина нужно выделить общественное чествование его заслуг и таланта. В лице своих избранных представителей русское общество два раза почтило артиста торжественным признанием его заслуг. Особенно замечательны были эти чествования в то время, вообще небогатое выражениями общественного мнения.
В апреле 1853 года Щепкин был вынужден взять отпуск на пять месяцев для поездки за границу, в Южную Францию и Италию, в связи с болезнью своего сына и заботами о его лечении. Перед отъездом друзья артиста устроили в честь него прощальный обед. 10 мая в саду при доме Погодина собрались почитатели Щепкина, чтобы напутствовать его добрыми пожеланиями. Тут были литераторы, профессора, артисты; говорили речи, читали стихи, посвященные заслугам и таланту отъезжающего. Погодин говорил о влиянии Щепкина на произведения Гоголя; Грановский восхвалял то терпение и тот труд, с которыми Щепкин неуклонно шел по пути личного развития и своего служения русскому искусству. В ответ на теплые приветствия Щепкин указывал на то, что не себе он обязан своей славой, но тому кругу, в котором ему посчастливилось быть.
Еще большей торжественностью отличалось празднование 50-летнего юбилея сценической деятельности Щепкина 26 ноября 1855 года. В честь юбиляра дан был торжественный обед в залах художественного класса. За обедом не было конца речам и приветствиям, в которых характеризовался Щепкин как артист и человек, и определялось его место среди знаменитых наших деятелей. Речи произнесли М. П. Погодин, К. П. Барсов, С. П. Шевырев, Н. А. Рамазанов, С. М. Соловьев и другие. Письменные приветствия были прочитаны от имени М. Н. Каткова, П. Н. Кудрявцева, А. Д. Галахова, от московских и петербургских артистов и от петербургских литераторов: Гончарова, Тургенева, графов А. и Л. Толстых, Некрасова, Писемского, Майкова, князя Вяземского, Панаева, Дружинина и других.
Щепкинский праздник был первым юбилейным чествованием русского актера и до нашего времени единственным, – и по своей форме, и по своему значению. Это не было личное торжество Щепкина, но торжество труда и таланта, воплощенных в артисте-юбиляре.
На склоне дней своих Щепкин получил полную оценку своих заслуг, но и не думал почить на лаврах, хотя год от года силы его слабели, особенно стала изменять память. Случалось, что он забывал слова в середине роли или не знал, как начать ее. Это заставляло его еще больше работать, чтобы взять верх над старостью. До известной степени сила воли и труд побеждали немощь. Даже за полгода до смерти у 75-летнего Щепкина, по отзывам критики, бывали такие чудные моменты игры, что зрители дивились бодрости артиста и классической художественности его исполнения, и лишь слабый голос обличал в нем упадок сил.
Щепкин не раз подавал в отставку, но дирекция не отпускала его. Это радовало артиста; он говорил: «Спасибо им – для меня расстаться со сценой значило бы расстаться с жизнью. Я могу быть полезен хоть своей бранью: меня, как старика, простят, а иной раз и послушают». В 1860 году Щепкин изъявил желание получать вместо поспектакльной платы по 2 тысячи рублей в год. Ему, может быть, уже казалось, что благодаря большой поспектакльной плате и старости его начинают обходить в репертуаре. Желание Щепкина, «не в пример другим», было удовлетворено. В это время особенно трудно давались ему новые роли. В 1862 году он взял для своего бенефиса роль Кузовкина в «Нахлебнике» Тургенева. Он страшно волновался, не зная, хватит ли у него сил сыграть эту роль. Перед спектаклем он едва стоял на ногах, но, лишь вышел на сцену, почувствовал в себе прежнюю силу. Он одушевлялся и вырастал с каждой минутой, пока совершенно не овладел публикой.
В последние годы жизни Щепкин не переставал ездить в провинцию, несмотря на дряхлость. Поездки эти уже не были так удачны, как в былое время. Ослабевшее здоровье Щепкина еще больше расстраивалось длинными переездами. Упадок сил когда-то любимого провинцией артиста отражался и на материальном, и на артистическом успехе.
В апреле 1863 года с разрешения государя Щепкину был предоставлен на лето отпуск в Крым с сохранением содержания и с пособием в 500 рублей. Его радовало, что он еще не забыт, что его еще ценят. Путешествием в страну благодатного юга престарелый артист надеялся укрепить свои силы. Грустно было больному старику ехать в такую дальнюю дорогу одному, без привета, без призора. При встречах со знакомыми он жаловался на болезнь и скуку, но не ждал еще смерти и оживлялся под благодетельным влиянием южной природы. К болезни присоединялась и нравственная тягота, которую он терпеливо должен был выносить.
Щепкин пробовал выступать на сцене, но публика не узнавала в дряхлом старике прежнего Щепкина и даже давала очень больно ему это почувствовать: был случай, что приходилось за отсутствием зрителей отменять даже такой спектакль, как «Горе от ума».
В Ялту Щепкин приехал совсем больной, страдая ужасной одышкой. Сначала он было поселился у своих знакомых, но вскоре безнадежно больного старика перевезли в гостиницу. Последние часы жизни умиравшего были тяжелы для него. Кругом не было никого близких, и чужая рука закрыла очи великому артисту и человеку, весь свой долгий век жившему среди людей и для людей. Скончался Щепкин 11 августа 1863 года.
Похоронили его в Москве, на Пятницком кладбище, 20 сентября. Масса публики провожала похоронную процессию. Гроб с прахом Щепкина опустили в землю вблизи могилы друга и учителя покойного артиста, Грановского, как он сам завещал. На могильном памятнике Щепкина, представляющем большую цилиндрическую глыбу, написано: «Михаилу Семеновичу Щепкину. Артисту-человеку». Эти слова содержат в себе глубокий смысл: они яснее и полнее пышных надгробий характеризуют жизненный путь Щепкина.
Глава IV. Характеристика М. С. Щепкина как артиста и человека
«Жить для Щепкина – значило играть в театре, играть – значило жить», – этими словами на юбилее Щепкина С. Т. Аксаков определил и жизнь его, и деятельность. Это определение может служить прекрасным эпиграфом к той главе биографии Щепкина, в которой приводится его характеристика как артиста и человека.
С самого раннего детства, как мы видели, Щепкин пристрастился к театру и начал упорно отстаивать свою любовь к нему и свои взгляды на любимое дело, – с того самого дня, когда он храбро защищал «Вздорщину» от нападок товарищей-школьников. Проходит несколько лет. Щепкин готовится выступить на «настоящей» сцене и читает роль перед актрисой Лыковой, которая в награду за удачное чтение целует маленького актера. Он плачет от радости. Эта черта – ценить мнение знающих людей – осталась за ним на всю жизнь. Как ему были лучшей наградой одобрение и советы уездного учителя, Лыковой, Барсовых, так и потом, в пору полного блеска своего таланта, Щепкин выслушивал и глубоко ценил советы Грановского, Аксакова и других своих друзей.
Суровая школа крепостной жизни, – как бы она ни облегчалась для Щепкина благоволением к нему господ, – а затем скитальческая жизнь провинциального актера научили Щепкина понимать, что значит труд и какую он имеет цену. Вот он уже в Полтаве, в 1818 году. Талант его уже тогда поддерживает существование целой труппы, – но это не увлекает молодого артиста, не заставляет его забыться и надеяться на одно лишь свое дарование. Щепкин настойчиво и много работает. Он не только тогда твердо знал всегда свои роли, рассказывает современник, но перерождался в представляемое им лицо до того, что за полчаса до поднятия занавеса ходил по сцене совершенно отдельно от всех.
Проходит 50 лет сценической деятельности, и другой современник, наблюдавший несколько десятилетий и жизнь, и игру Щепкина, подтверждает то же, что и очевидец далекого прошлого. Во все 50 лет театральной «службы» Щепкин не только не пропустил ни одной репетиции, но даже ни разу не опоздал. Никогда никакой роли, хотя бы то было в сотый раз, он не играл, не прочитав ее накануне вечером, ложась спать, как бы поздно ни воротился домой, и не репетируя ее на утренней пробе в день представления. Вся жизнь Щепкина и вне театра была для него постоянно школой искусства; везде он находил возможность что-нибудь заметить, чему-нибудь научиться. Роли Щепкина никогда не лежали без движения, а совершенствовались постепенно и постоянно. Гуляя или отправляясь в карете на спектакль, он не забывал повторять и обдумывать роль, а возвратясь домой после спектакля, перечитывал ее снова, чтобы проверить, не сделал ли он ошибок. Суфлер для Щепкина был не нужен; незнание роли он называл двойным невежеством – и перед публикой, и перед искусством. Играть ему приходилось почти ежедневно; много ролей было ему не по душе, но ни к одной он не относился небрежно и, играя какой-нибудь пустой водевиль, готовился как будто к чему-то страшному… Под старость, с упадком физических сил, он еще больше стал заботиться о тщательности исполнения, каких бы нравственных усилий это ни стоило. В последний год своей жизни, весной, Щепкин гастролировал в Нижнем Новгороде. Играя в одном водевиле, он вдруг почувствовал, что память ему изменила, и остановился на полуслове. Суфлер что-то шептал, но артист не мог уловить звуков. Наконец Щепкин подошел к суфлерской будке и громко сказал: «Не слышу!» Суфлер на весь зал проговорил забытые артистом слова, пьеса продолжалась и кончилась благополучно. После спектакля Щепкин был в страшном волнении и негодовании на себя за случившееся и настоял, чтобы та же пьеса была поставлена на следующий спектакль. «Я хочу доказать публике, что могу играть роль без запинки, как следует, не так, как сегодня», – говорил он. Пьеса была поставлена второй раз, и Щепкин доказал то, что хотел.
Вспомним, как много не только труда, но и внутренней борьбы надо было вынести Щепкину, чтобы, посмотрев игру князя Мещерского, отрешиться от прежних приемов и осуществить в своей игре правильно понятые задачи искусства. Достигать благоприятных результатов своего труда было тем тяжелее для него, что он лишен был солидного общего образования и в молодости не имел руководителей и советников. Поэт Богданович, мелькнувший светлым лучом в детстве Щепкина, так один и остается в провинциальный период деятельности его как человек, желавший верно направить развитие молодого артиста. Во времена перекочевок с труппой уже нет смысла отыскивать таких людей среди окружавших Щепкина. Приходилось до всего доходить своим умом, подвигаться вперед долгим и трудным путем самообразования и саморазвития, при помощи природных способностей, первоначальных школьных знаний, но главное – восприимчивости и живого ума. Приехав в Москву, Щепкин вступает в круг людей, живших высшими духовными интересами того века. И он не остается чужд этим интересам. Без всякого ложного стыда сознавая свои пробелы в образовании, он до старости не перестает учиться всему полезному, что было ему неведомо раньше. Его друзья, ученые и литераторы охотно делятся с ним своими знаниями и помогают ему в его работе. Для него переводят с иностранных языков целые статьи, пригодные для изучения роли, как это было, например, при подготовке к мольеровскому «Скупому».
Все, кому пришлось сказать на юбилее Щепкина свое приветственное слово, считали необходимым упомянуть о его артистической добросовестности и любви к труду и искусству. Представители сцены, со своей стороны, утверждали на том же юбилее, что Щепкин для них служил образцом исполнения обязанностей, строгого отношения к делу, необыкновенной добросовестности и непритворной любви к миру театра. Щепкин высоко ставил труд как нравственную силу. Недаром он так любил читать из водевиля «Жакартов станок» стихи о труде. В них воздавалась хвала всякому труду на пользу родины, в какой бы форме он ни проявлялся. И Щепкин проникновенно произносил эти стихи, заканчивавшиеся так:
Честь и слава всем трудам,Слава каждой капле пота,Честь мозолистым рукам,Да спорится их работа.Всю приобретенную им славу Щепкин приписывал лишь своему труду и тем, кто укреплял его нравственно и развивал умственно. «Я, – говорил он на обеде перед отъездом за границу, – не был студентом, но я много обязан Московскому университету в лице его преподавателей. Одни научили меня мыслить, другие – глубоко понимать искусство». Щепкин всегда стремился к тому, чтобы его умственное и художественное развитие стояли на одном уровне с его громадным талантом. Отличительное качество его состояло, по выражению Аксакова, в чувстве священного долга перед искусством, долга неоплатного, каков бы ни был талант человека.
Такое строгое отношение к себе и своему делу вытекало у Щепкина и из его любви к театру. Любовь эта была глубоко сознательна и не подчинялась посторонним влияниям. Он сам в письме к Гоголю говорит, что его любовь к театру – «почти сумасшествие». Все, что соприкасалось с театром, было ему дорого. Его огорчал упадок драматургии и театрального дела вообще; это мы уже видели из его писем к Гоголю и Сосницкому. Но он совершенно оживал, когда на сцене появлялись хорошие произведения. Для своих личных выгод Щепкин не унижал искусства. Никогда, по наблюдению Аксакова, он не жертвовал истиной игры для эффекта, никогда не выставлял своей роли напоказ, ко вреду играющих с ним актеров, ко вреду лада и цельности всей пьесы. Напротив, он сдерживал свой жар и силу его выражения, если другие лица не могли отвечать ему с такой же силой; чтобы не задавить других лиц в пьесе, он давил себя и охотно жертвовал самолюбием, если характер изображаемого лица не искажался от таких пожертвований.
Любовью к искусству характеризовались отношения Щепкина с начинающими на сценическом поприще. Когда ему было предложено заниматься с воспитанниками театральной школы, он весь отдался своему делу. Он любил, как сказано о нем в одних воспоминаниях, свою любезную школу от души, как страстный ботаник – свой учебный садик. Своих учеников он не мучил, по обычаю того времени, заучиванием с голоса и предоставлял им свободно работать. Щепкин обладал проницательностью и угадывал таланты. Молодые люди, посвящающие себя театру, были всегда его желанными гостями, находили у него приют, пособие, одобрение. Незадолго до смерти он приютил одного юношу, увлекшегося театром и приехавшего из провинции. Щепкин с радостью принял его и уладил много препятствий, чтобы его устроить. «Мне хотелось бы, – говорил он, – дожить до того дня, когда он сыграет Чацкого, явиться с ним в последний раз перед публикой, послушать, как ему будут рукоплескать, и умереть на другой день». Таких случаев было немало в его жизни.
Отеческое участие возбуждали в Щепкине не одни новички, но и артисты с именем. Благодаря его авторитетности и заслуженной славе все слушали его советов, которые вызывались не личными его выгодами или самомнением, но желанием помочь артистам и глубоким пониманием сценического искусства. По своей горячей артистической натуре Щепкин не мог оставаться равнодушным при ошибках других. Он часто говаривал, что в искусстве, как и в религии, тот будет анафеме предан, кто, видя грех и заблуждение другого, не захочет его остановить или образумить.
Своим сыновьям Щепкин постарался дать прекрасное образование, но ни одного из них не пустил по театральной дороге. Они пошли иными путями, потому что никто из них не обнаружил дарования. А между тем при том влиянии, которым пользовался Щепкин в театральном мирке, ему ничего не стоило посадить своих детей на казенный хлеб.
Театру Щепкин приписывал свое нравственное совершенствование. Он объяснял это тем, что должен был для верной передачи на сцене изучать все темные стороны человека, и, ознакомившись с ними так близко, возненавидел их.
Свои взгляды на искусство и на обязанности актера Щепкин высказывал всегда горячо и нисколько не уклонялся от раз навсегда усвоенного принципа. Естественность, искреннее чувство, живая передача роли – вот его теория драматического искусства. Труд, добросовестность, непрерывная работа над собой – вот его правила для актера. Мы приведем несколько выдержек из писем его к двум начинавшим тогда свою карьеру деятелям сцены. Советы Щепкина, выраженные в этих письмах, при всей их краткости могут служить сценическим катехизисом для всякого серьезного артиста.
«Чтό бы значило искусство, – пишет он, – если бы оно доставалось без труда? Пользуйся случаем, трудись, разрабатывай Богом данные способности свои по крайнему своему разумению; не отвергай замечаний, а вникай в них глубже, и для поверки себя и советов всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица, изучай хорошенько его общественный быт, его образование, его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни. Когда все это будет изучено, тогда какие бы положения ни были взяты из жизни, ты непременно сыграешь верно… Совершенство не дано человеку, но, занимаясь добросовестно, ты будешь к нему приближаться настолько, насколько природа дала тебе средств. Никогда не думай смешить публику. Следи неусыпно за собой; пусть публика тобой довольна, но сам к себе будь строже нее – и верь, что внутренняя награда выше аплодисментов. Старайся быть в обществе сколько позволит время, изучай человека в массе, не оставляй ни одного анекдота без внимания, и всегда найдешь предшествующую причину, почему случилось так, а не иначе: эта живая книга заменит тебе все теории, которых, к несчастью, до сих пор нет в нашем искусстве. Не пренебрегай отделкой сценических положений и разных мелочей, подмеченных в жизни, но помни, чтоб это было вспомогательным, а не главным предметом: первое хорошо, когда уже изучено и понято совершенно второе».