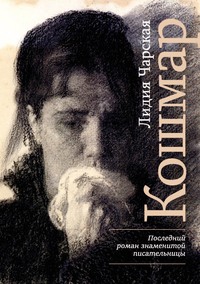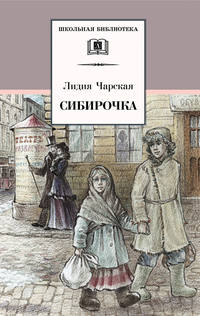полная версия
полная версияЕе величество Любовь
Она присаживается к столу и смотрит на Маргариту Федоровну усталыми, встревоженными глазами. Она машинально следит за тем, как та перебирает дорогой севрский фарфор, потом безмолвно встает и направляется к двери. В смежной со спальней больной матери комнате Вера стоить несколько минуть, чутко прислушиваясь к тяжелому дыханью спящей за дверью, а потом проходить к себе.
Она спит в бывшей комнате Китти, перебравшись сюда с момента отъезда старшей сестры, чтобы быть каждую минуту готовой помочь больной среди ночи.
В этой комнате жила когда-то, очень давно, их бабка, мать отца, словно передавшая ей, Вере, свой темперамент, свою способность любить насмерть и весь скрытый трагизм страстности её натуры. Недаром она так полюбила и Веру и оставила ей все, что имела, после себя. Она точно предчувствовала, повторение себя, своего типа, в этой тогда еще крошке-девочке. Уже будучи матерью женатого сына, покойная Марина Бонч-Старнаковская бежала с красивым поляком, австрийским гусаром, к нему на родину. Когда же красавец-австрияк разлюбил ее и променял на другую, более молодую, любовницу, Марина Дмитриевна, вернулась в Отрадное с тем, чтобы поцеловать маленьких тогда внучат, особенно свою любимицу Веру, испросить прощения у мужа и покончить самоубийством. Ее вытащили мертвую из пруда, отнесли к обезумевшему от горя мужу, простившему ей все и обожавшему эту странную и мятежную до седых волос женщину.
Вера знала, что в её жилах течет та же горячая, не знающая удержу, кровь бабки Марины Дмитриевны. Недаром и похожа она на нее, как две капли воды.
Неужели и ее ждет такая же печальная участь?
Нынче она думает об этом снова и бледная, встревоженная подходить к окну. Дождь идет не переставая, и звуки флейты еще поют там, среди ночной темноты. Когда замолчит этот Размахин? Душу надрывает его игра! С нею острее чувствуются боль тоски и муки воспоминаний.
«Что-то он делает теперь? Где он сейчас?»
– Где ты, солнышко мое? Где ты, моя радость? – страстно шепчет девушка, протягивая вперед смуглые тонкие руки.
В течение этого времени разлуки она не охладела, не изменилась к Рудольфу; наоборот, её чувство как будто выросло и окрепло, и нет ни одного часа на дню, чтобы она не думала о нем.
* * *Муся просыпается среди ночи и садится встревоженная на постели.
Прислушавшись, она говорить спящей тут же подруге:
– Варюша, проснись… Что это такое? Как будто пожар? Ты слышишь? Что это за шум, Варюша?
Темная головка «мусиной совести» с трудом отрывается от подушки, спокойный голос бормочет спросонок:
– Спи, спи! Чего тебе не спится? Еще рано! Спи!
Но шум многих голосов, какие-то крики, пыхтенье автомобиля, лошадиный топот и ржанье, ворвавшееся как будто во все углы и закоулки усадьбы, сразу протрезвляют заспавшуюся Карташову.
– Боже мой, Мусик! Неужели же это – немцы?
Муся вся съеживается от ужаса.
– Так скоро, не может быть?
– Ах, Господи, все может быть в это ужасное время! Одевайся скорее! Или нет, постой, я раньше посмотрю.
Варюша вскакивает с постели и бежит к окну босая, похолодевшей рукой отдергивает штору и с криком отступает назад, в глубь комнаты.
На дворе светло, как днем. Несколько ручных фонарей движутся во всех его направлениях. Огромный костер пылает на площадке пред домом. Вокруг него стоять какие-то люди в касках и шинелях в накидку. Они кажутся сейчас исчадиями ада в неверном освещении костра. Привязанный к деревьям лошади фыркают и ржут. В стороне пыхтит автомобиль. Кто-то отдает приказания твердым, громким, энергичным голосом.
Муся вздрагивает всем телом и спрашивает подругу:
– На каком языке он говорить, Варюша? Что?
– Немцы! Немцы пришли! Все пропало! – шепчет вместо ответа та, и лицо у неё и губы сейчас белы от ужаса.
Где-то за стеною слышится негромкий, жалобный плач женщины.
– Ануся! Боже мой, это плачет Ануся. Или Верочка? Верочка, сюда, к нам! – лепечет растерянная Муся и бесцельно бегает по комнате, хватая ненужные, попадающиеся под руку, предметы, торопливо одеваясь и наскоро закалывая косы.
– Одеваться… одеваться скорее! – роняют дрожания, бледные губы Карташовой.
Стук в дверь, сильный и резкий, заставляет девушек рвануться друг к другу, и замереть так, обнявшись, молча, с округлившимися от ужаса глазами глядя на дверь.
– Успокойтесь, девочки, ради Бога! Это – я, Вера.
– Боже мой! – восклицает Варя. – А мы думали…
– Нечего бояться. Вот дурочки! И чего вы боитесь? Ну, да, немцы здесь. Неприятельский отряд зашел сюда, по дороге к крепости… Кажется, драгуны. Офицеры были очень корректны и просили разрешить им через управляющего пробыть на постое в усадьбе с эскадроном одну эту ночь. Я велела сказать, что мама больна. Они обещали быть тихими. Солдаты расположились во дворе, офицеры в доме. Я распорядилась подать им ужин.
– Ужин нашим врагам? – почти с ужасом восклицает Муся, отскакивая от сестры.
– Что ты хочешь, девочка? – останавливает ее та. – Лучше мы сами предложим им, нежели они…
– Но ведь ты говорила, что они – рыцари. Так по какому же праву они требуют?
– По праву воюющих. Что вы? что вам надо, Маргоша? – неожиданно обращается Вера к хохлушке, в эту минуту, как пуля, влетевшей в комнату.
Та, задыхаясь от волнения, молчит несколько секунд и лишь затем отвечает:
– Вера Владимировна, голубочка моя! Да что же это такое? Да есть ли силы терпеть эти гадости, мерзости эти! Вы им ужин приказали подать, а они шампанского и коньяка требуют. Я по-ихнему бормотать не умею, а Ануська научилась… Она у Августа Карловича долго жила. ЕЙ немчуры таких пакостей наболтали, что девчонка сама не своя, сейчас ревет, ручьем разливается.
Вера прерывает ее:
– Постойте, постойте, Маргоша! Толком объясните, кто наговорил и что и кто шампанское требовал. Ничего не понимаю.
– Все требовали, все галдели… и старший их. Гостя они сюда, видите ли, еще из своих какого-то ждут, так угостить хотят чужим добром на славу. И еще, голубочка Вера Владимировна, хотела я севрский сервиз да серебро спрятать, так куда тебе: присосались к ним они, прости Господи, как клещи.
Лицо Веры нахмуривается, в глазах видно недоумение, но она все же говорить:
– Дайте им все, что надо, лишь бы не напугали мамы.
– Да, вот еще: вас они требуют…
– Как это требуют? Кто смеет требовать? – и стань Веры выпрямляется, а глаза зажигаются гневом и начинают сверкать.
– Ануся говорить. Ей приказали. «Веди, – говорить, – сюда твоих молодых хозяек; нам скучно ужинать без дамского общества. Да и сама, – говорит, – приходи; и на тебя, – говорить, – охотники найдутся».
– Что? – Губы Веры дергаются, тревожный огонь загорается в глазах. – Я выйду к ним. Мне кажется, здесь что-то не то, очевидно, какое-то недоразумение, – взволнованно говорить она и твердыми шагами направляется к двери.
Вдруг Муся вскидывается, как птичка, со своего места и поспешно бросается за нею.
– Не пущу тебя одну, не пущу, ни за что! Вместе пойдем, Верочка, пойдем вместе! – лепечет она, цепляясь за платье сестры.
– И я, и я тоже! – присоединяет к ней свой дрожащий голос и Варюша.
– Ой, напрасно, барышни, ой, куда лучше было бы задними ходами да прочь отсюда! – останавливаем их. Маргарита. – Сердце мое чует беду, да и карты в последние дни плохо показывали: все слезы и кровная потеря выходила. Уж куда лучше было бы бежать!
– Бежать без мамы? А как мы с мамой убежим? – тихо роняет Муся.
– Вздор один! Никуда мы не убежим, никуда нам бежать не надо, да и никаких ужасов в том, что немцы пришли сюда, еще нет. Конечно лучше всего обратиться к их командиру или начальнику и попросить его покровительства, – и Вера, говоря все это, хмурить свои черные брови.
Муся чувствует себя при этих словах, как под ударом бича.
– Просить покровительства у наших врагов, – восклицает она, – у людей, которые убивают мирных жителей, насилуют женщин, приканчивают раненых? Да я скорее дам себя расстре…
Девочка не доканчивает. В соседней комнате. слышатся звон шпор и громкие голоса.
Проходит еще мгновение – и у дверей появляются четыре высокие фигуры в офицерских мундирах прусского кавалерийского полка.
– Guten Abend, meine Fraulein![12] – говорит высокий, белокурый офицер, беглым взглядом окидывая четырех сбившихся в тесную группу девушек, и делает общий поклон.
Кланяются и остальные трое, с порога комнаты с любопытством разглядывая этих испуганных обитательниц дома.
– Не волнуйтесь, барышни, – говорить первый офицер по-немецки, – и успокойтесь, пожалуйста! Никто не причинить вам ни малейшего вреда. Напротив, мы все – я и мои товарищи – просили бы вас оказать нам честь и отужинать за столом вместе с нами.
Новый поклон и продолжительная пауза.
Вдруг Муся с горящими ненавистью глазами выступает вперед.
– Милостивый государь, – отвечает она по-немецки звонким, рвущимся на высоких нотах голоском, – я и моя сестра настоятельно просили бы вас вот именно избавить нас от этой чести.
– Муся, Муся, безумная! – испуганно шепчет Вера, изо всех сил дергая девочку за руку. – Что ты говоришь, Муся?
Пруссаки опешили в первый момент.
Однако белокурый нахмурился и снова говорить:
– Но почему же? Я не вижу пока никакой причины пренебрегать нашим обществом.
– Муся! Ради Бога, Муся! Ты погубишь нас! – лепечет чуть слышно бледная, как смерть, Карташова.
Но девочка только встряхивает в ответ кудрями и, пряча презрительную улыбку, готовую соскользнуть у неё с губ, отвечает с великолепным жестом королевы:
– Хорошо! Скажи им, Верочка, что мы окажем им эту честь, но я надеюсь, что и они не заставить нас раскаяться в нашей любезности.
Вслед за тем Муся первая с гордо поднятой головой проходить мимо озадаченных пруссаков.
Глава VII
Все комнаты старого дома нынче освещены, как в дни празднеств. В столовой сегодня особенно ярко и светло. Горят все свечи в люстре, все лампочки и бра на стенах. За столом сидят несколько прусских офицеров с ротмистром во главе. Сам он уже не молод, но, по-видимому, не прочь провести время в обществе интересных женщин и барышень. Его глаза то и дело обращаются в сторону Веры, которая, по настоянию непрошенных гостей, заняла за столом место хозяйки дома. Муся и Варюша сидят молча, с вытянутыми лицами и поджатыми губами. В лице первой запечатлелось выражение ненависти и гадливости, а черты Варюши искажены страхом. Обе они молчать, несмотря на все старания немцев втянуть их в разговор. Маргарита Федоровна не садится; она хлопочет с закуской и ужином, помогая Анусе, ошалевшей от страха. Вся остальная прислуга разбежалась и спряталась, где кто успел.
Немцы едят так, как будто не имели во рту ни кусочка всю неделю, но пьют еще больше. Поминутно сменяются бутылки на столе и хлопают пробки от шампанского. Их лица раскраснелись, языки развязались. Шутки стали нахальнее, смелее.
Маленькие глазки ротмистра уже все чаще и чаще останавливаются со странным выражением на строгом лице Веры; ему положительно импонирует эта оригинальная внешность русской. Он любить таких смуглых цыганок с черными этакими глазищами. Надоели, приелись белобрысые, бесцветные Амальхен и Клерхен там, у него на родине.
А четыре молодые лейтенанта увиваются вокруг подростков. Один из них, с рыжими распущенными, как у кота, усами, особенно липнет к Мусе. И белокурый – тот, что пришел к ним во главе депутации приглашать их к ужину, тоже не отстает от него. За Варюшей, испуганно и растерянно мигающей от страха, увиваются тоже двое пруссаков: один – совсем еще молодой, другой – толстый, круглый, с осовевшим от вина взглядом. Три других офицера мало обращают внимания на девушек и исключительно занялись ужином и вином.
Вдруг осовелый от шампанского белокурый офицер наклоняется к Мусе, и, прежде чем она успевает крикнуть и отстраниться, горячие, пропитанные запахом сигары и вина, губы касаются её похолодевшего маленького ушка.
– Что? Как вы смели? Как вы смели? – топая ногами, кричит девочка с исказившимся от отвращения и гнева лицом.
Ротмистр, только что доказывавший Вере всю несправедливость создавшаяся о немцах в России мнения, выставляющая их с самой отрицательной стороны, бросает в сторону молодежи быстрый, тревожный взгляд и тотчас же останавливает им офицеров.
– О, ничего особенная! – говорить он. – Не беспокойтесь, барышня, это – только маленькая шутка. Молодежи так свойственно увлекаться. И что в сущности убудет от вас, милая барышня, если вас поцелует один из героев прославленной прусской армии?
Но его блестящая речь пропадает даром; Вера поднимается возмущенная со своего места, её щеки вспыхивают, глаза загораются.
– Послушайте, – начинает она с пылающим лицом, – мы надеялись, что имеем дело с джентльменами, а вы… а вы позволяете себе оскорблять беззащитных девушек. Стыдитесь, господа!
– Оскорбляем беззащитных девушек? Ха-ха-ха!.. Но вы преувеличиваете, барышня! – легкомысленно смеется ротмистр. – И какое может быть оскорбление в том, что господин лейтенант позволил себе наградить поцелуем понравившуюся ему хорошенькую девушку?
– Но вы забываете, что эта девушка – не какая-нибудь Эмма или Лизхен, маленькая мещанка из предместья Берлина, а русская дворянка… Мы – Бонч-Старнаковские, сударь, – вызывающе говорить Вера, глядя в заплывшие жиром глазки начальника отряда.
– Это подло! Это низко! – бросает в свою очередь Муся, и глазенки её сверкают от негодования, и вся она дрожит. – И если вы осмелитесь еще раз прикоснуться ко мне, то я… то я…
Но возбуждение этого свежего, прелестного ребенка сильнее шампанского ударяет в голову белокурого пруссака. В его мозгу тяжело бродят два хмеля: один – от близости свежей, юной девушки, другой – от выпитого через меру вина.
– Бутончик! Белый розанчик! – шепчет он, сопровождая свои слова плотоядным взглядом, и протягивает к Мусе, разгоряченной гневом, свои трясущиеся руки.
– Подлый немец! Посмей только, посмей! Я ненавижу тебя… ненавижу всех вас с вашим ужасным войском, с вашим безумным кайзером… всех ненавижу и проклинаю! – звенит теперь на весь дом отчаянный крик Муси, и, перебежав комнату, она бросается как бы под защиту на грудь Веры.
– Что такое? Что вы сказали? – слышатся со стороны немцев угрожающие голоса.
Теперь офицеры повскакали со своих мест и, шагая неверными, подгибающими от хмеля ногами, окружили девушек.
– Да знаете ли вы, что за такие слова… – начинает ротмистр, хватаясь за стол и всячески стараясь соблюдать равновесие.
Рев автомобиля, раздавшейся во дворе, прервал его дальнейшую тираду.
– Это – он!.. Наконец-то! – обрадовались кому-то немцы.
Прошло еще с пару минут, и в соседней комнате раздались твердые шаги. Зазвенели шпоры, и вновь приехавший молодой прусский офицер стремительно вошел в комнату.
Все взгляды немедленно обратились к нему.
– Наконец-то и вы! Признаюсь, вы умеете заставлять себя ждать, коллега! – и ротмистр первый шагнул навстречу вошедшему.
Вера взглянула на него и в тот же миг отшатнулась с криком счастья и неожиданности:
– Рудольф!
Да, это был он. В блестящем мундире штабного офицера, изменившийся до неузнаваемости, с печатью апломба на холеном, самодовольном лице, это был тем не менее он, любимый ею безумно, Рудольф Штейнберг. Так вот какого гостя ждали прусские драгуны еще сюда!
«О, если так… Великий Боже, не шлет ли его сама судьба к нам на помощь… его, Рудольфа?» – обожгла Веру радостная мысль.
Вера протянула руки и с преобразившимся от счастья лицом пошла к нему навстречу.
– Рудольф! Рудя! Я знала, что вы вернетесь, что вы вспомните о нас, – прошептала, как во сне, девушка, с восторгом и нежностью глядя на офицера.
Но он не двинулся с места, а насмешливо оглядывал ее с головы до ног.
– Что такое? Вы ждали меня? – язвительно переспросил он после бесконечной паузы. – Ждали, после того, как ваш драгоценный папахен выгнал меня, как собаку, из своего дома, и не только меня, но и моего ни в чем неповинного отца? Вы очень самонадеянны, если думали, что все это не повлечет за собою наказания, отмщения, всего, что хотите, с моей стороны.
Что? Что он говорить?.. Рудольф? Какого отмщения?
И после короткого молчания Вера еще раз попыталась обратиться к нему.
– Нас оскорбляют, Рудольф. Заступитесь за нас! – прошептала она теперь тихо и беззвучно.
Штейнберг смотрел на нее по-прежнему насмешливо и дерзко, потом подошел смеясь.
– Что? Да разве победители могут оскорблять? Ха-ха-ха! Что такое? Мои товарищи, насколько мне известно, поцеловали вашу сестру? Подумаешь, беда какая! – сказал он уже по-немецки.
– Конечно, этой полоумной девчонке следовало влепить пулю, а не поцелуй за её оскорбительные выражения о славной германской нации и о главе её – нашем всемилостивейшем кайзере, – начал коснеющим от через меру выпитого вина языком ротмистр.
– Именно так пулю, а не поцелуй… так! – послышались пьяные голоса остальных.
– Постойте, мы придумаем нечто иное, и это будет во сто раз остроумнее, чем всякое другое наказание, – произнес Штейнберг со своей прежней ужасной улыбкой.
– Ру-до-льф… Вы?… И вы тоже заодно с ними? – потрясенная до глубины души, срывающимся шепотом произносить Вера.
– Что значить это «и вы тоже»? Я прежде всего – пруссак и враг славянства, а во-вторых… Но не стоить говорить об этом! Позовите-ка лучше сюда вашу красавицу, старшую сестру. Куда она спряталась? Чего испугалась? – внезапно переходя на русский язык и улыбаясь тою же наглой улыбкой, продолжает Штейнберг. – Я хочу показать моим друзьям, которые по моей рекомендации и приглашению заехали сюда по дороге, хочу показать им лучшую жемчужину вашей семьи. Да и сам я не прочь взглянуть на прелестную Китти, после того, как мне удалось снискать её расположение у себя, за границей, – поспешил он докончить, дерзко поглядывая на испуганных барышень.
– Что? Это что? – вырвалось у тех четырех сразу одним, полным ужаса, звуком.
Дыхание, казалось, остановилось в этот миг в груди Веры. Сердце словно перестало биться, и только искаженное судорогой страдания лицо жило еще одними своими, полными мрака и муки, главами.
– Он лжет! Он лжет, этот подлец! Нельзя ему верить ни слова, – неожиданно вырвалось из груди Маргариты Федоровны, и она, как дикая кошка, рванувшись к Штейнбергу, вцепилась пальцами в его рукав. – Ты лжешь, мерзавец, проклятый немец, собака! Чтобы наша барышня, наша красавица, умница и тебя… могла… тебя… – в каком-то исступлении, трясясь всем телом, лепетала хохлушка.
Ню Рудольф даже не взглянул на нее: он так сильно тряхнул рукою, что Марго, как слабая былинка, отлетела от него в сторону.
Затем, обращаясь к одной Вере, он заговорил снова с циничной усмешкой на лице:
– Вы-то, надеюсь, поверили мне, милейшая фрейлейн, поверили тому, что ваша гордая, прекрасная сестра – Бонч-Старнаковская – а не кто-нибудь другая, заметьте! – принадлежала мне, как самая заурядная любовница, что она променяла на меня господина Мансурова, что она…
– Это – ложь, ложь! Не смейте клеветать на Китти! Низкий, грязный человек! – вне себя закричала Муся и разразилась истерическим плачем.
– Вы можете не верить, и я не стану настаивать на этом! – пожав плечами, продолжал Штейнберг. – Мне важно только, чтобы в это поверили вы, фрейлейн Вера. И по вашим глазам я вижу, что вы поверили мне. Правда, о таких случаях честные люди не говорят громко. Но со мною здесь, в этом доме, поступили бесчестно, и это дает мне право в свою очередь не считаться в условностях. Итак, я утверждаю еще раз, что девушка из прекрасной русской дворянской семьи, кичившейся своим именем, своими связями, аристократическим происхождением и своим положением в свете была моей любовницей. Ваш отец не пожелал отдать вас мне в жены и оскорбил меня, как последнего вора и преступника. Ну, так вот я и взял у него за это большее: взял в наложницы его гордость, его старшую дочь, вашу сестрицу Китти!
– Да замолчите ли вы, проклятый? – сорвалось с губ Маргариты, тогда как Вера угрюмо молчала с застывшим, как мрамор, лицом.
– Еще одно оскорбление, и я прикажу вас расстрелять, сударыня! В моем лице вы оскорбляете мундир всей нашей прусской армии, – произнес Рудольф спокойным тоном, при чем его выпуклые глаза обдали Маргариту уничтожающим взглядом, а рука стиснула эфес сабли.
– Молчите, Марго, молчите, ради Бога!.. Верочка! Верочка!.. Что ты? Что с тобою? – испуганно пролепетала Муся, бросаясь от сестры к Маргарите и с плачем ломая руки.
С помертвевшим лицом и помутившимися глазами Вера смотрела с секунду в самые зрачки Штейнберга и вдруг неожиданно и тихо-тихо, как подкошенная, упала на пол.
– Это ничего. Маленький обморок. Поваляется и встанет. Во всяком случае, такое ничтожное обстоятельство не должно мешать, господа, раз уже намеченной программе вечера, – небрежно бросил Штейнберг, обращаясь к своим коллегам. – Насколько я понял вас, эти девчурки позволили оскорбить честь немецкого мундира? – после минутной паузы спросил он у них.
– Хуже, коллега, хуже! Они непочтительно выражались о его величестве, самом всемилостивейшем кайзере, – послышался чей-то нетвердый голос.
– Ага, так-то! Ну, в таком случае я заставлю их искупить эту вину, – продолжал Штейнберг, сдвигая брови. Пусть кричать «ура» его величеству императору Германии и королю Пруссии.
– Или?
Рудольф, презрительно усмехнувшись и злобно сверкнув глазами, ответил:
– Да разве нет у нас солдат? Пускай расправляются с ними, как хотят!
* * *В полутемной кухне горела одна только свечка. Рожок на стене был разбить кем-то из пруссаков под пьяную руку вдребезги. Несколько драгун, только что покончив с обильным возлиянием и ужином, были почти совершенно пьяны и собирались разместиться на покой.
Из комнат к ним сюда доносились крики, шум и женские отчаянные слезы под аккомпанемент пьяного хохота.
Солдаты прислушивались к ним несколько минут.
– Уж эти господа офицеры! – смеясь сказал сивоусый унтер, – умеют, нечего сказать, провести времечко! Давеча обходили все комнаты и забирали все, что можно забрать; оправдывались все реквизицией. Недурное дело – эта реквизиция, право! Управляющего приказали расстрелять за то, что он отказался открыть конюшню, прислугу выгнали из дома, а теперь потешаются вволю, – пугают здешних хозяек дома.
– Умора! – воскликнул другой солдат. – Штабной офицер тут приехал, так тот все здесь знает, каждую нитку. Он, говорят, и отряд на постой пригласил сюда, и указывал нашим, где и что спрятано, а теперь никак допрашивает хозяек, не осталось ли у них еще что-нибудь.
– Как он допрашивает, – вмешался в разговор третий. – Просто душу отводит. Подходил я послушать у дверей. Штабный велит девчонкам «ура» кричать нашему кайзеру и армии. Ну, а те упрямятся. Смех, да и только!
– Стойте, стойте, товарищ!.. кажется, идут сюда…
Солдаты вскочили, и руки по швам вытянулись в струнку. Уже под самыми дверьми были слышны сейчас слезы, мольбы и вопли женщин, а громкий мужской голос, взбешенный и грубый, кричал на весь дом, на всю усадьбу:
– Эй, вы, кто тут есть! Сюда, драгуны! Живо сюда!
Глава VIII
Эти крики, дикий хохот и полный жуткого значения и угрозы голос достигли до слуха больной Софьи Ивановны, и она внимательно и чутко прислушивалась к ним. Она проснулась давно. Пламя костра, разложенного на дворе, освещало, как зарево, её комнату.
В спящем сознании больной медленно и лениво проползла мысль-догадка:
«Где-то горит!.. Где-то пожар! Надо сейчас же, скорее поднять, разбудить дочерей».
Больная сделала усилие встать. Как тяжело двигаться отекшим ногам!.. Едва передвигая ими, она встала с постели, кое-как нашла и надела капот… туфли.
– Китти! – жалобно прошептала она, – где ты, голубка? – и её лицо исказилось гримасой плача.
Вдруг остро и назойливо толкнулась в спящее сознание мысль:
«Это Китти кричит… Зовет на помощь… Надо идти, скорее идти… надо… помочь!».
Медленно и тяжело шагая, Бонч-Старнаковская пошла, хватаясь за встречные предметы, ища в них поддержку.
Она тихо вышла из спальни, миновала коридор, затем комнату Китти, приоткрыла дверь в нее и заглянула туда. Там не было никого, комната была пуста. А крики по соседству все усиливались.
«Теперь Мусечка как будто кричит, – с трудом соображала больная, – её голосок… Зовет па помощь».
– Не пущу! Не дам в обиду, не дам! – пролепетала она с блуждающей улыбкой и живо распахнула дверь, за которой звенел раздирающий душу крик.
Пятеро пьяных, едва имеющих силы стоять на ногах, немецких солдат метались по буфетной, распластав руки, стараясь схватить две тонкие, маленькие фигуры, то и дело быстро ускользавшие у них из-под пальцев.
А за стеною слышались те же пьяные песни и крики.
Муся и Варюша, несколько минуть тому назад втолкнутые к пьяным драгунам, с отчаянием и ужасом кружились по комнате, стараясь миновать протянутая к ним руки солдат.