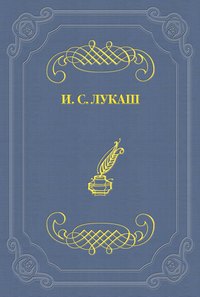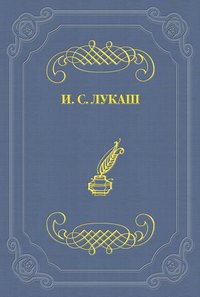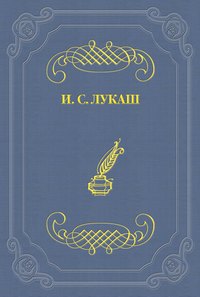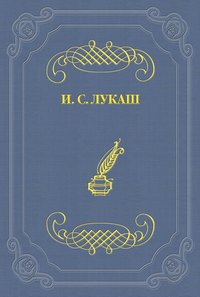полная версия
полная версияПожар Москвы
Евстигней, опуская постель, повернул к ним голову и проворчал матерное ругательство.
А Кошелев вспомнил первый светлый взгляд монашки от ложа покойника. Ее первый взгляд и еще уголки ее тонких бровей напомнили ему брата Павла.
Над черничкой заблистали очки горбатой Ифигении. Горбунья похлопывала девушку по вздрагивающей спине.
– Чего стали, вы, – резко прикрикнула Ифигения через голову девушки. – Ступайте могилу копать… Мать Олимпиаду, могильницу, сыщите… Мальчонка с нами побудет.
Над монастырским двором, в небе, поясневшем в ночи, уже светилась московская комета.
XIX
Кошелева удивляло, что многие называют его барином, хотя он никому не говорил о себе. Он без толку, будто не вовсе трезвый, ходил между мешков и корзин и так одергивал овчину на груди, точно желал что-то сказать, но ему трудно найти слова.
Чувство странного ожидания охватило его после пожара, и когда он говорил каретнику, что «Россия легла», и тогда думал, что «все погибло», в самой глубине он чувствовал, что Россия не легла, не погибла, а теперь-то и начинается такое, что будет прекраснее всех его ожиданий.
Приблизив лица друг к другу, в толпе говорили вполголоса, не вынимая озябших рук из-за пазух, и примолкали, когда мимо проходил неприятельский солдат.
«Светлейший обходом берет, сам государь ведет несметну силу, – слышал кругом Кошелев. – Они колелую конину жрут. Казак сказывал, до четвертка токмо терпеть, в четверток наши будут».
А за полночь Кошелев слышал сквозь сон бормотания и вздохи каретника:
– Сгасла тайная звезда, помоги Господи…
Каретник казался Кошелеву раскольщиком. В народе говорили, что старая вера ходит по ночам, втайную, и ворует из церквей древние иконы святоотческого письма, что унесли из Сретенского тамошний иконостас, из Успенского – Иерусалимскую Божью Матерь.
– Куда? – шептал Кошелев, приподымаясь на локте. – Куда один бродишь, вместе пойдем…
– С тобой не пойду, – хмуро отвечал из тьмы голос Евстигнея. – Не барское дело по ночам шляться. Спать не могу, вот и хожу по народу. А ты, барин, спи.
И только к самому свету, крупно дрожа, подлезал каретник под овчину Кошелева.
– И чего ты шатаешься, не спишь, весь продрог… Что слышно в народе?
– А то… Мучитель ходит. За кажинным углом стоит… При мне девчонку поволокли, дяденька, кличет, один в меня стрелил, я побег… Я и побег, говорю…
– Тише, – шептал Кошелев. – Уходить надобно из Москвы… Я в войско уйду, пойдем со мной в войско.
– Э, барин, какое войско…
– Разве было, что слышно?
– Слышно не было, разное сказывают.
– Я в войско уйду. Ты узнай, как из Москвы выбраться.
– Есть, сказывают, переход за Яузским мостом. Узнать можно.
Кошелев решил уйти из Москвы и теперь, поджидая каретника, бродил по монастырским дворам, словно отыскивая кого-то.
Однажды он подумал, что ищет черничку в бархатном колпачке, и сам себе улыбнулся.
Так стоял он ночью у трапезной. Постукивала обитая войлоком дверь, выкидывая теплую волну гнили и тления: в трапезной лежали раненые французы.
Высокая монахиня проплыла мимо.
– Чего, душа, стоишь, чего ждешь, – тихо позвала монахиня. – Аль неможется? И рада бы, душа, в трапезную пустить, да местов у меня нету: ворог все занял: и скамьи, и столы. Ворог, а страждет, все один человек.
– Нет, мне в трапезную не надобно. Я так… Мне бы черничку одну повидать. Я, матушка, попрощаться желаю. Купца Коробеева дочь, а имя Параша.
– Параша, как же, знаю Парашу, сиротку, она беличка, не черница. Ты тут побудь, ежели найду, спошлю.
Он долго ждал у трапезной, но к нему не вышел никто. «Да к чему мне видеть ее? – подумал он. – Прихоть одна», – и стряхнул головой, как бы сбрасывая оцепенение.
В полную ночь вошел Кошелев в монастырский храм. Там горела одна свеча.
Усыпальницы цариц и царевен, гробницы, подобные возкам, снятым с колес, тянулись рядом теней, и мерцала за ними далекая свеча Одигитрии. На каменных плитах между гробниц, под шинелями, на соломе, лежали люди. У каждого стояла в головах жестяная кружка.
Бесшумно вышла из тьмы, точно подкралась, монахиня. Белое лицо, белые губы, слепое лицо старухи выступило из тьмы. Монахиня заслоняла свечу дрожащей горстью, между узловатых пальцев сквозил алый огонь.
– Ты чаво, батюшко, ищешь? – пошамкала старуха. – Трудно, батюшко, сыскать. Вповалку солдатство лежит, Бог знает, каки ихние, каки наши. Мне тяжелые препоручены. Дюже, батюшко, помирают.
– Я никого не ищу, простите, – сказал Кошелев, отступая.
И тогда его позвал голос тихий и трудный:
– Ваше благородие, вы будете али нет?
– Я, – дрогнул Кошелев.
– Споклонись, ваше благородие…
Монахиня прилепила к полу свечу:
– Вот и сыскался, родимец, – шептала она, отходя во тьму.
В неверном и боязливом свете Кошелев узнал голову штрафного солдата Родиона, с которым встретился в ошаре.
Седые волосы разметались на свернутой шинели. Кошелев узнал его обтянутое лицо и три тонких морщины философа на лысом лбу, над запавшими глазами.
– Гренадер, так ли? – сказал он, наклоняясь к солдату.
Тот дышал сухо и горячо. Он лежал, как костлявый мертвец в темном мундире с поломанными медными пуговицами. У изголовья высился гренадерский кивер, обтертый и промятый, козырек был обломан, и медный орел, по которому бродил неверный свет, повис на одном крыле. На кивере стояла жестяная кружка.
– Боже мой, как свиделись, Родион… Давно ли лежишь?
– Не знаю, дав-давно, – заикаясь, ответил солдат. – Кабак огнем занялся, я вылез… Сюды с собакой добрался.
– А, и собака…
– Собаку, спасибо, одна монашка взяла. Обещалася поб-поберечь… Ваше благородие, я вижу, ты вошел, я и позвал… Я тебя согнал тогда из ошары, ваше благородие, прости. Я думал, пошто согнал офицерика.
– Полно, Родион.
– Нет, когда можешь, прости.
– Господь с тобой, да я и не помню, – Кошелев пожал плоскую руку гренадера.
– Как ты горишь. Воды тебе дать?
– Воды не надо, спасибо.
Солдат примолк, но скоро послышались Кошелеву влажные вздохи и шелест. Старик плакал. Кошелев стал гладить его горячие волосы.
– Полно, ну, полно, стыдись, гренадер.
Родион приподнялся на локте, он больше не заикался:
– Мне помереть, а тут никого… Други мои в полку, под ружьем… Помереть…. Вечор мушкетер русский, рядом лежавши, помер… А мне помереть не должно, у меня тайное дело, присяга нерушимая… Ваше благородие, в Москве кто стоит, неприятель?
– Неприятель.
– Вестимо, повоевали Россею… А што сказывал мушкетер, будто Бонапартий нашему государю Павлу Петровичу брат скрытый, родимый, сын Екатерины амператрицы, и пришел державу принять под закон истинный.
– Бред, Родион, бред, бредил твой мушкетер… Бонапарт – мятежник французский, как он может быть братом императору Павлу Петровичу…
– Жаль, – Родион опустился на солому. – Жаль, ежели так… А мне поверилось. Кабы было такое, тогда бы все замирилось, истинный ампиратор тогда бы снова взошел.
– Подумай, что говоришь о враге нашего государя.
– А то говорю. Как вы убили истинного государя Павла Петровича, порушили сверху закон – загибла Россея… В Москве-то… Сказано: «Мне отмщение и Аз воздам». И воздается.
– Я не убивал, видит Бог, государя.
– И ты чего отпираешься… Ты тоже во дворце был. Я вас всех помню… Кабы Пален граф нашего барабанщика не попятил, взошли бы мы во дворец и всех вас, щенят, офицеренок, барство-дворянство, всех со штыков постряхали…
– Убили бы, да? И государь убит, и вы все убийцы… Пошли бы бунтом гулять… Постряхали… Не испугал… Тебе меня не судить, чего судишь… Я не убийца. А мыслил в грехе человеческом, что по свержении Павла взойдет российская заря, новый свет, утвердится новый закон. Не зло, не тьма, не рабство мое отечество, а свет истины, истинная свобода, правда, святыня…
Родион, слушая, медленно приподымался на локте, потом опал, точно бы в забытьи.
Кошелев склонился над ним:
– Родион, ты слышишь?
– Слышу… Я тебе секретное дело докладаю… У меня собака ево, которую вы тогда во дворце ловили… Белу-то, разве не помнишь?
– Нет, я не помню… Белая. Постой… Право, не помню.
– У меня собака государя Павла Петровича. Я ее под мундиром из дворца вынес. А как пропала из казарм, ушел из полка искать. Под Валдай-городком у цыган стретил. Конь на веревке идет, а у коня собака, вся в пыли, потемнелая. За казенные сапоги ее выменял, за шинель. Тогда патрули меня взяли. Фухтеляли перед фрунтом, стал я штрафной… С собакой в походы ходили, в огне стояли, а еще про то знают Михайло Перекрестов да Аким Говорухин, гренадеры… Мне ее препоручили, а мне помереть… Ваше благородие, схорони собаку, товарищам передай, она у здешней монашки именем Параскева…
«Параша», – радостно отозвалось у Кошелева.
– Ради Исусе Христе, Бога нашего, слово крепкое дай собаку товарищам передать, матушке Одигитрии крест положи…
– Кладу, – с улыбкой перекрестился Кошелев. – Оберегу, передам.
– Хороший ты человек, дай тебе Бог, – сказал солдат и опустил голову на шинель.
Кошелев поднялся с колен, задул свечу и на носках пошел вдоль гробниц. Теперь он снова слышал невнятные стоны и бормотание спящих.
В притворе, у паникадила, к нему спиной стояла монашка, оправляя на затылке черный платок. Кошелев заметил ее светлые волосы, собранные узлом. Он узнал эти волосы и поклонился:
– Здравствуйте, вот я сыскал вас…
Черница приняла с паникадила свечу и обернулась. Ее лицо было озарено снизу, лучисто и тайно сияли глаза.
– Здравствуйте, – она поклонилась в пояс. – То вы, барин? Я вас тоже искала по монастырю, а вас нет. Благодарствование примите, что в горе меня не оставили.
Ее лицо выступало из тьмы, как светящийся лик иконы.
– Я вас искал попрощаться. Я намерился из Москвы бежать. В армию.
– Дай Бог, барин. Трудно вам будет.
– Прощайте же, Параскева, – сказал Кошелев и забыл, как зовут черницу по батюшке.
– Саввишна, – тихо напомнила она.
– Прощайте, Параскева Саввишна, свидимся ли?
– Бог даст. А вы мне, барин, имени вашего не сказали.
– Петр Григорьевич Кошелев, гвардии капитан.
– Дай вам Бог, Петр Григорьевич.
Они замолчали, глядя друг на друга. Кошелев внезапно пожелал стать перед нею на колени в просить благословения. «Полно, что помыслится», – подумал он и сказал:
– А вы, стало быть, за больными ходите?
– Не я. Ходит за ними гробовая мать Антонина, а я ей подменок. Да от смерти помочи нет. Ах, как они помирают…
– Один солдат тут лежит, гренадер нашего полку, в горячке. У него собака.
– Знаю. Собаку хотели согнать, я матушку игуменью упросила: больно плакался солдат. До жалости. В чуланце у матушки Ифигении нынче сохраняю… А намедни мы найденыша вашего в корыте с матушкой мыли.
– Спасибо, – сказал Кошелев и добавил. – Спасибо, хорошая… И еще вас буду просить сберечь старого солдата с собакой.
– Не сомневайтесь, Петр Григорьевич. Я обещалася.
– Прощайте же, до свидания. Черница оправила на свече воск.
– Разве вы нынче и уходите, Петр Григорьевич?
– Нет, день, два еще буду: каретник вскорости должен о дороге узнать. Я ведь не здешний.
– Вы в монастыре пребываете?
– Да, с нищими, у ворот. Под самой иконой, где свечи горят.
– Тогда я еще к вам наведаюсь.
Они поклонились друг другу, и черница отошла. Порхал все дальше во тьме легкий огонь ее свечи.
На паперти, куда вышел Кошелев, его лицо окунулось в свежую прохладу. Сребристый гаснущий дым кометы над темными куполами и тени ветвей, которые едва шевелило холодным дуновением, – все показалось ему прекрасным и тайным.
«Начинается», – подумал Кошелев и перекрестился.
XX
Утром 20 сентября в Кремль созвали маршалов. Они собрались рано, принеся с собою свежий воздух и грязь форпостов. Они скашливали и чихали от простуды. В зале звякали шпоры тяжелых сапог.
Простуженный маршал Даву кутался в шелковый шарф. Маршал Ней с жестким солдатским лицом, в синем плаще, стоял в стороне, прямой и тощий, как скелет. Мюрат, улыбаясь и покачивая головой, слушал у окна Бессьера. Мюрат что-то жевал, влажный блеск играл на его румяных губах. По его рассеянной улыбке было видно, что он не слушает герцога Истрийского.
Император не выходил долго. Ней высек огня и закурил трубку. Тогда многие вынули сигары из жилетных карманов. Табачный дым заволок зало холодным туманом.
Император вышел в сером сюртуке и в маленькой черной треуголке. Он поклонился, не обнажая головы, подал принцу Евгению листок и быстро сказал:
– Здесь мое решение, читайте.
Это был приказ о наступлении: «Сжечь остатки Москвы, идти на Тверь, на Петербург». Чем дальше читал принц Евгений, тем голос его становился холоднее и удивленнее. Он сложил листок вдвое и передал соседу.
Листок шуршал в тишине. Никто не смотрел на императора. Маршалы стояли, опустив головы, точно стыдились за него. Долгое молчание стало неловким.
Ней выпростал из-под плаща тощую руку, рассек воздух и внезапно сказал:
– Поздно.
Тогда заговорили все. Мюрат нарочно презрительно рассмеялся, пожимая плечами: теперь поздно, теперь глупо думать о наступлении, а когда он умолял дать ему гвардейскую кавалерию, ручался одним ударом покончить с русскими, бежавшими в беспорядке из Москвы, его не послушали. Даву, склонив лысую голову, настойчиво и мягко убеждал бросить Москву, кинуться на Тулу, на Калугу, прорваться на Украину, к сердцу России.
Ней с ненавистью окинул глазами императора, маршалов, туманное зало, рассек воздух плоской рукой:
– Немедленно бросить Москву, Россию, уходить назад, быстрыми маршами, той же дорогой, к Смоленску, бежать, да, бежать, от зимы, голода, гибели.
Ней сказал, спрятал руку под плащ и выпрямился.
Все повернули головы к императору. Недоумение и сожаление мелькнуло во многих глазах: наступать теперь, на пороге зимы, после пожара, когда все в беспорядке, в расстройстве, куда наступать, с кем, снова дикий поход? Нет, поздно, все ждут мира, довольно.
Все смотрели на императора с холодным любопытством, точно впервые видели его желтоватое лицо стареющего человека.
Император круто повернулся и вышел.
Стрела качнулась. В этот день стрела качнулась и выбрала тот же полет, что и в первый день Москвы: к миру. Зимовка, наступление, отступление, мир: стрела облетела свой круг и устремилась к миру.
Коленкур был вызван к императору в тот же день.
Этот высокий человек, принимавший все его милости с холодной вежливостью, всегда казался императору чужим. Он чувствовал, что Коленкур смотрит извне, со стороны, на все его дела, как холодный зритель может смотреть на пышный спектакль. Но он решил послать именно Коленкура, его должны хорошо помнить при Петербургском дворе.
Герцог стал у белых дверей, почтительно склонив голову. Император не любил людей чрезмерно высокого роста рядом с собой.
– Вам известно, что я решил идти на Петербург, что я…
Император разглядывал ногти. Он слышал фальшивый звук в своем голосе:
– Я, разумеется, возьму Петербург и разрушу его. Я не остановлюсь ни перед чем. Россия в отчаянии может восстать против императора Александра. Я намерен послать к нему вас. Предупредите, что ему грозит катастрофа. Я не хочу его гибели и гибели его империи.
Коленкур холодно следил за всеми маленькими движениями императора, и как он поглаживает рукой руку, и как в зеркале за его спиной то морщится, то расходится складка на сером сюртуке.
– Нет, Ваше Величество, освободите меня, – сказал герцог и стиснул зубы, чтобы голосом или блеском глаз не выдать внезапного чувства злорадства.
Он сказал просто и твердо, уперев подбородок в воротник мундира:
– Я не поеду, Ваше Величество. Моя поездка бесполезна. Император Александр не примет никаких предложений. Он будет сражаться до последнего солдата. Вам это известно так же, как мне… Для вас и для нас один выход – отступление.
Император внимательно посмотрел на свои ногти и вдруг поднял лучисто-серые глаза:
– Ну что же… Хорошо. Тогда я пошлю Лористона.
Волна лучистого света из его глаз, и то, как он сказал «хорошо», тревогой и жалостью сжали сердце Коленкура.
Невысокий человек с желтоватым грузным лицом, этот маленький капрал революции, стоял перед ним величественным и прекрасным Кесарем. И если бы он сказал еще что-нибудь или положил руку на плечо, Коленкур пал бы перед ним на колени и умолял бы его уйти, бежать, унести своих орлов, свою империю из пределов русской бездны, куда его ввергла судьба.
Император отвернулся к столу, зашуршал бумагами. Коленкур глубоко поклонился и вышел.
После Коленкура был вызван Лористон. Император опустил обе руки на его плечи, и что-то мягкое, почти женственное, было в его голосе:
– Лористон, вы поедете… Я хочу мира, мне нужен мир. Вы понимаете, Лористон, мир…
Лористон выехал на русские форпосты.
XXI
В притворе Василия Блаженного – ржание лошадей и солдатское бодрое сквернословие. Конские стойла – в Успенском соборе. На солее поставлены весы, а в алтарной печи – плавильня. Многопудовое соборное паникадило уже переплавлено в слитки.
К армейским бойням сгоняют отощалых быков. Бойни в Даниловом и у Вознесения, у Серпуховских ворот. Быки в Лефортове, у Петра и Павла.
Ржут кони у Троицы в Сыромятниках и у Кузьмы и Дамиана в Замоскворечье. Там кони стоят в алтаре, накрытые ризами.
В Кремле, у Спаса на Бору и у Николы Гостынского – конюшни императора. В полутьме, у высокого алтаря, ворохи сена и стойла из свежих досок. Там лоснятся зады английских кобыл, закинутых зелеными сетками.
В желтоватом дыму сентябрьского дня восходит от Москвы тысячеголосый говор на всех языках Европы, топот, ржание, лязг.
Армия, меняя стоянки, пришла в бодрое движение, как бы отряхиваясь после пожара.
Небо, легкое, светлое, сквозит над Москвой; засветилась прозрачная осень.
В плавании голубого света все лица стали нежнее и тоньше, красивее. Небо охватило голубоватой дымкой кивера, медь пушек, римских орлиц, как бы любуясь красотой большого воинского движения. Пепел развалин тоже светится голубоватыми отблесками. Куда-то шла гвардия, вспыхивая мягко и длительно белыми гамашами и белыми жилетами.
А к вечеру над Кремлем сходились стаи дымчатых облаков, красновато-огнистых по краям, облака, обещающие ветер. Плавал одинокий звон на Замоскворечье: звонили по чину у Петра и Павла, где слушали вечерню словаки, православные солдаты великой армии императора.
23 сентября Лористон вернулся с форпостов. Он привез то, что должен был привезти: перемирие.
В анфиладах кремлевских зал собрались маршалы, свита, генералы и штабы.
Император показался в конце анфилады. Он шел без шляпы вдоль колыхающихся рядов и поздравлял с перемирием. В ближайшие дни будет мир. Кампания кончена.
А к ночи нечаянно-ранний снег редко и тихо замелькал над черными пустырями. Гарь посырела и стала тошно смердеть. Ночью были первые заморозки.
На дощатых солдатских балаганах смерзлась солома. Исхудалые лошади в роении снега побелели. Солдаты, притихнув, лежали под открытым небом, на мостовых.
В Москве еще был сахар, кофе, горячее вино, но на форпостах уже обдирали лошадей. Там не было соли, и похлебку из конины засыпали порохом: порох вспыхивал в котлах, всплывал жирными пятнами.
На форпостах побелели от снега выжженные деревни, перевернутые повозки, конская падаль и груды навоза. После перемирия русские исчезли, точно их не было никогда.
Кавалеристы на вечерней фуражировке захватили русского пленного. Это был гвардейский солдат, желтоватый, как мертвец, с обритой наголо головой. Его нашли в бане, на окраине покинутой деревни. Он лежал на скамье, под шинелью, и если бы не пошевелился под ударом ноги, никто не принял бы его за живого. Как будто он не был ранен, может быть, он был болен. Это был гренадерский певец, капрал Илларион Кремень, один глаз карий, другой голубой. Отстал Кремень от рядов и лег помирать в деревенской бане.
Русского гвардейца между коней привели к кострам. Он ровно шагал за конвоирами, придерживая у живота скомканную шинель. Французы еще посмеялись, что этот обритый солдат с шинелью у живота похож на Венеру Татарскую.
Его ободрительно хлопали по плечам, для него нашелся глоток горячего вина, ему совали потертые фляжки, но солдат сидел не шевелясь. На ночь кто-то бросил к босым ногам пленного гвардейца войлочный подседельник. Солдат не тронул его.
А на рассвете кто-то встал, трясясь от холода, чтобы подбросить в заглохший костер фургонных досок. Он толкнул пленного. Тот повалился на бок, шинель сползла и открылся синеватый живот, груда вывалившихся кишок. Русский, которого нашли в холодной бане, был ранен в живот, вот почему он прижимал двумя руками шинель.
Он отошел еще до света.
XXII
За полночь каретник перешагнул тачку с калекой и нищего-слепца, спавшего лицом к земле.
– Барин, пробудись, барин, – позвал каретник. Кошелев дремал, сидя на корточках, у монастырской стены.
– Я не сплю…
– Где ты есть? – каретник с силой потянул его за руку. – Барин, государь Александра Павлыч скончался…
– Нет, – содрогнулся Кошелев.
– Скончался. Пленных в ночь привели, сказывают, в Питере бунт. Мучитель в Питер вошедши… Горит… Наши сдались. Государь Александра Павлыч скончался.
– Нет, нет! Кто тебе сказал, нет!
– Народ на поле стоит, все сказывают. Скончался…
Толпу тяжело шевелило в темном поле, под монастырем. Кошелев не видел лиц, все глухо бормотало, отшатываясь, теснясь.
– Зимний дворец горит, – вскрикивал молодой голос, осекаясь от страха. – Питер приступом взят, Макдональда вошедши… Што слыхал, то говорю: Макдональда скрозь огонь проломила… Наши войска на площади выстроены. Государя ихний солдат зарезал. Подобрался в нашей шинели, с ножом. Войски сдались.
Костлявая старуха поднялась с сундука, ударила в грудь горстями и завыла пронзительно.
– Тише! – крикнул кто-то, упал на колени и сам завыл тонко и страшно:
– За-а-арезали.
Толпу отшатнуло, все побежали.
И всюду по полю в темени бежали люди, наталкиваясь друг на друга. У костров проснулись французы. Многие, застегивая на ходу мундиры, подходили к русским. Это ночное смятение и каркание раздражило солдат. Они стали гнать толпу прикладами и пряжками ремней дальше, в поле. Темное поле стенало подавленно.
А когда заполоскалась над Девичьим холодная заря, Кошелев увидел толпу на коленях: были подняты к востоку брадатые лица. Один старик в мерцающих очках, по виду купец, стоял пред толпой и суровым голосом читал молитву. Кошелев не разбирал слов, но тоже стал на колени.
Ему помог подняться каретник, они взялись за руки и так, рука об руку, пошли в поле.
В светающем воздухе тесными кучками, дымясь от пара, всюду толпился народ.
Барский лакей в зеленой ливрее с позументом, а то барский певчий в зеленом кафтане, повязанный полотенцем, потаптывая босыми ногами, злобно выкрикивал:
– В Питер зашедши, а купцы сказывали, ослобонят в четверток. Им ништо, привыкши народ омманывать, живодеры. Как же, ослобонят. Енералы с полками сдались, немцы, известно, оны и государя убили. Все забрато, антиллерия, гвардея. Присяга и служба будет таперь Бонапартию, а за эфто всем вольность, крепости отмена… Стерьва, а сам с нас сапоги посымал… Барство эфто, енералитет самый, побросали народ, сами побегши, а Ростопчин грахв што врал, как смущали народ. Ужо Бонапартий сдогонит… Вольность, грит, а сапоги, стерьва, долой!
Кошелев озирался кругом с томительным страхом, точно иное небо и поле иное открылись ему. «Так вот что началось», – подумал он.
– А и верно человек сказыват, – стряхивая острым плечиком, говорил ему благообразный мещанин в долгополом черном кафтане. – Мы люди каки? Мы люди подневольные… Один ампиратер али другой, нам все одно. Одны ушедши, другие подать драть будут, – нам все одно…
Кошелев отвернулся. Он не видел, куда идет. Едва светлеющее поле с черными толпами народа показалось ему страшным и мертвым, сгоревшим. И как это поле, сгорела и лежит вся Россия, и вот шумит над ее падалью воронье.
– Не хочу, не хочу, – бормотал он. Так же, как он, не зная куда, бежали люди, сталкиваясь или обгоняя его.
Далеко от бледной зари на поле шло трое. Все трое с тростями, красные ленты через плечо, у одного белый пояс. Когда они подходили к народу, многие стягивали шапки и сторонились, исподлобья глядя на трости и красные ленты.
На Девичье с зарей вышло осмотреть погорельцев московское градское правление, набранное после долгих уговоров из трех русских граждан: купца Находкина, купца Коробова, а с ними надворного советника Бестужева-Рюмина. За московским муниципалитетом шел с ведерком и листами, перекинутыми через рукав синего фрака, новый полицейский комиссар, которых тоже набрали из иностранного полубарья на Кузнецком мосту и барских лакеев. Комиссар мазал по стенам кистью с мучной жижей, наклеивая широкие листы «Превозглашения к жителям Москвы».