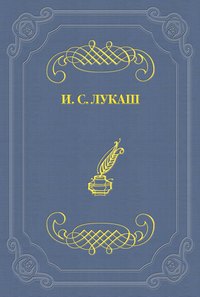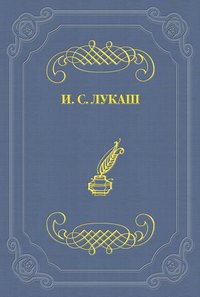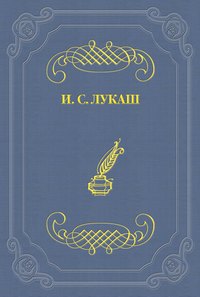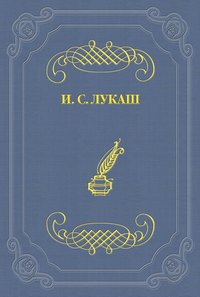полная версия
полная версияГраф Калиостро
– Разумеешь, Андрей, – подмигнул Елагин бакалавру. – Дебоширством сим Калиостр нас провести пожелал: вздорным и дерзким мнился представиться. По слову твоему, глаза нам думал отвесть. Ан, сударь, не проведешь!
«Зато я его знатно провел», – весело подумал Кривцов, и пальцы заерзали по кафтану, норовя показать вслед графу преогромный нос.
Поединки
Prima – Secunda – Tertia.[12]
Фехтовальный возгласКамер-юнгферы окутали покатые плечи государыни московской шитой в серебро тканью яблочного цвета. Как бы играющей светло-зеленой водой залило Екатерину.
В овальном зеркале наклонно отражается Бриллиантовая зала, яшмовые столики, малахитовый простенок, часы «Золотой Гермес» на мраморной колонке и свежее лицо государыни в белом облаке пудреных волос.
Государыня оправила на груди красную ленту с алмазными знаками императорских орденов и лукаво посмотрела через плечо на светлейшего князя Потемкина.
Высокого роста, тяжелый, с ненапудренной темной головой, князь стоял за ее туалетом, заложив руки под фалды белоснежного дородорового кафтана. Князь поворчал хмуро, с хрипцой.
– Андрея Первозванного повыше бы, матушка, наколоть.
В зеркале, за белым плечом императрицы, мелькнуло его оливковое, твердо сбитое лицо с горбатым носом, с двойным подбородком, лицо хмурого римского сенатора. Заерошены широкие брови, как черные соболя. Глаза поставлены близко, по-птичьи. Один глаз – серый, холодного блеска, а в другом, с бельмом, – странно и тускло отражаются свечи, как в затянутом глазу мертвеца.
– Не грызи, сделай милость, ваша светлость, ногтей: кабинет мне засоришь, – усмехнулась Екатерина. – Сказывай дальше прожект твой… Токмо время ли, князь, с добрым ветром приветствовать турецкого султана салют пушек российских?
Потемкин круто повернулся, как блистающий белый столб. Упрямо стукнул кулаком о ладонь, брови – черные соболя – разлетелись.
– Время не время, а войны не миновать. Крым должен быть в пределах российских. Ужо, заерошит Стамбулу бороду северный Орел… В Царьграде положено быть твоей резиденции, государыня.
– Далече, ваша светлость, летаешь. Один глаз, а смотри, куда смотрит… Завтрева поговорим.
Став на одно колено, Потемкин поцеловал продолговатую ладонь Екатерины.
– Величие Империи Российской должно быть равным светлому величеству твоему.
– Встань, князь-льстец. Да помилюй Бог, ногтей не грызи… Разгрызся… Али в несносной скуке имешь быть обретаться?
– Подходит, матушка, сия мрачность и бездельность моя, запрусь, в халат грязный влезу, да зачну небритый, нечесаный каноны Спасителю сочинять.
– Что, князь, али госпожа Санта-Кроче огорчила, ласкательства ваши отвергнуть изволив?
Серый глаз князя блеснул удивленно.
– Как, и о сем уже ведомо?
– О вас, старий друг, мне все ведомо. Волочилась ваша светлость за сей авантюркой?
– Точно, поволочился, да она, как рыба мороженая, как лед, а то кукла, только и есть: «О, mio carissimo…» А кавалер Калиостр ею явно торгует. Гнала бы ты сего лысого демонологии учителя отседова прочь.
– Вигоню, обожди… А тебе совет, в затрапезный халат не влезать: перья от безделья, князь-орел, полиняют. А лети-ка ты, Гришенька-Одноглазка, обозреть страны те полуденные, да…
Государыня вдруг обернулась, живо хлопнула камер-юнгферу по руке:
– Прошу, мой девушек, убрать свежую розу, иссохнут… Я жаркая: в пять минут цветок на мне вянет… Ну, где же корона?
Вспыхнула белым огнем маленькая бриллиантовая корона на голове императрицы.
До Бриллиантового кабинета, до Бронзового кабинета, до Кабинета цвета табакерки доносится из аванзал глубокий и торжественный гул придворной толпы. Сегодня Ее Величество принимает посла Его Всехристианнейшего Величества французского короля и при дворе объявлен съезд на baise-maine.
Потемкин сильно распахнул двери красного дерева, украшенные бронзовыми щитами, кадуцеями и головами Медузы. Кавалергарды в блистающих броссарах – налокотниках, в серебряных шишаках, с бело-синими опереньями, перезвякнув палашами, отдали императрице салют.
Меж шпалер рослых конногвардейцев в серебряных кирасах, поверх которых накинуты супервейсы красного бархата с серебряными орлами, шла медленно государыня к парадным залам. Перед императрицей торжественно шествовали кавалеры двора в коротких бархатных плащах, застегнутых у плеч изумрудными аграфами. Государыня по пути вынула из кармана янтарную коробочку и налепила забытую бархатную мушку, у ямки, на щеке.
Гофмаршал в кафтане белого бархата с золотыми травами махнул рукой, прошипел:
– Ш-ш-ш-ш…
Заволновались белые облака голов, зеленые, палевые, оранжевые, персиковые пятна кафтанов, точно волна теплого ветра обдала лицо государыни, – с тихим шумом склонились все в глубоком поклоне. С хор грянула кантата:
Везде твои орлы, монархиня, парят.Везде твой гром гремит и молнии горят…Французский посол, смуглый маленький человечек в кафтане небесно-голубого цвета, двинулся государыне навстречу. Он смело поднял голову, начал заготовленную речь:
– Le roi mon maitre…[13]
И смешался, бледнея: блистательная императрица, сияющий мрамор, властно и пронзительно-холодно смотрела на него.
– Le roi mon maitre, le roi mon maitre, – растерянно бормотал француз.
– Il est des mes amis[14], – улыбнулась Екатерина. Сияющий мрамор ожил, она протянула послу руку.
Запели валторны, кларнеты, фаготы. Ее Величество об руку с генеральс-адъютантом открыла бал менуэтом а lа Reine.
От бронзовых часов с Трубящей Славой два морского флота констапеля с фрегатов «Святой Евстафий» и «Гектор» – Люсьен Леруа и долговязый шотландец Крюйз, уже отведав дворцовых шербетов и лимонадов, следили за танцорами. В тот вечер придворные скрипачи играли новый концерт господина Моцарта. Констапель Леруа толкнул локтем долговязого, с выцвелыми голубыми глазами, товарища, который отдал честь пуншу еще на корабле и потому был не совсем тверд на ногах. Впрочем, и Леруа почему-то подмигивал Трубящей Славе:
– Смотрите, милый Крюйз, Сама танцует с фаворитом… Гвардейский щенок. У него блистают глаза. Он отлично изображает влюбленного… Это бесчестно – быть поденщиком Амура у стареющей дамы.
– Я думаю, да… Но, любезный Леруа, я давно слежу за этим мальчишкой. Его глаза горят неподдельным восторгом, когда он смотрит на Augustissimy… Я склонен думать, я склонен…
Констапелю Крюйзу никак не сказать, к чему он склонен.
– Седалище зловонного диавола, – выругался шотландец затейливо.
– Тише, Крюйз, эти шаркуны могут слышать.
– Я склонен думать, что кавалергардский молодчик не на шутку влюблен в нашу belle-femme.
Констапель Леруа весело подмигнул Трубящей Славе, точно хотел сказать: «Вы только послушайте, что плетет мой дуралей».
– Уверяю вас, камрад, русские, конечно, свиньи, но русская императрица, которой мы имеем честь служить, – даю вам слово шотландца, – прекрасна.
– Да… Но она в два раза старше этого мальчишки, хороша любовь.
– Бывает, камрад. А к тому же не вижу, в чем ее старость. Я заметил, что женщине с хорошим цветом лица и белыми зубами может быть под пятьдесят, а она выглядит, как молодая девушка… У нас в Лондоне… Я расскажу вам одну лондонскую историю. Младший сын чопорной шотландской фамилии, молодчик его лет, полюбил актрису лондонской оперы. Ее звали Элиара Орэ. Уверяю вас, Орэ была старше нашей belle-femme, а он моложе Ланского. У мистрисс Орэ были чудовищные долги. Мальчишка разорился, едва не разорил отца, был выгнан из дому… Короче сказать – этот мальчишка перед вами. Правда, он постарел лет на двадцать.
Леруа блеснул зубами:
– Как, Крюйз, кроме пунша вы знали любовные истории? А что же с мадам Орэ?
– Мадам давно померла, помяни, Господи, ее душу… Я только хотел сказать, что императрицы, как и актрисы, никогда не стареют.
– Афоризм неплох даже и для Вольтера.
Морские капитаны поспешно отошли от Трубящей Славы, на них плавно надвинулась волна танцоров.
Бакалавру не удалось протискаться дальше аванзалы, доверху увешанной портретами. Придворные щеголи с висками, причесанными ailes du pigeon[15], кавалеры в шелковых чулках grande tenue[16], оттеснили Кривцова за колоннаду. Жал под мышками персиковый кафтан, надеваемый лишь к светлым праздникам да к дворцовым выходам, оттягивали голову букли алевержет и тонкая проволока, вплетенная в косицу.
Толпа оттеснила за колоннаду и Никиту Шершнева. С того дня, как молочные братья повстречались в трактире «Демута», Шершневу улыбнулась фортуна: сам светлейший взял его в адъютанты.
– Смотри, вот мой афинейский Альцибиад, – кивнул Шершнев в глубину анфилад. В тесной толпе высилась над пудреными головами орлиная, гордая голова князя Потемкина.
– А тот-то, на кривых ножках, в кошельке и при шпаге, что подле светлейшего лебезит. Тоже придворный чин, бригадир Хованский… Лишился он милостей государыни Елизаветы Петровны, у коей был пажом, за то, что застал ее на судне.
– Да придержи ты язык, – робко дергал его за рукав бакалавр. – Сущий бесстыдник.
– Нет, ты туда посмотри: вон старичок, весь в звездах, паричишко плюгавый… На случай любовных шалостей прелестной супруги его ни один столяр не мог еще сделать надежной кровати.
– Ах, Шершня, – покраснел Кривцов. – И где ты храбрости набрался?
– В прихожей светлейшего. Я нынче в силе. Не то, что ты; сидишь сычом со своим Елагиным чернокнижным.
И тут же схватил руку Кривцова:
– А, и кавалер Калиостр изволил пожаловать, маг плешивый. А с ним и графиня.
Бакалавр не узнал графа. В черном шелковом кафтане и в черных чулках, только жабо пенится на груди пышной пеной, Калиостро ловко и быстро двигался в толпе, ведя за руку Санта-Кроче. Странны и жалостны показались Кривцову ее широко раскрытые, смотрящие вдаль глаза.
– Прекрасная госпожа, – пробормотал он.
– Ты о ком?
– О Санта-Кроче. Нет прекраснее сей госпожи во всем свете.
Шершнев прыснул, прикрыв рот ладошкой.
– Дурак! Да Санта-Кроче – гульбишная девка обычная, граф ее всякому за горсть червонцев продаст. Да светлейший со двора их прогнал… Сущая дрянь твоя Санта-Кроче.
– Шершнев, не смей имя госпожи поносить!
– Да ты кто? Или заодно с Калиострой ею торгуешь? Лицо бакалавра исказилось.
– Никита, не смей… Что тебе соделала сия кроткая госпожа?
– А тебе что соделала, что ты ей такой секурс подаешь? Сущая девка, и все.
– Подлец! – вскрикнул Кривцов.
– Кто подлец, я? И разговаривать с тобой тут не буду, сатисфакцией мне ответишь.
– Хотя бы нынче.
– Так идем, ученая крыса!
Шершнев зашагал против толпы, за ним Кривцов. На них оглядывались, от них отскакивали, они наступали на многие башмаки, чуть не опрокинули у самого выхода горящий канделябр. Старик кофешенк, свесив голову, сверху смотрел, как они бегут вниз по лестнице:
– Животы, что ль, у молодых людей прохватило?
Громоздятся у дворцового въезда семистекольные золоченые кареты, берлины, рындваны. Кричат гайдуки, бичи хлопают, как пистолетные выстрелы… А под сырыми деревьями Летнего сада – безлюдье, тишина, тьма. Едва светится желтоватая полоска неба над Невой. У отлогого берега спит одинокая барка высокой тенью.
– На шпагах с молочным братцем биться восхотел, из-за девки! – размахивал руками Шершнев. – Бесстыжая твоя рожа, франкмасон, Каин.
– Никита, да я…
– Молчи! Еще в Москве в бытность нашу в школе университетской примечено мною, что ты скрытный хитрец, книжник сопливый, я тебя проучу!
– Опомнись, – уговаривал друга бакалавр, – не желал я обидеть, но почто ты бранью обнес госпожу?
– Молчать! Пустил подлеца, да в кусты! Нет, изволь отвечать по правилам французскаго артикула о чести: в позицью!
Мгновенно сверкнула гибкая дуга шпаги. Клинок пронзительно засвистал у лица, у груди бакалавра. Шершнев наступает, выкрикивая:
– Prima – Secunda – Tertia!
Кривцов отбежал, выхватил шпагу. Наотмашь отбил удар. Зазвякала, зачиркала сталь. В темноту посыпались искры. Противники дышали сквозь ноздри, подпрыгивали, присаживались, отбегали, как кошки, и сходились, заложив одну руку за спину…
Клинок Кривцова вдруг устремился во что-то мягкое, податливое.
– Хр-хр-хр – по-собачьи закашлял Шершнев. Кривцов дернул шпагу назад. На руку обильно полилось что-то теплое.
– Никита! – бросился Кривцов к другу.
Тот медленно опускался в траву, точно пробовал, где удобнее сесть, ловил воздух руками:
– Убил ты меня, – прохрипел Шершнев, – убил, брат Андр…
И пал в траву, на живот, подогнув руку вверх горстью.
Все стихло. Сквозь темные листья страшно смотрела бледная полоса неба, страшен стал гул каретных колес у дворца, крики гайдуков, хохот форейторов.
Сырые шаги послышались на аллее.
Кривцов широкими прыжками, как заяц, над которым уже трубят рога доезжачих, кинулся к набережной. Загнутый крюк косицы хлещет по щекам. «Трус, трус – брата бросил», – но слышался гул страшной погони, свист арапника.
Огненные дворцовые окна, семистекольные кареты, форейторы, громоздкие берлины, полосатая будки, часовые, барки, весь Санкт-Петербург, вся Империя погналась за ним.
А во дворце менуэты сменялись гавотами, англэзами, грациозным танцем экосез и чинным гросс-фатером.
Дамы, обмахиваясь павлиньими веерами, поглядывая в нагретое восковым огнем зало, рассаживались вдоль штофных стен под зеркалами. Дамы видели, как иностранец в черном кафтане подвел за руку к генеральс-адъютанту прекрасную и нежную госпожу, окутанную волнами белого флера, в любопытном парижском уборе, – расцветающая приятность.
Ланской освежал лицо у открытого окна. Он смотрел на темные кущи дерев Летнего сада. Пустым невским берегом стремглав пробежал человек.
– Не вор ли? – подумал Ланской. И тут за его спиной кавалер в черном кафтане сказать сипло и вкрадчиво:
– Добрый вечер, господин генерал, поклонись же, графиня.
Ланской тревожно метнул горячими глазами:
– Господин де Калиостр, что вам надобно от меня? И как проникли вы во дворец?
– О, ради одного вас, – поклонился Калиостро, хлестнув сивыми буклями по ладоням Ланского. Тот брезгливо отдернул руку.
– Вы непристойно преследуете меня, господин Калиостр.
– Клянусь Мадонной, не я, а она… Подойди же ближе, графиня.
Калиостро потянул за руку Санта-Кроче, графиня вздохнула, обдала Ланского теплым дыханьем, прошептала жеманно и страстно:
– О, mio carissimo…
– Графиня, граф, прошу вас отойти, ваши любезности мне докучливы.
– Господин генерал, но вы не отказываетесь от любви прекрасной дамы?.. Клянусь, она будет вашей, если вы добьетесь у государыни позволения открыть в Империи заводы для делания золота…
Граф Феникс смотрел на Ланского в упор тяжелым, злым взглядом:
– Я готов передать вам, господин генерал, секрет делания золота. Соглашайтесь, Ланской, соглашайтесь…
И тут из глубины залы, от карточных столов послышался зовущий голос Екатерины:
– Александр Дмитриевич, где вы? Пойдите, батюшка, сюда, а то мы в фараоне вовсе несчастливы.
Граф Феникс съежился, глаза погасли. Ланской провел ладонью по лицу:
– Что вы болтаете, Калиостр, как смеете вы болтать, плут, ярмарочный обманщик.
Эти слова Ланской слышал утром от государыни.
– Как смеешь ты, заезжий лысый черт, шептать мне низкие твои прожекты?
Ланской так прикрикнул на графа, что дамы остановили махание павлиньих вееров, повернули головы:
– Всесветный плут, маг лжи, тут не надобны твои фокусы, – прочь!
Тощие, высохшие от ветхости красавицы прошлого царствования, сидевшие, как нарумяненные мумии, у зеркальных простенков, наклонили друг к другу свои мудреные кауфюры, заговорили все разом:
– Фаворит-то, сударыньки, фаворит… Самого Калиостро осрамил.
Графу Фениксу все уступали дорогу со смехом, кто-то подставил ножку. Калиостро, рыча, перескочил.
Волоча за собой Санта-Кроче, он сбежал с лестницы. У кареты Жако и Жульен подхватили графиню под руки. Калиостро, оскаленный, взбешенный, рванул жабо, кружева с треском лопнули:
– А, мальчишка, москов, теленок Астреи, я припомню тебе!..
Пушечной пальбой загремели колеса графского дормеза по настилам моста.
Три буквы
На краткий миг моя.
Потом навек
Я – для тебя.
Старинный романсЯличник, заспанный парнишка без шапки, – невский ветер трепал всю дорогу его белесные волосы, – перевез бакалавра на Островную сторону. Кривцов лежал в лодке ничком.
Заскрипели уключины, парнишка зацепил багром деревянную сваю:
– Вылезай, гвардея, – сказал он рассудительно. – Было б вина не пить, а то, вишь, раскуражился…
Кривцов отсыпал ему в рваную шапку медяков.
Погашенным, темным стоял дворец Елагина. Бакалавр отпер ночную калитку за сараем, прошел к себе и, как был, в шляпе и в парадном кафтане лег на жесткий диван, задев головою «Похищение Европы». И тут же вспрянул со стоном:
– Убил, убил!
– Из-за тебя, Феличиани, из-за тебя, – бормотал он лихорадочно высекая огонь.
И заслонив свечу ладонью, крадучись, пробрался на антресоли…
Запах птичьего пуха, шерсти, кислый воздух Калиострова чулана обдал его. Кривцов сел на корточки перед таинственной третьей дверью:
– Госпожа, слышишь ли, знаешь ли, за одно имя твое я убил…
Бакалавр шептал, плакал, клялся и молился у запертого покоя.
Вдруг в замочной скважине щелкнул ключ.
Медля, толчками, дверь стала приотворяться. Кривцов отшатнулся. На пороге в белых одеждах – как мертвая в саване – стоит Санта-Кроче, в руке горящая свеча. Сияют влажные глаза.
– Не пугайтесь, мой кавалер, – грудным голосом сказала графиня. – Не дрожите так, бедный москов.
– Чур меня, чур… Видится мне…
– О, нет… Отнюдь не видение, а живая Санта-Кроче, которую тронули до слез ваши горячие признания и печальные жалобы вашего флажолета. Не правда ли, концерты на рассвете были для меня?
– Да, для вас, да, – заикаясь от страха бормотал Кривцов.
– И вот я отперла дверь. Войдите. Странное ночное приключение…
Тут Санта-Кроче закашлялась, прикрывая рот шелковым платком. Передохнула.
– Я очень больна, мой ночной кавалер… – Войдите.
В горенке Феличиани над чисто застланной постелью – мраморное Распятие, у изголовья брошена на кресла крошечная книжка, католический молитвенник.
– Не понимаю, не понимаю, – озирался Кривцов, – Санта-Кроче во дворце, Санта-Кроче тут… Две Санта-Кроче.
– Не бойтесь: Санта-Кроче только тут. И протянула руки. Бакалавр сжал ее горячие ладони, заглянул в темные, влажные глаза:
– Ты, только ты – Санта-Кроче?
– Конечно же, а там, во дворце, – фантас, выдумка.
В маленьком покое, за чуланом, госпожа и бакалавр беседовали вполголоса. При тусклом свете ночника Кривцов заметил, что на его пальцах и кружевах запеклась кровь.
– Боже, я убийца!
– Успокойтесь, мой бедный кавалер… От неверного удара шпаги, в потемках, не умирают мгновенно: я думаю, ваш друг ранен.
– Ранен? Помоги, Богородица.
Бакалавра ободрил этот грудной, легкий голос.
– Ваши признания, мой кавалер, так горячи и сердечны… Выслушайте и мои: Джу действительно показывает всему свету ту госпожу Санта-Кроче.
– Какой Джу?
– Калиостро. Его зовут Джу.
– Великий маг создал ваш двойник?
– Маг? Какой же Джу маг? Впрочем, точно не знаю. Он очень хитрый… Дайте мне слово, что вы никому не откроете один из секретов его.
– Даю…
– Слушайте… Мы бродили тогда по Германии. В Гейдельберге или в Штуттгарте, забыла город, но прозвище трактира, где мы стояли, мне памятно – «Голубые олени», – осенью трактирщик так дурно топил нашу комнату, что я стала кашлять… Вы знаете, кавалер, что Джу таскает меня по всему свету для своих магических опытов, которые отнимают мои последние силы. Я была и раньше очень слаба, а в «Голубых оленях» у меня открылась грудная болезнь… Джу, – по правде сказать, Джу добряк, – он много болтает, часто врет, бесится, морочит дураков, но он – добряк, поверьте мне. Ведь я отдала ему молодость, – Джу торговал когда-то пластырями и эликсирами на итальянских ярмарках, когда-то мы любили друг друга… Но о чем я?.. Да, Джу считает себя врачом. В «Голубых оленях» ему удалось поднять меня на ноги, но в Митаве я снова простудилась, а в вашей суровой Московии, где и летом дуют ветры от ледяных морей, я слегла. И вы видите меня тут, в тайном покое, взаперти… Джу скрывает меня от всего света… Джу никому не посмеет признаться, что его блистательная Феличиани, непобедимая красавица, вечно юная Венера, совершеннейший образец его жизненных эликсиров, прекрасная графиня Санта-Кроче, слава о которой гремит по всем королевствам, – больна, похудела, стареет и скоро умрет, как умирают все… Посмотрите, у чахнущей Венеры лихорадочный румянец на впалых щеках.
– Боже, – страдая и сожалея, стиснул руки Кривцов. Феличиани отвела с виска темную прядь. Ее тонкие ладони тихо пали на колени.
– Я говорю вам все, в надежде на вашу честь и молчание, мой кавалер… И теперь я помогаю Джу в магических опытах. Без меня они неудачны. Джу румянит, сурмит меня, как куклу, и вывозит в собранья.
– Так значит, это вы летали в ложе Гигея вокруг его шпаги, по воздуху?
– Я была в Гигее, но ничуть не летала. Я бескрылая, мой бедный мечтатель… Калиостро делает так, что всем чудится. Я вам скажу…
Санта-Кроче наклонилась к уху бакалавра:
– Я думаю, что Калиостро несчастный обманщик.
– Почему несчастный?
– Слушайте… В «Голубых оленях», в отчаянии что я умру, он обезумел, он рычал, он страшно проклинал и Сладчайшее сердце Иисуса и Деву Марию. Ведь без меня его опыты неудачны… Тогда-то, в бешеном ропоте на небеса, надписал он на дипломах свой девиз «Lilium pedibus destrue» – еретик, богохульник – он мне не давал умереть покойно – «Феличиани, если проклятая смерть похитит тебя – тогда на небе тот же обман, тогда там такой же кавалер Калиостро, как я, который дурачит нас всех…» И однажды он привел с собою бродячего хромоногого музыканта. Это был сумасшедший немец с всклокоченными волосами, один глаз у него косил. Я помню, что один глаз был у него карий, а другой голубой, как стекляшка. Он носил зеленый, штопаный сюртук, закиданный табаком, а звали его Иоганн-Готлиб-Терезия Купенфатер. Он был скрипачом королевского оркестра, продавцом лекарств, поэтом, изобретателем и баварским иллюминатом. Этот хромоногий черт продал Джу свое последнее изобретение, механическую куклу, ту Санта-Кроче, которую вы видели в сундуке.
– Госпожа из сундука – кукла?
– Конечно. Разве вы не читали о механических музыкантах, о танцующих марионетках, составленных из шелка, кружев и пружин. Купенфатер и Калиостро смастерили механическую Санта-Кроче. Она очень сложна: внутри переливается в сосудах ртуть и воск, всегда подогреваемые лампой, которая горит там, где у нас желудок и сердце. Ее кожа из тончайшего китайского шелка, а под кожей теплый воск и стальные шарниры. Правда, ей нельзя долго быть среди многих свечей и где воздух нагрет; от дыхания Санта-Кроче может растаять…
– Кукла, кукла, – бормотал Кривцов.
– Калиостро сказал мне: «Пойми, Феличиани, этим дуракам нужна мечта, обман. Когда ты умрешь, пусть они бегают за восковой Санта-Кроче, покуда она не растает…» Не правда ли, он груб, Джу?.. Я скоро умру, а будет жить обман… Мы поквитались, кавалер, вы узнали мою тайну… Бедный влюбленный, оставьте зачахлую Венеру. Выдумка Калиостро, Венера на шарнирах, чудеснее моей скучной правды.
– Нет, нет, вы прекрасны и пред лицом граций, кроткая госпожа… Клянусь, жизнь мою готов бы отдать, чтобы вы жили.
Бакалавр опустился на колени, горячие ладони итальянки обхватили ему голову. Ее глаза странно блеснули, губы вспыхнули яркой кровью:
– Кавалер, ты полюбил меня?
– Люблю, люблю, – глотая слезы, шептал бакалавр.
– Но ты забыл о философском камне…
– Философский камень? Ах, если бы найти его для тебя… Но почему ты вспомнила о камне?
Санта-Кроче коротко рассмеялась:
– Я пошутила… философского камня нет, а золото, которое вы ищете, – обман… Калиостро бредет наугад… Как алхимик, сошедший с ума, он мешает старинные формулы, вычисления, знаки – «А вдруг, Феличиани, найдется секрет деланья золота?» – говорит Джу… Джу ничего не знает… Но когда я смотрю на вас, мой бедный влюбленный, мне вспоминается, что истинный философский камень есть. Калиостро и я – мы когда-то знали о нем… Когда-то… Но мы забыли…
– А, философский камень все-таки есть! – вскрикнул бакалавр.
Мягко, точно стыдясь движения своего, Феличиани чуть сжала его щеки ладошами, приподняла ему голову, приблизила мерцающие глаза. Ресницы защекотали лоб бакалавру:
– Есть, мой бедный влюбленный, есть… Он уже был, когда родилось солнце, дохнул первый ветер, зашумела волна… Слушай, я вспомнила… Вот магическая формула: первая буква – А, вторая – М, третья – О…