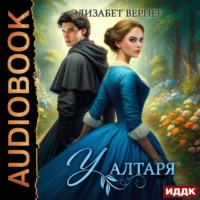Полная версия
Архистратиг Михаил
– А, вот и ты, ветрогон! – весело сказал он. – Я только что говорил тетке, что в доме теперь все пойдет колесом, как и всегда, когда ты удостаиваешь его своим посещением!
– О, нет, отец, на этот раз я предполагаю быть рассудительным, невероятно рассудительным! – отозвался Ганс и сейчас же дал доказательство твердости своего намерения, схватив за талию тетку и принявшись отчаянно кружить ее по комнате.
– Да оставишь ли ты меня в покое, злой мальчик! – задыхаясь, заворчала она, когда он наконец выпустил ее из объятий и почтительно раскланялся, сняв шляпу.
– Прости, тетя, но это было необходимым вступлением к моему посланничеству. В кухонном департаменте требуется твое присутствие, и я охотно взял на себя поручение довести это до твоего сведения, так как вообще люблю быть полезным по хозяйству!
Стремление племянника быть полезным показалось хозяйке дома явно подозрительным, и она недовольно спросила:
– Что тебе надо было на кухне?
– Господи, я только поздоровался со старой Гретель! – ответил Ганс с самым невинным лицом.
– Вот как? Ну, а молоденькой Лени при этом, конечно, не было?
– Я приказал представить мне Лени, потому что ее я ещё не знал. Для меня, как близкого родственника хозяйки дома, это было обязанностью. О, у меня ужасно хозяйственные наклонности!
– Милый Ганс, – решительно сказала ему тетка, – твои «ужасно хозяйственные наклонности» мне решительно ни на что не нужны, и если эти наклонности еще раз заведут тебя на кухню к девушкам, то я прикажу держать дверь на запоре, заруби себе это на носу, – и с этими словами она величественно выплыла из комнаты.
– Берегись! – сказал профессор. – Хоть ты и большой любимчик тетки, но в этом пункте она не признает шуток. И она совершенно права. Ну, да по крайней мере она может успокоиться по поводу твоего отчаяния. Она упорно твердит, будто ты несчастен в своем призвании!
– Нет, отец, я далеко не несчастен, – заверил молодой человек, усаживаясь верхом на стуле и с удовольствием озираясь вокруг.
– В этом я никогда и не сомневался. Подобные вздорные мысли пропадают сейчас же, как только начинаешь заниматься серьезными делами!
– Ну, конечно, отец! – согласился Ганс, старательно раскачивая стул, что его, по всей видимости, очень забавляло.
– А что может быть серьезнее науки? – продолжал Велау. – К сожалению, в последнее время у меня было… Ганс! Стулья сделаны вовсе не для верховой езды, от этих студенческих замашек пора отучиться, они не приличествуют докторанту! В последнее время я был слишком занят, чтобы основательно проверить твои работы. Ты ведь знаешь, что труд, который я только что закончил, совершенно поглощал все мое время. Но теперь я свободен и могу наверстать упущенное.
– Ну, разумеется, отец! – произнес Ганс, который оставил в покое стул, но зато уселся на стол и болтал ногами.
К счастью, профессор не видел этого, поскольку как раз прибирал что-то на своем письменном столе, говоря:
– Студенческие времена уже прошли для тебя, и я надеюсь, что с ними кончилась и студенческая распущенность. Я очень рассчитываю на твою серьезность, когда начну вводить тебя в высшую науку. Собери все свои силы, Ганс! Когда-нибудь ты будешь мне благодарен, заняв мою профессорскую кафедру!
– Ну, конечно, отец! – согласился в третий раз покорный сын, соскакивая в тот же момент со стола, так как отец обернулся и послал ему негодующий взор.
– Неужели ты не можешь отделаться от этих ухваток заправского бурша! Бери пример с Михаила! Вот он никогда не позволит себе ничего подобного!
– О, нет, конечно, нет! – рассмеялся Ганс. – Господин лейтенант и дома является воплощенным регламентом о службе. Вечно при оружии, вечно застегнут до самой шеи. Кто бы мог подумать это, когда он в первый раз пришел к нам! Тогда он был пугливым, придурковатым мальчишкой, смотревшим на мир и людей, как на что-то невиданное и неслыханное. Мне пришлось с самого начала взять его под свое крылышко.
– Ну, мне кажется, он скоро вырос из-под твоего крыла! – насмешливо заметил профессор.
– К сожалению! Теперь наши роли переменились, и он командует мной. Но согласись, отец, что и ты сам вначале отчаивался сделать из него что-нибудь путное!
– Что касалось внешней формы, то да. Но уже тогда выяснилось, что он учился гораздо больше, чем я мог ждать: мой брат оказался отличным учителем. Когда же Михаил очнулся, то принялся за работу с такой энергией, с такой поразительной выдержкой, что мне не раз приходилось дивиться ему!
– Да, Михаил всегда был твоим любимцем, – сказал Ганс – Его ты никогда ни к чему не принуждал и сразу согласился, когда он захотел стать военным. А вот я…
– Ты – совсем другое! – перебил его отец. – Михаил должен был сам избрать свой путь и обеспечить себе будущее, и с таким характером, как у него, лучше всего стать военным. Ну, а ты должен пожать мой посев, и потому тебе придется остаться на моем поле…
Выражение лица молодого человека ясно говорило, что он плохо мирится с этой необходимостью. Вдруг он вскочил и радостно крикнул:
– А вот и Михаил!
Глава 6
Десять лет – большой срок в человеческой жизни и имеет еще большее значение, если приходится на пору развития. Но превращение, которое произошло с Михаилом, производило впечатление чего-то чудесного. Бывший приемыш лесника Вольфрама и молодой офицер, только что вошедший в комнату, – были две совершенно противоположные личности, не имеющие между собой ровно ничего общего.
Конечно, красавцем Михаил Роденберг не стал и в этом отношении значительно уступал Гансу Велау, но тем не менее он был одной из тех фигур, которые никогда и нигде не остаются незамеченными. Его мощная, мускулистая фигура казалась созданной для мундира и шпаги, вся неуклюжесть, отличавшая подростка Михеля, исчезла и сменилась бравой военной выправкой. Густые белокурые вьющиеся волосы подчинились наконец гребню и щетке, не поступившись своей пышностью, а такая же белокурая борода обрамляла лицо, которое никоим образом не могло претендовать на красоту, но и не нуждалось в ней. Теперь это было уже не юношеское лицо. Энергичное, очень выразительное, оно принадлежало зрелому мужу, может быть, даже преждевременно созревшему, потому что каждая его черта говорила о серьезности и суровости, не свойственных юности.
Во взоре тоже не было прежней сонливой мечтательности: взгляд Михаила Роденберга стал уверенным и проницательным, только вот к жизнерадостности и воодушевлению взгляд этих глаз, казалось, не был привычен. Во всем существе молодого человека чувствовалось что-то холодное, да и вообще он представлял собой воплощенное олицетворение солдата до мозга костей.
– В мундире? – недовольно воскликнул профессор, когда Михаил подошел к нему с кратким приветствием. – Разве тебе предстоят здесь официальные визиты?
– Отчасти да. Я должен побывать в Эльмсдорфе. Мой бывший полковой командир, полковник фон Реваль, с тех пор как вышел в отставку, обыкновенно проводит летние и осенние месяцы в своем имении. Наверное, он полагает, что я уже давно здесь, потому что вчера по приезде я застал записку, в которой полковник пригласил меня на сегодня в Эльмсдорф. Я надеюсь, что тетя простит меня: полковник всегда выказывал мне особенное дружеское расположение.
– Да, ведь ты был его любимцем, – вмешался Ганс. – Когда он вернулся после окончания датской войны[4], то лично отправился к отцу, чтобы поздравить его с таким сынком, как ты. Я тогда был просто в бешенстве. Еще бы! Целыми неделями я только и слышал, что хвалебные гимны по твоему адресу и весьма нелестные сравнения в мою сторону! Да, твои геройские деяния были для меня крайне неудобны!
– С таким сынком, как ты, меня еще никто никогда не поздравлял, – довольно резко заметил старик Велау. – Между прочим, я ждал вас уже на прошлой неделе. Почему вы так запоздали?
– Из-за Михаила! Ведь он должен был сначала отвести домой своих солдат. Когда я отправился за ним, то натолкнулся на необыкновенное счастье…
– Как и всегда, конечно! – вставил профессор.
– Ну да! Я уже приготовился проскучать целую неделю в маленьком провинциальном городе, и что же я слышу, приехав? Михаил обретается в трех милях отсюда в прелестном курорте, в окрестностях которого происходят маневры. Разумеется, я сейчас же направился туда, благословляя мудрую распорядительность военных властей. Нечего и говорить, что господин лейтенант по уши вошел в служебный долг и оставался глух решительно ко всему, даже к такому знакомству, в котором ему завидовал весь офицерский состав, тогда как он сам не знал, что ему с этим знакомством делать! Иначе говоря, не было возможности найти доступ к графине Штейнрюк, потому что она была очень больна.
При этом имени профессор насторожился и испытующе посмотрел на Михаила.
– Графиня Штейнрюк?
– Графиня фон Штейнрюк ауф Беркгейм[5]! Ведь ты знаешь, графиня говорила, будто ты еще молодым врачом бывал в доме ее свекра и по ее просьбе поспешил к ее умирающему мужу, за что она до сих пор благодарна тебе.
– Ну, конечно, я ее знаю. Но каким образом ты завел это знакомство, Михаил?
– Случайно, – лаконически ответил лейтенант.
– Во всяком случае его вины тут не было, – съязвил Ганс с непринужденностью, которая доказывала, что он не имел понятия о значении имени Штейнрюк в жизни Михаила. – Я подробно расскажу тебе всю эту историю, отец, она начинается высоко романтически. Так вот, Михаил сидит в лесу, то есть, иначе говоря, муштрует своих солдат и командует упражнениями в стрельбе. В это время по шоссе, которое проходит неподалеку от того места, проезжает экипаж. Лошади пугаются выстрелов, кучер теряет вожжи, и опасность неминуема! Вдруг из леса несется рыцарь, укрощает испуганных животных, вытаскивает впавших в глубокий обморок дам и…
– Да не отступай же от истины, Ганс! – недовольно перебил рассказчика молодой офицер. – Ни опасность, ни рыцарский подвиг вовсе не были так велики, как тебе благоугодно это изобразить. Я заметил, что лошади начинают пугаться, и подскочил, чтобы предупредить несчастье. Но лошади сейчас же остановились, как только я схватил их под уздцы, а дамы спокойно остались в экипаже. Ты непременно должен все возвести в область поэзии!
– А ты во что бы то ни стало низводишь все в область трезвой прозы, – сердито возразил Ганс. – Я слышал эту историю от самой графини, которая так же категорически утверждает, что ты был ее спасителем, как ты отрицаешь это!
Михаил пожал плечами и обратился к профессору:
– Графиня и в самом деле утверждала это, а поскольку дом, в котором я жил, находился в близком соседстве с занимаемой ею виллой, то мне никак не удавалось избежать частых встреч с нею. Но я был чрезвычайно занят службой, и у меня было мало свободного времени.
– Ну, да, у него всегда и вечно служба! – возмущенно крикнул Ганс. – В конце концов его просто нельзя было повидать хоть на минутку. Мне с большим трудом удалось добиться, чтобы он представил меня дамам. Но, сделав это, он сейчас же ушел, предоставив мне как угодно объяснить им его поведение. Дамы были с ним в высшей степени любезны, а он оставался какой-то ледяной сосулькой!
– Наверное, у Михаила были для этого свои основания, – холодно сказал профессор, – и если он считал нужным держаться в стороне от них, то ты должен был следовать его примеру.
– Нет, это было попросту невозможно, так как молодая графиня слишком прекрасна для этого. Она словно выскочила из мира наших сказок – чудные золотистые волосы, глаза – как звезды… Ах, эти глаза могут с ума свести!
– И язвительно высмеять тоже, – добавил Михаил холодным тоном, странно контрастировавшим с энтузиазмом Ганса. – Берегись этих глаз, Ганс! Слишком тяжело, когда тебя сначала подманят, а потом высмеют!
– Ты хочешь сказать, что графиня Герта очень высокомерна? Что же, и я не уверен, что простому смертному, не могущему насчитать по крайней мере восемнадцать предков, подадут великолепнейшую карету, если он осмелится посвататься за графинюшку. Но ввиду того, что я совершенно не домогаюсь этой чести, подобные соображения отнюдь не мешают мне восхищаться ею. И если бы даже я допустил этим глазам зачаровать меня, то…
– Это уж ты потрудись оставить! – внушительно оборвал его отец. – Теперь тебе нечего думать ни о сказках, ни о «глазах, как звезды». Попрошу раз и навсегда выкинуть из головы подобную чушь и думать исключительно и только о предстоящей диссертации!
При этих словах молодые люди обменялись быстрым многозначительным взглядом, а затем Михаил сказал с легким оттенком насмешки:
– Не беспокойся, дядя! Если бы даже Ганс и в самом деле воспламенился, то для него это не представляет опасности: с ним это довольно часто случается!
– Ну да, до сих пор он слишком много ребячился и глупил, но отныне должен постараться настроиться на серьезный лад. Я нарочно освободился сегодня до обеда, и мы можем наконец подробно поговорить с тобой о твоих занятиях, Ганс. До сих пор я имел только поверхностное понятие о твоих успехах и желаю основательно порасспросить тебя. Я сейчас приду: только еще раз внушу Лени, чтобы она не забыла о сегодняшней почте!
Профессор вышел из комнаты. Ганс посмотрел ему вслед, скрестил руки и сказал вполголоса:
– Вот когда взорвется бомба!
– Не относись так легко к этой истории! – заметил Михаил. – Тебе во всяком случае придется выдержать жестокую борьбу, потому что дядя выйдет из себя.
– Я знаю, я готов и вооружился на сей предмет. Но уж не хочешь ли ты уйти отсюда! Нет, брат, это не дело, я не могу обойтись без резерва в предстоящей битве. Если завяжется слишком горячая схватка, я вытяну тебя в качестве вспомогательного корпуса. Уж окажи мне такую услугу, останься!
– Я рад, что теперь конец тайне, – недовольно сказал молодой офицер, отходя к оконной нише. – Я дал тебе слово молчать, но это было мне очень тяжело, гораздо тяжелее, чем тебе.
– Ба! Я не мог ничего поделать иначе. Ведь у вас, военных, тоже допускаются военные хитрости… Тише! Отец возвращается! Смело в атаку!
Действительно, профессор вернулся и, благодушно усевшись в кресле перед письменным столом, знаком подозвал к себе сына и произнес:
– Во всяком случае ты был в хороших руках. Коллега Бауер – признанный авторитет в нашей специальности и вполне разделяет мои принципы; вот почему я сдался на твои просьбы и послал тебя в Б. Правда, я не раз опасался того, что ты домогался лишь беспечального студенческого жития, но тем не менее считал, что будет очень хорошо, если ты продолжишь свои занятия под другим руководством. Ну-с, а теперь послушаем.
Было похоже, что молодому человеку не по себе от этого вступления. Он смущенно дергал усы и не без запинок ответил:
– Да… профессор Бауер… Я посещал его лекции… даже очень регулярно…
– Но разумеется! Ведь главным образом к нему я и посылал тебя!
– Только учился я не у него, отец!
Велау нахмурился и с упреком сказал:
– Ганс, нехорошо с твоей стороны было пренебречь таким заслуженным ученым. Конечно, с ним во многом нельзя согласиться, но тем не менее его труды очень значительны.
– Господи, да ведь я говорю вовсе не о научных трудах и заслугах профессора, а о своих собственных, которые, к сожалению, были слишком незначительны, почему я и позволил себе несколько изменить свои занятия.
– Несмотря на мое вполне категорически выраженное желание? Ведь я же составил для тебя вполне точный план занятий! К кому же ты обратился?
Ганс на секунду замялся с ответом, кинул взгляд на оконную нишу, где обретался его «резервный корпус», затем не без труда выговорил:
– К профессору… Вальтеру…
– Вальтеру? Это кто? Я не знаю такого!
– Да нет, отец, ты наверное слышал имя Фридриха Вальтера. Ведь он всемирно известный художник…
– Кто? – переспросил профессор, которому показалось, что он ослышался.
– Художник, и вот потому-то я и хотел отправиться в Б. Маэстро Вальтер живет там и оказал мне честь принять меня в свое ателье. Дело в том, что я собственно занимался не естественными науками, а живописью…
Теперь решающее слово было сказано! Профессор Велау подскочил и, почти лишившись дара слова, безмолвно смотрел на сына. Наконец он загремел:
– Да ты рехнулся, что ли?
Но Ганс отлично знал, что успех может быть достигнут лишь в том случае, если он не даст отцу говорить. Поэтому он торопился продолжать:
– Я был очень старателен эти два года, чрезвычайно старателен. Мой профессор подтвердит тебе это, отец; он находит, что теперь я могу работать уже самостоятельно. На прощание он сказал мне: «Вашему батюшке наверное будет очень приятно, когда он увидит ваши произведения, вы только сошлитесь на меня!».
Ганс выложил все это очень бегло, речь текла словно мед с его уст. Однако это ему не помогло, профессор понял наконец, что Ганс совершенно серьезно «позволил себе несколько изменить свои занятия». И вот бомба взорвалась!
– И ты осмеливаешься говорить мне все это? Ты решился тайно за моей спиной разыграть подобную комедию, пойти наперекор моему запрещению, насмеяться над моей волей и теперь воображаешь, что я склонюсь перед так называемым «совершившимся фактом» и скажу «да» и «аминь»? Ну, так ты жестоко ошибаешься!
Ганс опустил голову и состроил крайне подавленную физиономию.
– Не будь так суров, отец! – произнес он. – Ведь искусство, это – мой идеал, поэзия и цель моей жизни, и если бы ты знал, какие угрызения совести терзали меня из-за моего ослушания!
– По тебе видны все твои угрызения совести! – крикнул профессор, все более и более свирепея. – «Идеал»! «Поэзия»! Вот она опять, эта проклятая история! Боевые словечки, которыми думают прикрыть все глупости, когда-либо совершенные людьми! Только не воображай, пожалуйста, что со мной пройдет подобное идиотство! Какой бы чепухой ты ни занимался там, теперь ты вернешься домой, а уж я возьмусь за тебя! Прежде всего ты сдашь докторский экзамен, слышишь ты? Я приказываю тебе это!
– Да ведь я ровно ничему не учился! – объявил Ганс с торжеством. – Во время лекций я рисовал портреты или карикатуры на профессоров – смотря по настроению, ну, а вся ученость, которой ты меня начинял прежде, выветрилась из меня. Поэтому я не в состоянии написать и трех страниц диссертации, а ты ведь не пошлешь меня сызнова в университет!
– Да ты просто хвастаешься своим невежеством! – пронзительно закричал профессор. – А неслыханный обман по отношению ко мне тебе, наверное, представляется геройским подвигом?
– Нет, просто – необходимой самозащитой, к которой я обратился, когда иссякли все прочие средства. Как просил и умолял я тебя! Увы, все было напрасно, ты не сдавался! Я должен был пожертвовать всем – своим талантом, своей будущностью ради дела, к которому вовсе не гожусь и в котором никогда не смогу создать ничего путного… Ты отказал мне в средствах для художественного образования и рассчитывал этим путем покорить меня. Когда я говорил тебе: «Я хочу стать художником», – ты отвечал мне непреклонным «Нет!». А теперь я говорю тебе: «Я стал художником», – и тут уж тебе придется сказать «Да»!
– Это мы еще посмотрим! – сызнова вскипел Велау. – Я еще посмотрю! Неужели я не могу смирить своего собственного сына? В своем доме я – полный хозяин, я не терплю никакого бунта, и если кто вздумает пойти наперекор моей воле, тому придется оставить мой дом!
Молодой человек побледнел при этой угрозе; он подошел вплотную к отцу, и полный мольбы голос звучал глубокой серьезностью, когда он сказал:
– Отец, прошу тебя, не будем заходить так далеко. Я просто сделан из другого теста, чем ты; я издавна чувствую лишь страх и ужас перед твоей высокой, холодной наукой, которая делает жизнь такой ясной и… такой пустынной! Ты не постигаешь, что существует иной мир, что есть юность, которой этот мир так же необходим, как воздух для дыхания. Ты непреклонно вырываешь у природы ее тайны, все, что живет и развивается в царстве природы, должно подчиниться твоим законам и системам, о каждом существе ты знаешь, как оно создается и обращается в ничто. Но своего собственного сына ты не знаешь, и его тебе не уложить ни в одну из твоих систем. Ему, по счастью, удалось приберечь себе немножко идеалов и поэзии, и с этим багажом он пойдет своей собственной дорогой, на которой он не посрамит твоего имени!
Сказав это, Ганс повернулся и направился к двери.
Но профессор абсолютно не был расположен покончить на этом разговор.
– Ганс, ты останешься здесь! – крикнул он. – Ты сию же минуту вернешься!
Но Ганс счел за благо не расслышать приказания. Он видел, что его «вспомогательный корпус» двинулся вперед, и предоставил ему прикрыть отступление.
– Пусть идет, дядя! – сказал Михаил, подходя вплотную к рассерженному старику. – Ты слишком взволнован, успокойся сначала!
Уговоры остались бесплодными. Велау вовсе не думал успокаиваться и теперь, когда непокорный сын вышел за «пределы досягаемости», с новой яростью обрушился на его заступника.
– И ты тоже был с ним в заговоре! Ты знал обо всей этой грязной истории, не отпирайся! Ганс ничего не скрывает от тебя. Почему ты молчал?
– Потому что я дал ему слово и не мог нарушить его, хотя и не одобрял этой таинственности.
– Тогда ты должен был по собственному почину взяться за дело и образумить Ганса!
– И этого я тоже не мог: Ганс был в своем праве!
– Что такое? Теперь и ты начинаешь? – закричал профессор.
Но Михаил спокойно ответил:
– Да, дядя, он был в своем праве! Я тоже не позволил бы навязать себе профессию, которой не люблю и к которой не гожусь. Я только действовал бы более открыто и потому выдержал бы более тяжелую борьбу, чем Ганс, который попросту уклонился от всякой борьбы. С того самого дня, когда ты заставил его взяться за науку, он начал заниматься рисованием. Но в заключение он убедился в невозможности закончить художественное образование у тебя на глазах, а потому и отправился в Б. Наверное, он создал что-нибудь выдающееся, потому что если такой человек, как профессор Вальтер, дает свидетельство его художественной зрелости, то…
– Молчи! – загремел профессор. – Я ничего не хочу слышать! Я говорю «нет» и еще раз «нет», и… А ты тоже лезешь ко мне со своим триумфом? Ты тоже, конечно, была в заговоре?
Последние слова относились к свояченице, которая, ничего не подозревая, вернулась в комнату, чтобы взять забытые ключи, и теперь была страшно поражена сердитым приемом.
– Да что с тобой? – спросила она. – Что случились?
– Случилось? Да ничего не случилось! Произошла только «маленькая перемена в занятиях», как благоугодно было выразиться моему сынку. Но горе мальчишке! Он еще узнает меня, пусть только попадется мне на глаза!
Велау, словно ураган, умчался из комнаты, с треском хлопнув за собой дверью, а хозяйка дома с искренним испугом обратилась к Михаилу:
– Да что же здесь случилось? Скажите мне, Бога ради!
– Катастрофа! Ганс сознался отцу в проделке, которую не мог скрывать долее. Он вовсе не занимался науками, а воспользовался университетскими годами, чтобы заняться живописью и закончить свое образование художника. Однако прости, тетя, я должен бежать за ним, потому что будет и в самом деле нехорошо, если он попадется теперь на глаза отцу.
С этими словами Михаил вышел из комнаты, а бургомистерша несколько минут простояла на месте наподобие соляного столба. Мало-помалу ее лицо прояснилось, и наконец она сказала с величайшим удовлетворением:
– Ганс натянул непогрешимому господину профессору нос, да еще какой! Что за золотой парнишка!
Глава 7
Эльмсдорф, имение отставного полковника фон Реваля, находилось невдалеке от города. Оно не представляло собой старого горного замка с лесными и охотничьими округами и историческим прошлым, как Штейнрюк, а было современным уютным жильем, необыкновенно приспособленным благодаря удачному местоположению для. летнего пребывания. Дом – обширная вилла с балконами и террасами – был окружен чудно разбитым парком; внутреннее убранство не сияло великолепием, но говорило об изящном вкусе и богатстве владельца.
Полковник Реваль три года тому назад подал в отставку из-за тяжелой раны, полученной в последнюю войну. С того времени он жил с женой зимой в столице, а летом в Эльмсдорфе, превращенном им из простого поместья в очаровательный уголок.
Михаил Роденберг, служивший в полку Реваля и бывший в последнее время его адъютантом, с самого начала пользовался исключительным благоволением начальника, который находил случай неоднократно доказывать ему это благоволение и после выхода в отставку.
В этот день в Эльмсдорфе было большое торжество: справляли день рождения госпожи фон Реваль, и на праздник было созвано многочисленное общество. Было само собой понятно, что Михаила тоже пригласили, и вместе с тем приглашения были посланы и обоим Велау. Однако Ревалю пришлось отказаться от надежды видеть среди своих гостей знаменитого ученого. Профессор Велау извинился нездоровьем, а на самом деле просто был в отвратительном настроении духа из-за своеволия Ганса. Таким образом, молодые люди отправились в Эльмсдорф одни.