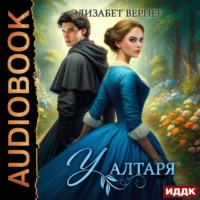Полная версия
Архистратиг Михаил
Тем временем сани подъехали ближе и остановились перед церковным домом. Из них вылез господин в шубе и заявил выбежавшей ему навстречу служанке, что желает видеть его высокопреподобие. Затем, не давая никаких пояснений, он прошел прямо в кабинет к священнику.
При звуках его голоса отец Валентин вздрогнул и вскочил с выражением радостного изумления:
– Ганс! Да ведь это – ты!
– А, все-таки узнал меня? Ну, не было бы большим чудом, если бы мы забыли друг друга! – ответил приезжий, протягивая руку, которую священник схватил с глубокой сердечностью.
– Добро пожаловать! Как это ты нашел меня?
– Н-да-с! Добраться до тебя было не так-то легко! – заявил гость. – Часами нам приходилось пробиваться через глубокий снег, порой дорогу преграждали поваленные сосны, а то мы попадали и в засыпанный снегом горный ручей. В виде развлечения на нас свалилась с гор маленькая лавина. И притом мой кучер упрямо твердил, что это – проезжая дорога! Хотел бы я посмотреть на ваши пешеходные тропинки – они, наверное, доступны только для гусей!
– Ты остался прежним, – сказал отец Валентин, улыбаясь, – вечно насмехаешься и критикуешь… Оставь нас одних, Михаил, и скажи кучеру господина, чтобы он выпряг лошадей.
Михаил вышел, а гость, кинув ему вдогонку беглый взгляд, спросил:
– Ты завел себе служку? Что за мечтательная физиономия?
– Это – мой ученик, с которым я занимаюсь.
– Ну, это, наверное, трудная работа! С такой головой далеко не уйдешь! Судя по внешнему виду, все таланты парня заключаются лишь в его кулаках.
Тем временем гость снял шубу. Он был лет на пять-шесть моложе священника, но взгляд светлых, проницательных глаз и вся осанка выдавали в нем человека, который был в своем кругу признанным авторитетом.
Он окинул внимательным взором обстановку комнаты, дышавшую монашеской простотой, и затем сказал без насмешки, но с глубокой горечью:
– Так вот где ты бросил якорь… Я не представлял себе твоего одиночества таким пустынным и далеким от мира. Бедный Валентин! Ты должен платиться за то, что я своими исследованиями наношу чувствительный удар вашим догматам и что мои книги попали в индекс[1]!
– Что это тебе пришло в голову? – ответил священник, делая отрицательный жест. – У нас постоянно происходят перемены, и я получил назначение в Санкт-Михаэль потому…
– Потому что твоим братом оказывается Ганс Велау! – договорил гость. – Если бы ты публично отрекся от меня и хоть разочек принялся громить с кафедры атеизм, тебя перевели бы в богатый приход, ручаюсь тебе! Ведь отлично известно, хотя мы не виделись с тобой долгие годы, что все же мы не порвали связи между собой, и вот за это-то тебе и приходится платиться. Почему ты открыто не проклял меня? Честное слово, я не был бы в претензии на тебя за это, потому что ты и в самом деле не разделяешь моих взглядов!
– Я никого не проклинаю, – тихо ответил священник, – а потому не могу проклясть и тебя, хотя и глубоко скорблю, что ты пошел по этому пути.
– Да, у тебя никогда не было таланта к фанатизму, разве только к мученичеству, и я нередко страдаю от мысли, что должен помогать тебе в этом. Впрочем, я позаботился, чтобы мое сегодняшнее посещение осталось незамеченным: я здесь совершенно инкогнито. Я не мог отказаться от свидания с тобой, особенно теперь, когда переселяюсь в северную Германию.
– Как? Ты покидаешь университет?
– Уже в будущем месяце. Я получил приглашение в столицу и сейчас же принял его, так как чувствую, что там истинная почва для меня и моей деятельности. Поэтому я хотел попрощаться, но чуть-чуть не разминулся с тобой: как я слышал, ты вчера был в Штейнрюке на похоронах графа?
– По настоятельному желанию графини я совершал похоронный обряд.
– Я так и думал! Меня тоже вызвали по телеграфу в Беркгейм к смертному одру графа.
– И ты последовал на зов?
– Конечно! Хотя я уже давно сменил практику врача на кафедру ученого, но это был исключительный случай. Я не могу забыть, что когда-то был принят в Штейнрюк молодым, безвестным врачом. У меня была рекомендация, но графская семья приняла меня с полным доверием. Правда, единственное, что я мог сделать, это облегчить графу последние часы, но мое присутствие все-таки было успокоением для семьи.
Появление Михаила прервало разговор. Он принес известие, что пономарь желает минуточку поговорить с его высокопреподобием и ждет его в передней.
– Я сейчас вернусь, – сказал отец Валентин. – Спрячь тетради, Михаил, сегодня не придется заниматься.
Священник вышел из комнаты, тогда как Михаил принялся собирать книги и тетради. Профессор небрежно спросил:
– Значит, отец Валентин занимается с тобой?
Михаил молча кивнул, не прекращая своего занятия.
– Это на него похоже! – пробормотал Велау. – Теперь он выбивается из сил, чтобы вдолбить ограниченному парню азбуку и писание, потому что наверное поблизости нет школы… Ну-ка, покажи! – С этими словами он без всяких околичностей схватил тетрадь, но, раскрыв ее, чуть не выпустил из рук от изумления. – Что такое? Латинский язык? Как это тебя угораздило?
– Это мои упражнения, – спокойно ответил Михаил.
Профессор посмотрел на юношу, которого по одежде принял за крестьянского парня, а затем стал перелистывать тетрадь и, прочитывая некоторые страницы, покачивал головой.
– Похоже, что ты – выдающийся латинист. Откуда ты?
– Из лесничества… час ходьбы отсюда.
– А как Тебя зовут?
– Михаил.
– У тебя то же имя, как и у этого местечка[2]. Ты от него и получил имя?
– Не знаю… Я думаю, что скорее от архистратига Михаила.
Юноша выговорил это имя с известной торжественностью, и Велау, заметив это, спросил с саркастической улыбкой:
– Ты, конечно, питаешь большое почтение к ангелам?
Михаил вскинул голову.
– Нет, они только и делают, что целую вечность молятся и славословят. А вот архангела Михаила, того я люблю! Этот-то, по крайней мере, хоть делает что-нибудь: как архистратиг, начальник воинства Божьего, он ниспровергает сатану!
В словах и тоне юноши чувствовалось что-то необычное. Профессор с удивлением смотрел на его лицо, которое вдруг преобразилось в потоке солнечного света, хлынувшего из окна, и пробормотал:
– Странно! Вдруг у него стало совсем другое лицо! Что скрыто за этими чертами?
В этот момент отец Валентин вернулся в комнату и, заметив тетрадь в руках брата, спросил:
– Ты экзаменовал Михаила? Не правда ли, он хороший латинист?
– Да, но что ему делать со своей латынью в заброшенном лесничестве? Наверное, у отца нет средств, чтобы отдать его в школу?
– Нет, но я надеюсь сделать для него что-нибудь другим образом, – ответил священник и, в то время как Михаил подошел к шкафу, чтобы спрятать учебные пособия, шепотом продолжал: – Если бы только бедняк не был таким некрасивым и неуклюжим! Все зависит от впечатления, которое он произведет в известном месте, и я боюсь, что это впечатление будет неблагоприятным.
– Некрасив-то он некрасив, но только что, высказав очень неглупую мысль, он весь преобразился и что-то в его лице напомнило мне графа Штейнрюка.
– Графа Штейнрюка? – повторил отец Валентин, пораженный до последней степени.
– Я имею в виду не покойного графа, а его двоюродного брата, главу старшей линии. Он был в Беркгейме, где я и познакомился с ним. Конечно, он счел бы такое впечатление личным оскорблением для себя и был бы прав. Красавец Штейнрюк с внушительной фигурой – и этот мечтательный Иванушка-дурачок! Ни одной общей черты нет у них в лицах, и я сам не знаю, почему такое пришло мне в голову, когда я увидел блеск загоревшихся глаз этого юнца.
Священник помолчал немного и затем уклончиво сказал:
– Да, Михаил – порядочный мечтатель. Иногда по своему равнодушию и безучастности он кажется мне каким-то лунатиком.
– Ну, в этом еще не было бы особенного зла, – возразил Велау. – Лунатика можно разбудить – стоит только назвать его по имени – и когда он проснется, может быть, он и сделает что-либо путное. Его работы очень неплохи!
– А ученье так затруднено для него! Сколько раз ему приходилось бороться с бурей и непогодой, чтобы не пропустить урока, и он каждый раз аккуратно являлся ко мне.
– Эх, если бы я мог сказать это про своего Ганса! – сухо заметил Велау. – Он в школьные часы рисует карикатуры на учителей, и мне уже несколько раз приходилось задавать ему здоровый нагоняй. Мальчишка становится чрезмерно легкомысленным, потому что это удивительный счастливчик. Что бы он ни начал, все ему удается. Куда бы он ни постучался, везде он находит открытые двери и сердца, а потому и вообразил себе, будто вообще ни за что не надо браться серьезно, жизнь представляется ему лишь сплошной цепью удовольствий. Ну да я уж заставлю его иначе смотреть на вещи, как только он возьмется за изучение естественных наук!
– А у него есть склонность к этому?
– Боже сохрани! Единственное, к чему у него есть склонность, – это пачкотня карандашами и красками, и если он учует где-нибудь размалеванное полотно, то его ничем не удержишь. Но я уж выгоню из него эту дурь!
– А если у него талант… – начал священник, однако брат резко перебил его, сказав:
– Да в том-то вся и беда, что у него есть талант! Учителя рисования забивают ему голову всякими глупостями, а недавно один из друзей нашей семьи, художник, с трагическими жестами уцепился за меня, восклицая, как я смею брать на себя ответственность в том, что мир лишится такого таланта! Я не мог удержаться и обошелся с ним весьма грубо!
Отец Валентин неодобрительно покачал головой.
– Но почему ты не хочешь позволить сыну следовать туда, куда зовут его склонности?
– И ты еще спрашиваешь? Да потому, что я хочу завещать свое духовное наследство не кому-нибудь другому, а ему! Мое имя прогремело в науке, оно откроет Гансу все двери и пути в жизни. Если он пойдет по моим следам, успех ему обеспечен, тогда он именно явится сыном своего отца. Но сохрани его Бог, если он вздумает сделаться так называемым гением!
Тем временем Михаил собрал книги и тетради и подошел, чтобы проститься. И опять его лицо имело бессмысленное, сонно-мечтательное выражение. Когда он вышел, Велау вполголоса сказал брату:
– Ты прав, бедняга просто уродлив!
Глава 3
Графы Штейнрюк принадлежали к старому, могущественному аристократическому роду, родословное дерево которого уходило корнями в отдаленнейшие столетия. Обе ветви этой семьи имели одно происхождение, но бывали времена, когда они даже не соприкасались друг с другом, причем одной из причин этого было различие вероисповеданий.
Старшая – протестантская – линия, обосновавшаяся в северной Германии, обладала одним только майоратом, приносившим очень скромный доход. Наоборот, южногерманские родственники владели многочисленными богатыми имениями и притом на правах аллодиальной собственности[3]. Все это богатство принадлежало теперь восьмилетнему ребенку, дочери только что умершего графа. Чувствуя приближение смерти, граф Штейнрюк вызвал своего северогерманского родственника и назначил его своим душеприказчиком и опекуном ребенка. Этим в то же время устранялось отчуждение, которое годами существовало между обеими семьями и причина которого заключалась в одном несостоявшемся брачном союзе.
У графа Штейнрюка-старшего, кроме сына, была еще дочь, прекрасная, богато одаренная девушка, любимица отца, на которого она была очень похожа всеми душевными качествами. Она должна была выйти замуж за своего юного родственника – ныне скончавшегося графа. Это было давно решено обеими семьями, и потому молодая графиня зачастую проводила целые недели в доме будущих свекра и свекрови.
Но прежде чем состоялось формальное обручение, в жизнь молодой девушки ворвалась такая страсть, которая ведет, неминуемо должна вести к гибели. Должна! Не в силу разницы общественного положения, не потому, что она вызывает семейный раздор, а потому, что это именно страсть, а не истинная любовь, способная дать союзу любящих прочность и благословение. Это было опьянение, за которым последовали отрезвление и раскаяние… последовали, но слишком поздно!
Луиза познакомилась с человеком, который, несмотря на свое мещанское происхождение, сумел приблизиться к аристократическим кругам. Это был человек чарующей наружности, которому удавалось всюду найти доступ. Он страстно жаждал блеска и наслаждения жизнью, но не обладал достаточными способностями, чтобы выбиться собственными силами. Словом, это был авантюрист чистейшей воды. Быть может, он и в самом деле полюбил графиню, а, возможно, хотел при ее помощи добиться положения в обществе, – как бы то ни было, но он сумел настолько пленить ее, что она решилась стать его женой, несмотря на запрещение отца и осуждение всей семьи.
Конечно, граф Штейнрюк проведал об этом и взялся за дело со всей энергией. Увы! В данном случае она оказалась пагубной. Он рассчитывал повлиять на дочь властным отцовским словом, приказанием и угрозами, но вызвал этим лишь ее упрямое сопротивление, способность к которому она унаследовала от него же самого. Девушка категорически отказалась повиноваться, энергично воспротивилась всем попыткам принудить ее к немедленному обручению с родственником и, несмотря на строжайший надзор, сумела поддерживать отношения со своим избранником. Вдруг она исчезла, и через несколько дней стало известно, что графиня Луиза Штейнрюк стала госпожой Роденберг.
Несмотря на спешность и таинственность брака, его законность была неоспоримой – об этом уж позаботился Роденберг. Он рассчитывал, что граф Штейнрюк в конце концов не сможет отвергнуть супруга своей дочери, но это доказывало лишь, что он не знал графа. Штейнрюк ответил на извещение о бракосочетании тем, что полностью отрекся от дочери и запретил ей когда-либо показываться на глаза – отныне она более не существовала для него.
Граф остался при своем решении до самой смерти дочери и даже после нее. Сначала Роденберг делал попытки сойтись с отцом своей жены, но скоро ему пришлось убедиться, что у Штейнрюка ничего не выпросишь и не вынудишь. Тогда Роденберг снова кинулся в водоворот жизни искателя приключений, и для Луизы, всем пожертвовавшей своей любви, настало ужасное время. Эта жизнь быстро свела ее в могилу, и уже давно вместе с ней была похоронена эта несчастная семейная трагедия.
* * *Прошла неделя со дня похорон графа Штейнрюка. Граф Михаил, занявший апартаменты покойного, находился в комнате с окном-фонарем. Лакей только что доложил ему о том, что лесник Вольфрам, вытребованный им к этому часу, прибыл в замок. Сегодня граф был в парадном мундире, так как ему предстояло отправиться в соседний городок, куда он был приглашен на официальное торжество.
В тот момент, когда Вольфрам вошел в комнату, граф доставал из футляра звезду одного из высших орденов, богато украшенную и усыпанную бриллиантами. Заметив, что орденская лента отвязалась, он отложил раскрытый футляр в сторону и обернулся к посетителю.
На этот раз лесник был в полном параде. Он привел в порядок волосы и бороду и почистил свою охотничью одежду.
– А, это ты, Вольфрам! – благосклонно сказал граф. – Давненько мы не видались! Ну, как ты жил это время?
– Мне жилось вполне хорошо, ваше сиятельство, – ответил лесник, вытянувшись перед графом по-военному, – ведь у меня есть чем жить, и покойный граф был мною доволен. Правда, иной раз по целому году не приходится выходить из леса, да ведь наш брат к этому привык, и одиночеством нас не испугаешь.
– Но ты был женат, разве твоей жены больше нет в живых?
– Нет, она умерла пять лет тому назад, Господь, прими ее душу, а детей у нас никогда не было. Правда, меня не раз уговаривали снова повенчаться, только я не захотел. Кто вкусил однажды этой сладости, тот в другой раз не захочет!
– Значит, твой брак не был счастливым? – спросил Штейнрюк, по лицу которого при этом наивном заявлении скользнула мимолетная улыбка.
– Да ведь это как посмотреть! – равнодушно ответил лесник. – В сущности мы отлично ладили друг с другом. Конечно, ссорились мы по целым дням, но уж без этого никак нельзя, а если нам под руку попадался Михель, то мы вдвоем принимались за него, и на этом мирились.
Граф резко вскинул голову.
– За кого вы принимались?
– Да так… глупости… – смущенно буркнул Вольфрам в бороду.
– Уж не идет ли речь о мальчике, который был передан тебе на воспитание?
Лесник потупился под грозным взглядом графа и стал вполголоса оправдываться:
– Это ему не повредило, да и мы скоро кончили, потому что его высокопреподобие священник из Санкт-Михаэля запретил нам это. К тому же мальчишка с лихвой заслуживал побои.
Штейнрюк ничего не ответил. Разумеется, он знал, что мальчик попал в суровые, грубые руки, но слова Вольфрама неприятно поразили его, и он в достаточной мере немилостиво спросил:
– Ты привел с собой воспитанника?
– Да, ваше сиятельство, как мне было приказано.
– Пусть войдет!
Вольфрам вышел, чтобы позвать Михаила, ожидавшего в передней, а граф напряженно уставился на дверь, откуда в ближайшую минуту должен был появиться его внук, ребенок отверженной, безжалостно осужденной когда-то так любимой дочери. Может быть, он похож на мать, и Штейнрюк сам не знал, боялся ли он этого, или… страстно желал.
Но вот дверь открылась, и рядом с приемным отцом появился Михаил. Он тоже ради этого визита уделил внимание своей внешности, только ему это мало помогло: праздничное платье не красило его, да и было по покрою и виду мужицким. Густые, спутанные пряди волос так и не удалось пригладить. К тому же непривычная обстановка, в которую он попал, пугала и смущала Михаила, поэтому лицо его казалось еще бессмысленнее, чем обыкновенно, а неуклюжая манера держать себя и тяжеловесные движения делали его еще более уродливым.
Граф бросил быстрый, острый взгляд на Михаила и с выражением величайшего разочарования стиснул губы. Так вот каков был сын Луизы!
– Вот и Михель, ваше сиятельство! – сказал Вольфрам, не очень-то нежно подталкивая юношу вперед. – Да кланяйся же и поблагодари его сиятельство, что он принял участие и позаботился о тебе, бедном сироте!
Но Михаил не кланялся и не благодарил; его глаза были неподвижно устремлены на графа, производившего очень внушительное впечатление в военном мундире, и в этом созерцании Михаил забыл обо всем остальном.
– Ну, язык потерял, что ли? – нетерпеливо сказал ему Вольфрам. – На него нельзя сердиться, ваше сиятельство, это – глупость, не больше. Он и дома-то с трудом раскрывает рот, а когда видит так много нового, как сегодня, так и теряет последние остатки своего скудного разума.
Чувствовалось, что Штейнрюк должен был усилием воли побороть отвращение, когда он холодно и повелительно спросил:
– Тебя зовут Михаилом?
– Да, – ответил юноша, не отрывая взора от высокой, повелительной фигуры графа.
– Сколько тебе лет?
– Восемнадцать.
– Чему ты учился и что делал до сих пор?
Этот вопрос поставил Михаила в большое затруднение. Он молчал, и за него ответил лесник:
– Да, в сущности говоря, он ничего не делал до сих пор, только по лесу бегал, ваше сиятельство. Да и едва ли он многому научился тоже. У меня нет времени заботиться об этом. Сначала он бегал в деревенскую школу, потом его высокопреподобие занялся с ним. Только, наверное, из этого мало вышло добра, потому что, как ни бейся, Михель ничегошеньки не понимает!
– Но ведь он должен избрать себе какой-нибудь род деятельности! К чему он способен и чем он хочет стать?
– Ничем! Да и не годится ни на что! – лаконически ответил лесник.
– Однако тебе дают блестящий аттестат! – презрительно сказал граф юноше. – Целыми днями бегать по лесу – твоя работа, это во всяком случае не требует особенных трудов, ну, и учиться при этом много не нужно. Просто стыдно, что приходится говорить это такому здоровенному парню, как ты!
Михаил с удивлением взглянул на графа при этих словах, и мало-помалу лицо его стал заливать густой румянец.
А лесник поспешил подхватить:
– Да, я вот тоже думаю, что на Михеля надо рукой махнуть. Вы только посмотрите на него, как следует, ваше сиятельство! Из него по гроб жизни охотника не выйдет!
Видно было, что графу стоило больших трудов преодолеть свое отвращение, когда он коротко и повелительно сказал:
– Подойди ближе!
Михаил не двинулся с места, а стоял, словно не слыша приказания.
– Разве тебя не научили повиновению? – грозно сказал Штейнрюк. – Подойди ближе, говорю я тебе!
Михаил по-прежнему оставался неподвижным.
Тогда лесник счел необходимым придти на помощь. Он грубо схватил юношу за плечи, но натолкнулся на решительный отпор питомца, который резким движением освободился от него. В этом сказывалось одно лишь упрямство, но поведение Михаила можно было счесть трусостью, как это и принял граф.
– Вдобавок и трус еще! – пробормотал он. – Нет, довольно! – Он позвонил и сказал вошедшему лакею: – Пусть подают экипаж! – Затем снова обратился к леснику: – А с тобой мне надо поговорить еще, иди за мной!
Он открыл дверь в соседнюю комнату и пошел вперед. Следуя за ним, Вольфрам пытался оправдать поведение своего питомца:
– Он испугался вас, ваше сиятельство, парень-то не из храбрых!
– Это и видно! – сказал Штейнрюк с величайшим презрением, ибо трусость принадлежала к числу таких пороков, которых граф не прощал, в его глазах она была несмываемым пятном. – Ну, да оставь это, Вольфрам, я знаю, ты здесь ни при чем. Только тебе, конечно, придется еще подержать парня, так как он в лучшем случае годится для какого-нибудь горного лесничества. Пусть он там отупеет вконец, ни к чему другому в жизни он не годится!
Он ушел с лесником, не обращая больше внимания на Михаила, который неподвижно стоял на прежнем месте. Его лицо еще было покрыто густой краской, но оно уже не было теперь бессмысленным. Мрачно, со стиснутыми зубами, смотрел он вслед человеку, который так безжалостно осудил всю его будущность. Ему не раз приходилось слышать подобные речи из уст лесника, но слова Вольфрама не производили на него никакого впечатления. Совсем иначе звучали они из этих гордых уст, и презрительный взгляд графа болезненно пронзил его душу. В первый раз за свою жизнь он почувствовал, что обращение, к которому он привык с детства, было страданием и позором, пригибавшим его к земле.
Лакей ушел, чтобы отдать переданное ему приказание, и Михаил остался в комнате один. Сквозь широкое окно врывался поток солнечного света, ярко освещавшего письменный стол и всеми цветами радуги искрившегося на бриллиантах орденской звезды.
– Что ты здесь делаешь? – спросил вдруг детский голос.
Михаил обернулся. На пороге спальни, дверь которой оставалась открытой, стоял ребенок – маленькая девочка лет восьми, удивленно смотревшая на чужого.
– Я жду, – коротко ответил Михаил.
Должно быть, девочка – это была Герта, дочь скончавшегося графа Штейнрюка – удовольствовалась этим ответом, потому что она подошла к догоравшему камину и принялась дуть туда, любуясь, как от ее дыхания по головешкам пробегают искры. Наконец эта забава надоела ей, и она вновь обратила свое внимание на чужого юношу.
– Как ты попал сюда? – спросила она, подойдя к нему.
– Из леса, – также кратко, как и прежде, ответил Михаил.
– Далеко отсюда?
– Очень далеко.
– Тебе понравилось у нас в замке?
– Нет.
Герта с крайним изумлением посмотрела на него. Она задала вопрос только из снисходительности, а этот чужак вдруг заявил ей, что ему не нравится в графском замке! Девочка задумалась, как ей отнестись к этому. Но тут ее взгляд упал на шляпу, которую держал в руке Михаил: она была украшена веткой больших чудных подснежных роз.
– Что за прелестные цветы! – восторженно воскликнула она. – Дай мне их! – и, жадно протянув маленькую ручку, она отцепила ветку, прежде чем Михаил успел сказать что-либо.
Он, видимо, был поражен, что так бесцеремонно распоряжаются его собственностью, но не сделал ни малейшей попытки помешать ей.
Завладев цветами, девочка отошла к камину и уселась там в кресло. Это было очаровательное создание, нежное и стройное, словно эльф. Рыжевато-золотистые волосы густым каскадом ниспадали на черный креп траурного платья и окружали прелестное личико девочки своеобразным ореолом.
Усевшись, Герта принялась доверчиво болтать с Михаилом и рассказывать ему всякую всячину. И – странное дело! – мало-помалу Михаил подходил все ближе и ближе к девочке, стал все охотнее и охотнее отвечать на ее расспросы. От этого ребенка исходила какая-то неведомая сила, которой Михаил не мог противостоять.
Разговаривая, Герта играла с цветами. Наконец, они надоели ей, и маленькая ручка принялась небрежно ощипывать белые лепестки.
Увидев это, Михаил нахмурился и сказал просительным тоном:
– Не надо ощипывать! Цветы было трудно найти!
– А мне они надоели! – объявила Герта, не прекращая своего разрушительного занятия.