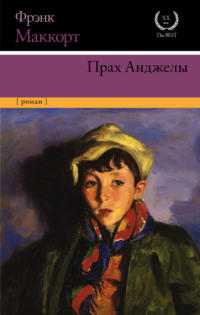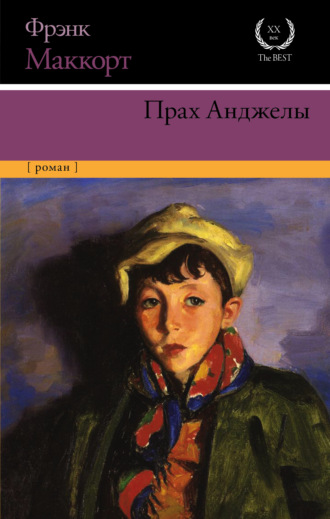
Полная версия
Прах Анджелы
Тетя Эгги разворчалась, услышав от бабушки, что ей сегодня придется спать вместе с мамой.
– Закрой глотку-то, – велела бабушка. – Одну ночь потерпишь, а не нравится – шагай к мужу, там твое место. Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну что за дом! Ты, Пэт, а теперь еще и Анджела со своим американским выводком. И в старости никакого спокою нет.
Она постелила пальто и всякое тряпье на полу в комнатушке за кухней, и мы легли спать рядом с велосипедом. А папа так и просидел всю ночь на стуле, только сводил нас во двор, когда нам приспичило, да успокаивал близнецов, когда те заплакали от холода.
Утром тетя Эгги пришла к нам за велосипедом.
– А ну, подвиньсь! Кыш с дороги!
Она ушла, а Мэйлахи все повторял:
– Подвиньсь! Кыш с дороги!
Папа на кухне засмеялся, но потом пришла бабушка и он шикнул на Мэйлахи, чтоб тот перестал.
Днем бабушка с мамой отправились на поиски жилья и нашли меблированную комнату на Уиндмилл-стрит – на той же улице, где жила тетя Эгги со своим мужем, Па Китингом. Бабушка заплатила десять шиллингов за две недели вперед, дала маме денег на еду, одолжила нам чайник, кастрюльку, сковородку, ножи и ложки, банки из-под варенья вместо кружек, одеяло и подушку.
Она сказала, что больше ничего нам дать не может и пусть папа оторвет свой зад от стула и ищет работу или идет за пособием по безработице, или в Общество Святого Викентия де Поля.
В комнате был камин, где можно вскипятить воду или сварить яйцо, если мы разживемся деньгами. Еще нам достались стол, три стула и кровать – мама сказала, что никогда такой большой не видела. Здорово, что наконец-то можно спать на кровати, а то мы везде спали на полу: и в Дублине, и у бабушки. Ничего, что у нас одна кровать на шестерых, главное, что мы теперь сами по себе, а не у бабушек и не у гардов. Можно сколько угодно говорить «ишь, ишь» и смеяться.
Мама с папой легли ближе к изголовью кровати, мы с Мэйлахи – в ногах, а близнецы пристроились там, где нашли место. Мэйлахи снова смешил нас тем, что говорил то «ишь-ишь», то «ой-ой». Потом он уснул. Мама тоже тоненько засопела. В лунном свете мне было видно, что папа на том конце кровати не спал, так что, когда Оливер заплакал во сне, он стал его успокаивать.
Потом Юджин вскочил и принялся чесаться.
– Ай-ай, мамочка, мамочка! – кричал он.
– Что, что, сынок? – поднялся папа.
Юджин все ревел, тогда папа вскочил с постели, включил газовую лампу, и мы увидели кучу блох. Они прыгали по нам и впивались в кожу. Мы принялись их хлопать, но они перескакивали с одного на другого и снова больно кусались. Мы расчесали укусы до крови. Все повскакивали с постели, близнецы плакали, мама причитала:
– Боже мой, да неужели нам нигде покоя не будет!
Папа налил в банку воды, размешал в ней соль и смазал укусы. Соленая вода жглась, но папа сказал, что скоро все пройдет.
Мама села у камина и взяла близнецов к себе на колени. Папа натянул штаны, стащил с кровати матрас и выволок его на улицу. Потом налил воды в чайник и в кастрюлю, прислонил матрас к стене и принялся колотить по нему ботинком, а мне велел лить воду на землю, чтобы блохи сразу тонули. Над Лимериком ярко светила луна, ее отражение дрожало в воде, и мне хотелось его поймать, но много тут наловишь, когда у тебя по ногам скачут блохи. Папа бил ботинком по матрасу, а мне приходилось то и дело бегать на задний двор и наполнять чайник и кастрюлю водой из крана.
– Посмотри на себя, – причитала мама каждый раз, когда я пробегал по дому. – Ботинки насквозь промочил, замерзнешь же до смерти, а отец твой, как пить дать, свалится с воспалением легких – босой ведь стоит.
К нам подкатил на велосипеде какой-то человек и спросил папу, зачем ему понадобилось ночью выбивать матрас.
– Матерь Божья! – удивился он. – Никогда не слышал, чтоб так блох выгоняли. А известно ли вам, что если бы человек мог прыгать, как блоха, то одним прыжком преодолел бы половину расстояния до Луны? Вы лучше знаете что сделайте? Переверните матрас на кровати, эти мелкие твари запутаются, где верх, где низ и покусают матрас или друг друга, а до вас не доберутся. А то стоит блохе человека куснуть, как она звереет сразу, а когда вокруг еще другие блохи, то все вместе они от запаха человеческой крови совсем дурные делаются. С блохами жить – сущее мучение, уж я-то знаю – в Айриштауне[34] вырос, там блох целые полчища водились, да наглые какие! Бывало сядут тебе на башмак и ведут беседу о тяжелой судьбе ирландского народа.
Говорят, в древней Ирландии блох не было – это англичане их сюда завезли, чтоб уж окончательно нас допечь. С них станется. И вот что любопытно: святой Патрик изгнал из Ирландии змей, зато англичане завезли блох. Столько веков в Ирландии царили тишь да благодать: ни единой змеи или блохи. Весь изумрудный остров вдоль и поперек исходить можно и по ночам спать спокойно. Хотя от змей особой беды-то и не было: они человека не трогали, ежели он сам к ним не лез, а промышляли живностью всякой, что по кустам да в траве прячется, а вот блохи, те готовы человечью кровь сосать с утра до ночи, ну, не могут они без этого, такими уж уродились. Я слыхал, что там, где змей много, блох вовсе нет. В Аризоне, к примеру. И вот все твердят: «Аризонские змеи, аризонские змеи». А про блох тамошних разве кто слышал? Ну ладно, удачи вам. Я тут встал, не подумавши, а вдруг какая-нибудь блошка на меня перепрыгнет и всех родичей с собой позовет. Блохи же плодятся быстрей, чем индусы.
– Сигаретки у вас не найдется? – спросил папа.
– А как же, найдется, конечно. Вот вам, пожалуйста. Я себе этими сигаретами здоровье почти загубил. Кашель чертов мучает. Да сильный такой, чуть с велосипеда не слетаю. Сначала защекочет где-то в солнечном сплетении, потом подымается все выше и выше и как шибанет в голову. – Он чиркает спичкой о коробок, зажигает сигарету и протягивает спички папе. – Но вообще, чтоб жить в Лимерике – и не кашлять, такого не бывает. Это же столица слабых легких, а если легкие слабые, то и до чахотки недалеко. Если бы все чахоточные Лимерика разом померли, тут бы город призраков образовался. У меня-то не чахотка, меня кашлем немцы наградили. – Он помолчал, затянулся сигаретой и тут же закашлялся. – Черт их раздери, эти сигареты, простите уж, что выражаюсь, доконают они меня когда-нибудь. Ну, ладно, занимайтесь дальше матрасом, да не забудьте, что я сказал: сбейте с толку этих тварей.
И он покатил дальше на вихляющемся велосипеде, попыхивая сигаретой и сотрясаясь от кашля.
– До чего болтливый народ в Лимерике, – заметил папа. – Ладно, вернем матрас на место и попробуем уснуть.
Мама сидит у огня, близнецы спят у нее на коленях, а Мэйлахи – свернувшись калачиком на полу у ее ног.
– С кем это вы говорили? Не с Эггиным ли мужем, Па Китингом? Уж больно похож, тоже кашляет сильно. Он на войне во Франции газу наглотался.
Остаток ночи мы спали, а утром стало ясно, что блохи знатно попировали – мы сплошь были в ярко-розовых укусах и красных расчесах.
Мама заварила чай и поджарила хлеб, а папа снова намазал нас соленой водой. Потом вынес матрас во двор. В такой холод блохи уж точно перемерзнут, и ночью мы наконец выспимся.
Спустя несколько дней, когда мы уже пообжились в комнате, папа тормошит меня посреди ночи.
– Проснись, Фрэнсис. Одевайся и бегом к тете Эгги. Маме нужно. Живей.
Мама лежит в постели и стонет. Лицо у нее совсем белое. Папа будит Мэйлахи и близнецов и усаживает их на пол около потухшего камина. Я перебегаю дорогу, стучусь в дверь к тете Эгги, и наконец ко мне выходит дядя Па Китинг, ворча и кашляя.
– Что такое? Что случилось?
– Мама заболела. Лежит и стонет.
– Свалились нам на голову из своей Америки, так теперь покою нет никакого, – ворчит тетя Эгги, выходя на порог.
– Эгги, ребенок-то чем провинился? Просто делает, что ему велели.
Тетя Эгги говорит, чтобы дядюшка Па шел спать, а то ему на работу рано утром, не то, что некоторым с Севера.
– Нет-нет, я тоже пойду, – возражает он. – Анджеле плохо.
Папа велит мне сесть на пол к братьям. Я не понимаю, что с мамой. Взрослые только шепчутся, но мне удается расслышать, как тетя Эгги говорит дяде Па, что, мол, ребенка потеряла, беги за неотложкой, и дядя Па тут же исчезает за дверью.
– Чего-чего, а неотложка у нас тут быстро приезжает, – обращается тетя Эгги к маме.
С папой тетя Эгги вообще не разговаривает, даже не смотрит на него.
– Пап, мамочка заболела? – спрашивает Мэйлахи.
– Она поправится, сынок. Ей просто надо к врачу.
Я не понимаю, какого ребенка она потеряла? Вот же мы: один, два, три, четыре – все в сборе, и почему мне не говорят, что с мамой? Тут возвращается дядя Па, потом почти сразу приезжает неотложка. К нам заходит какой-то человек с носилками, маму уносят, а на полу около кровати остаются пятна крови. Когда Мэйлахи прикусил язык, у него тоже была кровь, и у песика на улице была кровь, а он умер. Я хочу спросить папу: неужели маму тоже заберут навсегда, как нашу сестричку Маргарет? Но папа уезжает с мамой, а тетю Эгги спрашивать без толку, она рассердится и голову оторвет. Вытерев кровь с пола, она велит нам лечь и ждать, пока папа не вернется.
Уже середина ночи, вчетвером в кровати тепло, мы засыпаем и просыпаемся только, когда папа приходит домой и сообщает, что у мамы все хорошо, она полечится и скоро вернется домой.
Через несколько дней папа идет на биржу за пособием по безработице. Тому, у кого северный акцент, нечего и надеяться работу в Лимерике найти.
Он приходит и сообщает маме, что мы будем получать девянадцать шиллингов в неделю. Мама ахает, что этого едва хватит, чтобы с голоду не помереть. Девятнадцать шиллингов на шестерых? Да это меньше четырех долларов в американских-то деньгах, и как на это жить? А за жилье чем платить через две недели? Комната стоит пять шиллингов в неделю, остается четырнадцать шиллингов и на еду, и на одежду, и на уголь, чтоб воду для чая кипятить.
Папа качает головой. Он прихлебывает чай из стеклянной банки, глядит в окно и насвистывает «Вексфордских парней»[35]. Мэйлахи и Оливер хлопают в ладоши и пляшут, а папа не знает, то ли свистеть, то ли улыбаться – нельзя же делать одновременно то и другое. Тогда он замолкает, гладит Оливера по голове и снова принимается насвистывать.
Мама тоже улыбается, но едва заметно. Она сидит и смотрит на пепел в камине, а в опущенных уголках ее губ затаилось беспокойство.
На следующий день она оставляет папу с близнецами, а меня и Мэйлахи берет с собой в Общество Святого Викентия де Поля. Мы встаем в очередь за женщинами в черных шалях. Они спрашивают, как нас зовут, и улыбаются, когда мы отвечаем.
– Вы только послушайте их! Это же маленькие янки! – удивляются они и спрашивают маму, чего это она в американском пальто пришла за пособием – в Лимерике и так бедняков хватает, а тут еще янки заявились последний кусок хлеба отнимать.
Мама отвечает, что пальто ей подарила кузина из Бруклина и что муж сидит без работы, а дома еще двое детей – мальчики-близнецы. Женщины шмыгают носами и кутаются в шали – у них и своих бед предостаточно. Мама рассказывает, что просто не могла оставаться в Америке после смерти дочки. Женщины снова шмыгают носами, теперь уже потому, что мама плачет. Некоторые признаются, что тоже потеряли своих малышей и что, мол, нет в мире ничего хуже – хоть до мафусаиловых лет доживи, а все равно никогда такого не забудешь. Ни один мужчина, доживи он хоть дважды до мафусаиловых лет, не поймет, каково матери терять ребенка.
Очередь плачет, а какая-то рыжеволосая женщина пускает по кругу коробочку. Все что-то берут оттуда пальцами и суют себе в нос. Одна молодая тетенька чихает.
– Что, Бидди, крепковат табачок? – смеется рыжеволосая. – Подите сюда, маленькие янки, возьмите понюшку. – Она сует нам в ноздри какой-то бурый порошок, и мы так чихаем, что женщины плачут уже от смеха, утирая слезы шалями.
– Ничего, это полезно, – говорит нам мама. – Мозги хоть прочистит.
– Славные у вас детишки, – говорит маме тетя по имени Бидди. Потом показывает на Мэйлахи: – Ну разве не прелесть этот паренек с золотыми кудряшками?! Ему бы в кино сниматься с самой Ширли Темпл[36].
В ответ Мэйлахи улыбается, и очередь окончательно теплеет.
– Миссус, вы уж извините, что лезу, но мы тут услышали про вашу потерю, так что, думаю, вам лучше присесть, – говорит маме женщина с коробочкой.
– Нет-нет, не надо, им это не понравится, – обеспокоенно замечает другая.
– Кому им?
– Ну как же, Нора Моллой, господам из Общества, конечно. Им надо, чтоб мы уважительно у стеночки стояли, а не рассиживались тут.
– А ну их к черту, – говорит рыжеволосая Нора. – Садитесь, миссус, вон туда, на ступеньку, а я рядом присяду, а если господа из Общества хоть что-то вякнут, я им тут устрою, уж поверьте. Вы курите?
– Да, – отвечает мама. – Только сигарет нет.
Нора достает сигарету из кармана фартука, разламывает ее и протягивает половинку маме.
– И это им тоже не понравится, – говорит женщина с обеспокоенным лицом. – Они говорят, курить – все равно, что хлеб у своего ребенка отнимать. Мистер Куинливан особенно против. Говорит, если на сигареты деньги есть, то и не еду найдете.
– И Куинливана к чертям. Скотина старая, последней радости нас лишить удумал.
В конце коридора открывается дверь, и оттуда выходит какой-то человек.
– Кому тут детские ботинки?
– Мне, мне! – Женщины одна за другой поднимают руки.
– Кончились ботинки. В следующем месяце приходите.
– Но моему Мики в школу не в чем ходить!
– Нету, я сказал.
– Но холод ведь какой, мистер Куинливан.
– Ботинок нет. Ничего не могу поделать. А это еще что такое? Кто курит?
– Ну, я, – машет сигаретой Нора. – Причем с превеликим удовольствием.
– Курить – это все равно, что… – начинает мистер Куинливан.
– Да-да, – усмехается Нора. – Все равно, что хлеб у своих детей отнимать.
– Наглость какая! Смотрите, не получите от нас никакой помощи.
– Что, правда, что ль?! Что ж, мистер Куинливан. Не вы – так другие помогут.
– Кто это еще?
– Да квакеры[37].
– За тарелку супа продадитесь? – подступает к Норе мистер Куинливан, тыча в нее пальцем. – Так вот, значит, кто среди нас завелся! Супник! Во времена Великого голода тоже такие были. Протестанты ходили по домам и обещали добрым католикам, что если те отрекутся от своей веры и станут протестантами, то их накормят супом до отвала. И, Господи помоги нам, нашлись те, кто выбрал суп, и прозвали их за это супники-отступники. Они погубили свои бессмертные души и обрекли себя на вечные страдания в самых глубинах адского пекла. И если вы, дамочка, пойдете к квакерам, то тоже погубите свою душу и души детей своих.
– Так спасите же нас, мистер Куинливан, это же ваш долг.
Они стоят, уставившись друг на друга. Потом Куинливан переводит взгляд на очередь. Одна из женщин закрывает рот рукой, чтобы не прыснуть со смеху.
– Чего хихикаем? – рявкает мистер Куинливан.
– Ничего, мистер Куинливан, видит Бог, ничего.
– Еще раз говорю, нет ботинок, – объявляет мистер Куинливан и захлопывает за собой дверь.
Женщин по очереди вызывают в кабинет. Нора выходит, улыбаясь и помахивая какой-то бумажкой.
– Ботинки, – поясняет она. – Три пары детишкам моим. Стоит этим господам пригрозить квакерами, так они эти талоны хоть из-под земли, но достанут.
Вызывают маму, и она берет нас с Мэйлахи с собой. Мы стоим перед столом, за которым сидят трое мужчин и задают вопросы. Мистер Куинливан начинает что-то говорить, но господин посередине его обрывает:
– Довольно, Куинливан. Доверь вам это дело, так все нищие Лимерика к протестантам переметнутся.
Он спрашивает маму, откуда у нее такое добротное красное пальто, и мама рассказывает им то же, что и женщинам на улице, но когда доходит до смерти Маргарет, ее всю трясет от рыданий. Она извиняется за слезы, мол, прошло всего несколько месяцев и она еще не оправилась от потери и даже не знает, где похоронили малышку, если вообще похоронили, и окрестили ли ее, потому что сама-то она была слишком слаба – у нее четыре мальчика, и сил не было идти в церковь – а теперь вот сердце кровью обливается при мысли, что вдруг Маргарет навеки останется между раем и адом и никогда не встретится со своей семьей ни на небесах, ни в чистилище.
Мистер Куинливан отдает маме свой стул.
– Ну, что вы, сударыня. Садитесь, пожалуйста. Ну, что вы.
Остальные двое смотрят то на стол, то на потолок. Тот, что сидит посередине, обещает дать маме талон на недельный запас продуктов, который нужно будет отоварить в лавке Макграт, что на Парнелл-стрит. Там будут чай, сахар, мука, масло, а по другому купону на угольном складе на Док-роуд дадут мешок угля.
– Разумеется, каждую неделю вам так помогать не будут, миссус, – предупрежает третий. – Мы вас посетим, чтобы проверить, правда ли вы нуждаетесь. Без этого прошение не утвердят.
Мама вытирает слезы рукавом и берет талон.
– Храни вас Господь за вашу доброту, – благодарит она.
Члены комиссии кивают, смотрят на пол, на потолок, на стены и велят позвать следующую просительницу.
Женщины говорят маме, чтобы следила за весами в лавке, а то эта карга Макграт непременно надует. Она подсовывает под весы бумагу и когда взвешивает продукты, то тянет бумажку к себе, так что ладно, если хотя бы половину положенного отвесит. А у самой-то по всей лавке образа Девы Марии и Святейшего Сердца, а в часовне Святого Иосифа, как ни посмотришь, она все на коленях, да с четками и дышит так, будто ее истязают, как деву-мученицу, фу, курва старая.
– Пойду-ка я с вами, миссус, – предлагает Нора. – Уж я-то старухины проделки знаю, не дам вас обдурить.
Она ведет нас в лавку на Парнелл-стрит. Увидев маму в американском пальто, лавочница сначала ведет себя очень любезно, но когда мама протягивает ей талон от Общества Святого Викентия, ворчит, что мама не в то время пришла и что по талонам она обслуживает после шести вечера, но на первый раз, так уж и быть, сделает исключение.
– У вас тоже талон? – обращается она к Норе.
– Ах нет, я просто помогаю этой бедной семье отоварить талон в первый раз.
Продавщица стелет кусок газеты на весы и насыпает на него муку из большого куля. Потом говорит:
– Вот вам фунт муки.
– Ой, вряд ли, – говорит Нора. – Маловато как-то для фунта.
– В чем это вы меня обвиняете? – негодующе сверкает глазами лавочница.
– Ах, ни в чем, миссис Макграт, – говорит Нора. – Просто вы случайно придавили бедром газету и не заметили, что она немного съехала с весов. А так, что вы, Господи боже мой! Обвинять в чем-то вас, женщину, которая так усердно молится Деве Марии, что служит всем нам примером?! Ой, вон там на полу не ваши денежки лежат?
Миссис Макграт отсупает от весов, стрелка на них дергается.
– Какие денежки? – недоуменно спрашивает она, потом глядит на Нору и догадывается, что та сделала это нарочно.
– А, не денежки, просто тень так легла. – Нора с улыбкой глядит на весы: – Да, точно, ошибочка вышла, едва ли с полфунта.
– Замучилась я уже с этими весами, – ворчит миссис Макграт.
– Представляю, – отвечает Нора.
– Но совесть моя чиста перед Богом, – продолжает миссис Макграт.
– Конечно, чиста! – восклицает Нора. – И все в Обществе Святого Викентия и в Легионе Марии[38] вами просто восхищаются.
– Стараюсь быть доброй католичкой.
– Видит Бог, вам и стараться не надо, такое уж у вас само по себе сердце доброе. Мальчишек вот конфетками не угостите?
– Ну, я не миллионерша, но вот, держите.
– Да хранит вас Господь, миссис Макграт, уж я знаю, что слишком многого прошу, но может, найдется у вас парочка сигарет?
– Ну, по талону сигарет не положено. Роскошь всякую я тут не выдаю.
– Ну же, не откажите, миссус, а я уж господам из Общества непременно напомню о вашей доброте.
– Ну ладно, ладно, – говорит миссис Макграт. – Вот вам сигареты. Но это в первый и последний раз.
– Благослови вас Господь, – благодарит Нора. – Сожалею, что с весами помучиться пришлось.
* * *По дороге домой мы сворачиваем в Народный парк и садимся на скамейку. Мэйлахи и я сосем леденцы, а мама с Норой курят. Нора тут же закашливается и говорит, что курево ее доконает, чахотка – это у них в семье наследственное и никто еще до почтенного возраста не дожил, хотя в Лимерике и не захочешь до него дожить. Тут, мол, вообще седых почти нет – все или на кладбище, или по другую сторону Атлантики: на железной дороге работают да в полицейской форме разгуливают.
– Счастливая вы, миссус, хоть мир повидали. Я бы все отдала, чтоб увидеть Нью-Йорк и то, как там народ по Бродвею прохаживается, забот не зная. Так нет же, угораздило меня в смазливого пьяницу влюбиться. Питер Моллой, наш пивной чемпион, обрюхатил меня и повел к алтарю, а мне едва семнадцать исполнилось. Ох и глупая я была, миссус. Да мы тут все в Лимерике выросли, ничегошеньки не зная, вот и результат: не женщина еще, а уже мать. Здесь ведь что? Дождь сплошной, да бабки старые Богу молятся. Я б все зубы отдала, лишь бы выбраться отсюда: в Америку уехать или хоть в Англию. Чемпион-то мой всю жизнь на пособии, да и его порой пропивает, и тогда я с ума схожу и меня в лечебницу увозят. – Нора снова затягивается и сотрясается от кашля всем телом, приговаривая:
– Ой, Божечки, Божечки.
Когда кашель отступает, она говорит, что ей домой пора, лекарство принимать.
– На следующей неделе опять в Обществе увидимся. Если вам чего понадобится, пошлите за мной на Вайз-филд. Там любой покажет, где жена Питера Моллоя, пивного чемпиона.
* * *Юджин спит на кровати, укрытый пальто; а папа с Оливером на коленях сидит у камина. И почему это он рассказывает Оливеру про Кухулина? Это же моя сказка! Но у Оливера такой вид, что мне не хочется обижаться. Щеки у него горят; он неотрывно смотрит на потухшие угольки в камине, и, Кухулин его, похоже, совсем не занимает.
– Кажется, у него жар, – говорит мама, прикладывая руку ко лбу Оливера. – Жалко лука нет, я бы отвар на молоке с перцем сделала. Хорошо помогает. Вот только молоко не вскипятишь. Угля нет.
Она дает папе талон на уголь с Док-роуд. Папа берет меня с собой, но уже темно и все угольные склады закрыты.
– Что же нам делать, папа?
– Не знаю, сынок.
Перед нами женщины в шалях и ребятишки собирают уголь по обочинам.
– Папа, папа, вон уголь!
– Нет, сынок. Мы не будем с дороги собирать, как нищие какие-нибудь.
Папа говорит маме, что склады закрыты и нам придется поужинать хлебом с молоком, но я рассказываю про женщин на дороге, и мама вручает Юджина папе.
– Стыдно ему, видите ли, угля насобирать. Сама пойду.
Она берет кошелку и зовет нас с Мэйлахи с собой. За Док-роуд блестит огоньками что-то темное и большое.
– Это река Шаннон, – говорит мама. – Больше всего я по ней скучала в Америке. Гудзон тоже ничего, но Шаннон поет.
Я не слышу никакой песни, но мама слушает и чему-то радуется. На Док-роуд уже никого нет, только мы идем и высматриваем куски угля, упавшие с машин. Мама велит нам собирать все, что горит: уголь, деревяшки, картон, бумагу.
– Еще, бывает, конским навозом топят, – говорит она. – Но уж до такого мы не опустимся.
Кошелка почти полная, и мама говорит, что теперь надо найти лук для Оливера.
– Я найду, – обещает Мэйлахи, но мама объясняет, что лук бывает не на улице, а в лавке.
– Вон лавка! – радостно вопит Мэйлахи и забегает внутрь.
– Лук, лук для Оливера! – кричит он продавщице.
Мама спешит за ним и извиняется.
– Какой милый ребенок! – улыбается продавщица. – Он что, американец?
Мама говорит, что да. Женщина снова улыбается. У нее во рту всего два зуба: оба сверху и далеко друг от друга.
– Вот милашка, – повторяет она. – А кудряшки какие! И что же он просит, конфетку?
– Нет, – говорит мама. – Луковицу.
– Луковицу? – хохочет женщина. – Первый раз слышу, чтоб дите лук просило. В Америке что ль так?
– Нет, он просто слышал, что братику лук нужен. Тот заболел, так вот лук надо в молоке сварить.
– Да-да, миссус, – подтверждает продавщица. – Лук с молоком – лучшее средство. На тебе конфетку, малыш. А это братик твой? И ему тоже конфетку.
– Ой, что вы, не стоило, – ахает мама. – Скажите спасибо, мальчики.
– И лук возьмите для больного малыша, миссус, – говорит продавщица.
– Не могу я заплатить за лук, – вздыхает мама. – Ни пенни при себе нет.
– Я вам его даром отдам, миссус. Не бывало еще такого, чтоб больному ребенку в Лимерике лука не дали. И перца щепотку положить не забудьте. Есть он у вас?
– Нету, но я куплю на днях.
– Тогда вот вам перец, миссус, и соли немножко. Уж приготовьте малышу самое лучшее лекарство.
– Благослови вас Господь, – говорит мама; в глазах у нее слезы.