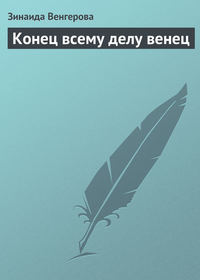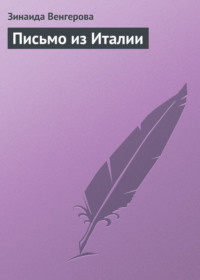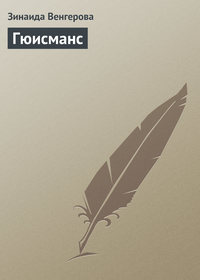полная версия
полная версияДжон Китс и его поэзия
По теории Гента, главный элемент поэзии – воображение, которое он подразделяет на несколько видов, определяя разницу между поэтическим представлением о предмете и его реальным значением следующей параллелью. «Поэзия начинается тогда, – говорит он, – когда факт или научная истина прекращают свое существование, как таковые, и не представляют дальнейшего развития, т.-е. своей связи с миром ощущений и своей способности производить воображаемые наслаждения. Напр., если мы спросим садовника, что это за цветок, он ответит: лилия; это факт. Ботаник прибавит, что она принадлежит к такому-то классу; это будет научное определение. «Это принцесса сада», скажет Спенсер, и мы получаем поэтическое представление о её красоте и грации. «Лилия – произведение и цветок света» определяет ее Бен-Джонсон, и поэзия в его словах открывает нам прелесть цветка, всю его таинственность и великолепие». Гент различает «воображение», как принадлежность трагедии и серьезной музы вообще, и «фантазию», свойственную легкому и комическому жанру. «Макбет», «Лир», «Божественная Комедия» – создания воображения, «Сон в Летнюю Ночь», «Похищение локона» – фантазии; «Ромео и Юлия», «Буря», «Царица Фей» и «Неистовый Орланд» – продукты обоих элементов. «Определение воображения, – продолжает Гент, – слишком ограничено, часто слишком материально. Оно неизменно представляет понятие чего-то массивного, в роде тех фигур, о которых продавец выкрикивает на улицах. Фантазия же предполагает лишь умственный образ или видение, но, с другой стороны, редко достигает той верности образов, которая составляет одно из главных преимуществ воображения». Насколько Китс разделял мнение Гента о воображении, как основном качестве поэта, видно из многих рассуждений, которыми полны его письма к друзьям. Кроме благотворного личного влияния Гента на Китса, последний, вращаясь с юных лет в либеральной среде, окружавшей издателя «Examinera», развивает в себе врожденное чувство любви в свободе; он сам, впрочем, никогда не занимался политическими вопросами в печати. «Что касается политических убеждений Китса, – говорит Кларк, – то я не сомневаюсь, что они сводились к общим принципам свободы для всех, т.-е. одинаково справедливого отношения ко всем, от герцога до чернорабочаго» [6]. В другом месте он возвращается к вопросу об убеждениях Китса, говоря: «Китс никогда не заявлял в печати о своих политических взглядах; лишь исполняя долг благодарности за дружеское ободрение, он посвятил свою книгу Ли Генту, редактору «Examinera», радикалу и предполагаемому стороннику Наполеона; последнее предположение основывалось на том, что Гент, говоря об императоре, не прибавлял модного прозвища: «корсиканское чудовище». Но эти общие принципы, несомненно расширившие его горизонт и отразившиеся на его поэзии, которая вдохновляется свободной жизнью греков, страданиями титанов и голосом природы, – эти принципы Китс выработал в себе в обществе Гента и его друзей. Дружба их, начавшись в 1816 г., приняла характер задушевности, возможной только между родственными натурами, одинаково воспринимающими внешние впечатления. Они вместе читают и работают; «мы не оставляли ни одного доступного уму наслаждения незамеченным или неиспытанным», говорить Гент в своих воспоминаниях, «начиная от сказаний бардов и патриотов древности до ощущения прелести солнечных лучей, бьющих в окно, или треска угольев в камине зимой» [7]. В этих словах уже сказывается крайняя, почти болезненная восприимчивость, одинаково обнаруживающаяся как у юноши Китса, так и у Гента, который был гораздо старше его; мы увидим, до какой степени она овладела впоследствии всем существом певца «Эндимиона».
Гент сразу понял, какой гений таится в неправильно сложенной голове молодого Китса, и дает весьма верную характеристику его душевного и умственного склада в период их первого знакомства. Он отмечает болезненную восприимчивость его натуры: «его естественное влечение к наслаждениям вырождалось иногда, вследствие слабого здоровья, в поэтическую женственность». Позднее, когда талант Китса вполне установился, Гент заметил по поводу «Гипериона», что герои Китса до того женственны, что падают в обморок от малейшего волнения. Но за этой крайней чувствительностью Гент разглядел оригинальную силу настоящего поэта: «он был рожден поэтом наиболее поэтического типа». В то время как влиятельная печать резко нападала на поэзию Китса и когда его талант подвергался сомнению даже в сочувствующих кружках, Гент смею предсказывает ему блестящую будущность. «Я осмеливаюсь предсказать, – пишет он после появления «Эндимиона», – что Китс останется навсегда известным в английской литературе, как молодой поэт; его произведения будут верными спутниками по полям и лесам для всех тех, которые понимают, какое наслаждение удалиться от забот мелочной будничной жизни в мир одиночества и воображения, имея при себе том любимого поэта» [8]. В устарелом для нас сантиментальном тоне английского критика сказывается, однако, понимание своеобразной музы Китса, и его отзывы тем более важны, что они были единственными благоприятными для автора «Эндимиона», до появления третьего, лучшего тома его произведений. Одобрение уважаемого всеми критика поддерживало энергию поэта в дни уныния и сомнения в себе и давало ему силы работать дальше.
В доме Гента Китс познакомился с лицами, которые имеют большое значение для его дальнейшей жизни. Шелли, Газлитт, Гайдон, поэт Райнольдс, Оллиэ (издатель первого тома стихотворений Китса) составляли обычное общество критика; там же Китс встретился впервые с издателем «Atheneum'а», Чарльсом Вентвортом Дильком, с которым оставался всю жизнь в дружеских отношениях. Все это общество любило Китса как приятного собеседника, и многие сохранили в своих мемуарах впечатление, которое производил постоянно восторженный, витающий в облаках поэт: «глаза его обладали смотрящим в глубь божественным взглядом, как у пифии, подверженной видениям», говорит Гайдон, изобразивший голову Китса в знаменитой картине: «Въезд Христа в Иерусалим» [9]; миссис Проктер рассказывает, что глаза Китса, «казались прикованными к какому-то чудному зрелищу» [10]. По настоянию друзей Китс решился выпустить первое собрание своих стихотворений; Оллиэ взял на себя издание, и весной 1817 г. появилась книга «Poems», носящая эпиграф из Спенсера, вполне отвечающий характеру книги:
What more felicity can fall to creatureThan to enjoy delight with liberty?
(Может ли быть большее счастье для человека, чем свободно вкушать наслаждение?)
Судьба этого первого опыта была весьма печальна. Кроме теплой статьи Гента в «Examiner'е», никто не ободрил в печати выступающего поэта. «Edinbourgh Review» прошло молчанием появившийся сборник; торийские же органы («Quarterly Review», «Blackwood») отметили нового адепта Гентовской школы, подражающего своему учителю даже в фактуре стиха, т.-е. употребляющего десятисложный героический стих поэтов Елизаветинской поры, который Гент хотел возобновить в поэзии своей эпохи. Недоброжелательные критики решили, что новый поэт – один из плеяды «Cockney-school». Очевидно, слепая ненависть ко всему, что выходило из либерального лагеря, заставляло шотландские журналы так сурово отнестись к начинающему поэту; не могли же в самом деле критики с таким литературным вкусом, как Джиффорд, просмотреть несомненное дарование, скрывающееся под несмелым, юношески необработанным стихом Китса. В публике сборник тоже не имел успеха, что объясняется своеобразностью поэзии Китса. Романтичность в Спенсеровском духе с одной стороны, веяние классической Греции с другой, весь этот непривычный мир ощущений, звуков и цветов не мог быть понят и оценен сразу. К тому же многие из стихотворений имели большие недостатки, сразу бросавшиеся в глаза, между тем как красоты таились глубже, доступные лишь тонко развитому вкусу. Книжка расходилась в весьма ограниченном количестве, и курьезно письмо издателя сборника, Оллиэ, к брату Китса Георгу, где он сожалеет, что взялся издать поэмы Джона, так как неуспех книги отзывается на репутации фирмы, обнаруживая отсутствие вкуса у издателя, когда уже вскоре Китс делается одним из замечательнейших поэтов своего времени.
Приговор общества над первым опытом Китса имел, как мы говорили, основание; благодаря своим особенностям, книга Китса предназначалась не для большой публики. Но ответственность за незаслуженно суровый прием падает на критику: уже тогда автору стоило только отбросить некоторые внешние недостатки, чтобы стать на ряду с лучшими поэтами своей страны.
Свое поэтическое profession de foi Китс высказывает в стихотворении «Сон и поэзия»; он объявляет войну традициям условной поэзии XVIII-го века и посвящает читателя в здоровый, полный свежей поэзии и жизни романтизм Спенсера, Драйдена и др. Отметив прелесть британской поэзии великой эпохи, т.-е. Драйдена и Мильтона, Китс продолжает: «Неужели все это могло быть забыто? Да, ересь, взращенная глупостью и варварством, заставила великого Аполлона краснеть за эту страну. Ничего не понимающие люди считаются мудрецами; с ребяческим упорством они взгромоздили сокровища Аполлона на деревянную лошадку, вообразив ее Пегасом. О, слабодушные! Небесные ветры шумели; океан катил свои рокочущие волны, но вы не чувствовали этого; небесная лазурь обнажала свою вечную красоту; роса летней ночи собиралась украсить утро. Красота проснулась – почему не проснулись и вы? Но вы были мертвы для незнакомых вам вещей, были слишком связаны тупоумными законами, начертанными в неумелых линиях по узкому масштабу; вы научили, таким образом, целую школу глупцов отделывать, смягчая, стругая и охорашивая свои стихи, как известные шесты Иакова. Задача была нетрудна; тысяча ремесленников носила маску поэзии, злополучное нечестивое племя, хулящее великого бога поэзии, не зная его сами! Нет, они шествовали с жалким, отжившим знанием, на котором начертано несколько пустых изречений и во всю ширину – имя какого-то Буало [11].
Смелый вызов Китса господствующему еще литературному течению должен был, по выражению Гайдона, «быть блеском молнии, которая отрывает людей от обычных занятий и заставляет их со страхом ожидать раскатов грома, который неминуемо должен последовать» [12]. Действительность, как мы видели, не оправдала этого ожидания; стихи Китса не были поняты; значение поднятого им движения выяснилось лишь впоследствии. Относительно приведенного нами отрывка критики Китса упрекали в крайней резкости и несправедливости к школе Буало, которую нельзя назвать собранием глупцов; но увлечение поэта легко объясняется рвением новатора, смело разрубающего стеснявшие его воображение путы условности. Стихотворение вместе с тем указывает на тот путь, по которому намерен был следовать поэт, поклонник и последователь Елизаветинских поэтов; здесь звучат также отголоски того мира, среди которого воображение Китса находит постоянную пищу: красота начинает у него воплощаться в образы античной Греции; последняя играет значительную роль в позднейших произведениях Китса.
Еще сильнее это направление выражается в лучшей пьесе книги, сонете «По прочтении Чапмэновского Гомера»: сонет до сих пор считается одним из наиболее трогательных, прекрасных образцов английской поэзии, и в самом деле трудно найти более прочувствованные звуки для выражения восторга красотой. Приводим пьесу целиком, чтобы пропусками не испортить впечатления, которое он производит:
«Я много странствовал в владениях золота и видел много прекрасных стран и королевств; я плавал вокруг многих островов на востоке, подчиненных певцами владычеству Аполлона. Я много слышал об одном обширном пространстве, управляемом глубокомысленным (нахмуренным) Гомером, но никогда я не мог вполне наслаждаться его ясностью и чистотой, пока не услышал смелых и громких звуков Чапмэна. Я пришел в состояние духа, подобное восторгу астронома, узревшего на горизонте новую планету, или величественного Кортеса, устремившего орлиный взор на Тихий Океан с вершины молчаливого утеса Дарии [13], в то время как его спутники смотрели друг на друга в диком изумлении!»
Третьей выдающейся пьесой сборника 1817 г. является поэма, начинающаяся словами: «Я стоял в ожидании на маленьком холме». Поэт отдается чарам летней лунной ночи, вызывающей в нем образы греческой мифологии; этот мотив вскоре разрабатывается им более обширно в самой обширной, но далеко не лучшей из его поэм, «Эндимион», и мы видим из указанного небольшого стихотворения, как сложился этот поэтический замысел, результат крайней восприимчивости к жизни природы. «Его воображение более всего было занято мифологией, – говорит Кольвин, – и физическими чарами луны. Ни один певец не был в юности столь буквально лунатиком». Вот лучшие строки поэмы, объясняющие происхождение мифа о любви богини луны к царю пастухов Эндимиону: «Тот был поэтом и знал наверное любовь, кто стоял на вершине Латмуса в то время, как нежный ветерок поднимался снизу, из миртовой рощи, донося до его слуха торжественные, сладкие и размеренные звуки гимна из храма Дианы; фимиам же возносился к её собственному звездному жилищу. Но хотя лик её был ясен, как глаза ребенка, хотя она, улыбаясь, стояла над жертвенником, поэт заплакал над её жалкой судьбой, сетуя о том, что это прекрасное существо страдает. Из золотых звуков он сплел прекрасный венок и нежной Цинтии дал Эндимиона».
Кроме названных стихотворений, сборник представляет мало интересного; «Послания к друзьям» монотонны, обнаруживая в самом деле влияние Гента; они делают честь дружеским чувствам, но представляют мало поэтических достоинств. Более интересно «посвящение» Генту во главе сборника; оно выражает идею, вдохновившую Шиллера в его «Götter des Griechenlandes», сожаление о том, что миновало на земле царство греческих богов. Меланхолический оттенок пьесы показывает, что Китс сознавал, насколько его поклонение чистой красоте далеко от идей, занимавших современное ему общество, и, не имея притязания открыть новый путь для английской поэзии, выражает радость, что находятся люди, которые понимают волнующие его образы и мысли. «Прошла пора великолепия и прелести: выходя теперь ранним утром, мы не видим фимиама, возносящегося на встречу улыбающемуся утру; не видим толпы нежных, молодых и веселых нимф, приносящих в плетеных корзинках колосья, розы, гвоздики и фиалки, чтобы украшать в мае алтарь Флоры. Но остались еще столь же высокие наслаждения; я вечно буду благословлять судьбу за то, что в дни, когда под прекрасными деревьями не предполагается присутствие пана, я все-таки ощущаю восторг, видя, что могу доставить удовольствие своим скромным приношением такому человеку, как ты».
III
Неуспех первого опыта не ослабил деятельности Китса. Оставив на время Лондон, он усердно работает над задуманной большой поэмой «Эндимион», поддерживая вместе с тем прежние сношения с литературными друзьями. В течение конца 1817 г. и половины 1818 Китс путешествовал по острову Уайту, чтобы набраться новых впечатлений, и поселился в Гампстэде, недалеко от Лондона и от поместья Гента, «Yale of Health», где бывал частым гостем. Гампстэд был им выбран, главным образом, ради его мягкого климата, так как вместе с Китсом поселился его младший брат Том, страдавший с некоторого времени грудью. Кроме Гента в соседстве Китса жили двое новых литературных приятелей Китса, Дильк, издатель «Atheneum'а» и Чарльс Броун, ближайший друг поэта в последние годы его жизни. Броун был известным литератором своего времени; он провел много лет в России, занятый каким-то торговым предприятием в Петербурге, затем, нажив небольшой капитал, вернулся на родину и, следуя природной склонности, предался литературному труду. Его опера из русского быта «Наренский» не имела успеха; гораздо замечательнее его критическое исследование по шекспирологии: он впервые указал на автобиографическое значение сонетов Шекспира. Броун с первого знакомства сильно привязался к молодому поэту, который, в свою очередь, полюбил его за веселый, открытый характер; их дружеские отношения продолжаются до самой смерти Китса, и Броун в последние годы жизни своего друга выказал на деле, как глубока была его привязанность. Дружба Броуна тем более сделалась потребностью для Китса в описываемый период, что нарушились его прежние отношения к Генту. Китс заметил некоторую мелочность в характере своего старшего друга и покровителя, тщеславие, ограниченность суждений, и перестал питать к нему безграничное уважение первого времени их знакомства. К тому же антагонизм, возникший между Гентом и другим постоянным членом кружка, Гайдоном, повлиял на Китса, который очутился между двух огней; каждый из противников вооружал Китса против влияния другого, и мягкая натура поэта потеряла равновесие между этими противоположными давлениями. Он охладевает к Генту и уже не ценит как прежде его отзывов о своих стихах. Эти литературные недоразумения не повели однако к серьезной размолвке; Гент продолжал с прежней заботливостью и теплотой относиться к Китсу и его поэтической деятельности. Китс, освободившись окончательно от литературного влияния своего старшего друга, поддерживает по-прежнему личное знакомство, хотя между ними нет уже прежней задушевности, и если в первой книжке отразилось некоторое подражание Генту, этот элемент в его поэзии окончательно исчезает после 1817 г. Живя в Гампстэде, Китс часто бывал у Гента и они нередко писали стихи на одну и ту же тему; из них сохранилось два стихотворения: «Сверчок и Кузнечик», написанные обоими в определенное количество времени в одной и той же комнате.
Кларк, присутствовавший при этом шуточном состязании, рассказывает в своих воспоминаниях, как сочувственно Гент относился к своему младшему сопернику, одобряя каждую удачную строчку. Насколько между ними в ходу были эти поэтические турниры, видно из трех в одно и то же время написанных сонетов «К Нилу», авторы которых – Китс, Шелли и Гент; в них, между прочим, ясно сказывается особенность взглядов каждого из трех поэтов на природу: в то время как натуралист Китс воспевает в Ниле плодородную реку, вносящую жизнь в пустыню, Гент предается воспоминаниям о Сезострисе и древнем Египте, а Шелли обращает Нил с окружающими его руинами в символ бренности всего земного.
Полтора года, посвященные сочинению «Эндимиона», не проходят бесследно для поэтического и душевного развития Китса. Экспансивный в своих чувствах, Китс делится с своими друзьями всяким движением души, всякой задушевной мыслью. Письма его за этот период носят характер дневника: поэт как бы не думает о тех, для кого письма предназначаются, а старается лишь отметить все то, что имеет интерес для него самого. В них встречаются то теоретические рассуждения о вопросах искусства, то мелочи интимной жизни, и, взятая в целом, корреспонденция Китса представляет любопытный материал для наблюдения за развитием этой своеобразной натуры, которая живет только своим творчеством и для которой красота составляет высшую цель и наслаждение в жизни. «Я убедился, что не могу жить без поэзии, – пишет он однажды Райнольдсу, – без постоянной поэзии, полдня работы для меня недостаточно. Я начал небольшим количеством, но привычка сделала из меня Левиафана». Занятый чтением Шекспира, он выносит из него особое наслаждение, доступное лишь избранным натурам; восприимчивость его сказывается и здесь в тонкой передаче волнующих его ощущений. Переход от «Ромео и Юлии» к «Королю Лиру» дает ему повод в сонете «Пред вторичным чтением «Короля Лира» изобразить разницу в характере этих пьес и производимом ими впечатлении.
«Прощай! еще раз я должен пройти чрез пламя ожесточенной борьбы между муками ада и пожираемым страстью смертным созданием, еще раз вкусить горькую сладость этого плода Шекспира!» – восклицает он, прося Шекспира и облака Альбиона, породившие эту глубокую вечную тему, «чтобы они дали ему новые крылья феникса, когда это пламя испепелит его».
Влияние Шекспира весьма значительно в этот период жизни Китса; он наполняет письма выписками из великого поэта и просит друзей в одном письме: «когда бы вы ни писали, скажите пару слов о каком-нибудь месте у Шекспира, которое вам покажется чем-нибудь новым, а это случается постоянно, если бы мы даже по сорока раз читали одну и ту же драму». Он до такой степени проникается мыслью о Шекспире, что воображает его покровительствующим ему духом. «Я помню, – пишет он Гайдону, – как вы говорили, что чувствуете над собой присутствие охраняющего вас доброго гения; – я недавно думал то же самое, потому что масса чисто случайных поступков оправдывается рассудком только по совершении их. Не будет ли слишком смело с моей стороны предположить, что охраняющий меня дух – Шекспир? На острове Уайте, в доме, в котором я жил, я натолкнулся на портрет Шекспира, который из всех мною виденных наиболее подходил к моему представлению о нем. Хотя я всего неделю прожил там, старуха хозяйка заставила меня взять себе портрет, несмотря на то, что я спешил. Не полагаете ли вы, что это хорошее предзнаменование? Я был бы рад, если бы вы сказали, что всякий человек с большими замыслами так же мучится порой, как я». В самом деле, видения и мысли, осаждающие Китса, мучают его как галлюцинации; он не может безнаказанно увлекаться каким-нибудь писателем; экзальтация овладевает всем его существом, заставляя его страдать вместе с любимым поэтом. Прежде это был Спенсер; теперь Шекспир на очереди. Но великий реалист не мог подчинить себе музу Китса. Слишком далекий от мира людского с его чисто человеческими страстями, Китс восторгается, главным образом, стихийным элементом у Шекспира. Для Китса человек дорог как часть вселенной, часть природы; ему цветок столь же близок, и поэтому Шекспир для него не учитель, а гениальный поэт вообще, увлекающий его чуткую душу.
Письма Китса за описываемое время представляют еще одну интересную сторону: в них отражаются его теоретические взгляды на искусство, которые он вскоре применяет на деле в «Эндимионе» и других, более зрелых произведениях. Мы видели, что Китс вместе с Гентом отводит воображению первенствующее место в поэзии; в письме к Райнольдсу он подробно излагает свое понимание поэзии, выражая стремление следовать начертанному им идеалу: «Я имею несколько аксиом в поэзии, – пишет он, – и вы можете судить, приближаюсь ли я к их воплощению в моих стихах. Во-первых, я полагаю, что задача поэта поражать читателя не оригинальностью, а тонкостью, казаться ему выразителем его собственных мечтаний, напоминать ему что-то отдаленное. Во-вторых, художественные образы никогда не следует оставлять незаконченными, так как они не удовлетворят читателя; начало, развитие и заканчивание образов должно, подобно солнцу, естественно восходить для него, сиять над ним и спокойно, но величественно заходить, оставляя прелесть сумерек. Но легче рассуждать о том, что такое поэзия, чем создавать поэтические произведения. И это приводит меня к новой аксиоме: если поэзия не является столь же естественно, как листья на деревьях, ей не следует совсем являться». В этих нескольких аксиомах Китс, незаметно для себя самого, дает верную характеристику своей поэзии: её своеобразная прелесть и есть та безыскусственная красота, которая заставляет забыть о поэте из-за его произведения; легкость же, с которой он пишет лучшие свои вещи, вполне оправдывает его правило, что творчество должно быть столь же непринужденным и естественным для поэта, как рост листьев на деревьях.
Сомнение в своем призвании, понятное в начинающем поэте, сильно преследует Китса во время работы над «Эндимионом» Письма его переполнены рассуждениями на эту тему; он противопоставляет бессилие своего творчества бесконечно высокому понятию о поэзии, которое он себе составил. «Нет большего греха после семи смертных, – пишет он Гайдону, – чем считать себя великим поэтом, или причислять себя к тем избранным, которые имеют право посвятить всю жизнь для достижения славы». Мысль о своем бессилии принимает у Китса преувеличенные размеры, благодаря обычной интенсивности его ощущений. «Я часто спрашиваю себя, почему я более чем другие люди призван быть поэтом, – пишет он, – ибо вижу, как велико назначение поэзии, каких высоких целей можно ею достигнуть и что значит приобресть славу».
Мы остановились на переписке этого периода жизни Китса, так как она объясняет его душевное состояние во время работы над «Эндимионом» и облегчает понимание этой поэмы. В ней не следует искать совершенства; она отражает время брожения молодых сил поэта, и на ряду с идеальной красотой попадаются весьма слабые места, свидетельствующие о несоответствии исполнения с замыслом. Настроение, породившее «Эндимиона», делается понятным из собственных признаний Китса в его письмах, и мы видели, какие сомнения и вместе с тем какие широкие замыслы волновали душу поэта во время работы. Переходим к рассмотрению Эндимиона, его странной судьбы и истинного значения.
В основе поэмы лежит миф, занимавший многих поэтов древности и рассказываемый ими в двух разных версиях. Эндимион, сын Юпитера, был пастухом или охотником, или же, по другой традиции, царем (эти функции были совместимы в героическую эпоху). Его высокая добродетель, по одним рассказам, побудила Юпитера обещать ему в награду исполнение одного высказанного им желания; Эндимион выпросил у отца бессмертие, вечную юность и вечный сон – отсюда представление о «спящем Эндимионе», остающееся неизменным во всех пересказах основного мифа. Другое предание говорит, что Юпитер вознес Эндимиона на свой Олимп, но, уличив его в ухаживании за Юноной, осудил на вечный сон на горе Латмосе в Барии. Но главный миф, связанный с именем Эндимиона, содержит историю любви богини луны Селены, или Дианы, к прекрасному юноше. Когда Эндимион, говорит предание, усталый от охоты, засыпал в одной из пещер горы Латмоса в Барии, целомудренная богиня замедляла бег своей колесницы, чтобы любоваться спящим красавцем, и даже оставляла иногда колесницу, чтобы целовать его прекрасные губы. Изображение Эндимиона и посещения его Дианой сохранилось на многих античных памятниках; самое красивое из них, передающее редкую красоту царя пастухов, барельеф Капитолия, где Эндимион представлен сидящим одиноко на утесе и погруженным в глубокий сон; возле него собака, атрибут его звания. На саркофаге Капитолия изображены Эндимион, спящий в объятиях Морфея, и Диана, пришедшая любоваться им; ей предшествует Амур с факелом в руках. Уже древние начинают комментировать этот миф, стараясь найти реальный факт, послуживший ему основанием, так, Плиний доказывает, что Эндимион первый стал наблюдать за движениями небесных светил, и это повело к рассказу о его любви в луне. В наше время многие ученые занимались объяснением мифа о спящем Эндимионе. Нитч в своем мифологическом словаре говорит, что Эндимион, вероятно, любил светлые лунные ночи и проводил их, предаваясь своему любимому занятию, охоте. Он любил месяц – и отсюда поверье, что богиня месяца любила его. После его смерти, вероятно, говорили, что Эндимион, любивший проводить ночи бодрствуя, должен теперь спать все время – отсюда миф о его вечном сне; место, где богиня выражала свою любовь Эндимиону – лежащая на востоке гора Латмос, потому что полагали, что созвездия восходят из-за гор, Германн в своей греческой мифологии придает мифу астрономическое значение: по его мнению, Эндимион не что иное, как астрономический знак, представляемый египтянами в образе человека, из уст которого в начале года падает солнечный луч. Он свят для Селены, так как олицетворяет лунный год; греки по неведению обратили солнечный луч в лунный, причем он не исходит из уст Эндимиона, а направлен на него, т.-е. на языке поэтов лунный луч, спускающийся с неба, целует Эндимиона. Есть еще попытка объяснить предание филологическим путем, из имени Эндимиона. Предметом поэтических пересказов служит, главным образом, эпизод любви Дианы и Эндимиона; в утраченной поэме Сафо воспевалась Диана, спускавшаяся каждую ночь к очарованному ею Эндимиону; Теокрит, Аполлоний и Овидий передают эту историю любви смертного к богине, как позднее Лукиан, Аполлодор и Павзаний. Конечно, эти классические образцы не были знакомы Китсу; в английской литературе сюжет этот был воспроизведен поэтом XVI-го в., Драйтоном, а Китс прекрасно знал поэтов Елизаветинского времени. Кольвин полагает, что поэма Драйтона «Человек на луне» послужила образцом для Китса, но это мнение нам кажется неосновательным. Не говоря о том, что поэма Драйтона крайне слаба, автор её понимает миф совершенно иначе, чем Китс. Драйтон примыкает в объяснению Плиния, что Эндимион был астрономом, и рассказывает, от лица пастуха на празднестве Пана, как Эндимион, наблюдая за движениями луны, впал в меланхолию; из неё выводит его сама Диана, являясь пред его восхищенным взором и читая ему целую лекцию по астрономии, чтобы доказать свое значение во вселенной; она объясняет ему движение луны вокруг своей оси, говорит о разнице лунных и солнечных затмений, о том, как она, подобно её брату Аполлону, имеет цветок, живущий лишь присутствием луны, как гелиотроп – влиянием солнца. Убежденный в её величии, юноша решается следовать за любимой им богиней; Диана возносит его на небо, и с тех пор смертные видят на луне во время полнолуния фигуру человека; это и есть Эндимион, влюбленный в Селену. Во всей поэме Драйтона есть, по нашему мнению, лишь одно поэтическое место, где Эндимион с свойственной древним грекам способностью отождествлять явления природы с олицетворяющими их божествами, задумывается над фазами луны, заключая из постоянных перемен её внешнего вида о постоянстве богини; при этом, однако, он сознает, что повторением одних и тех же перемен каждый месяц она дает полезные указания для смертных.