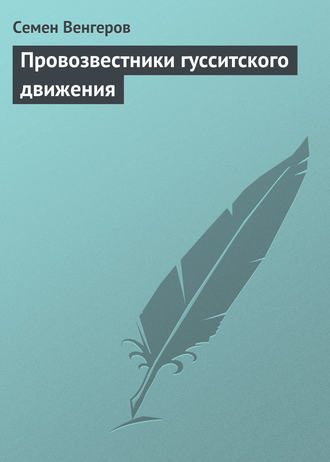 полная версия
полная версияПровозвестники гусситского движения
Но не таков был Гусс, чтоб отступиться от того, что считал своим нравственным долгом.
Если огромная готовность к самопожертвованию выразилась уже в твердом намерении Гусса отправиться в Констанц, то еще поразительнее, и может-быть даже беспримерно в истории, поведение великого чеха после того, как он предстал пред собором. Что действительно нравственный ригоризм Гусса достигает поразительной высоты, читатель увидит из дальнейшего изложения. Но раньше мы желали бы подчеркнуть одно обстоятельство, которое крайне важно для полной оценки нравственного величия Гусса и сильно подкрепляет нас в решимости придать образу действий знаменитого деятеля эпитет «беспримерного»: Гусс не был фанатиком. Много мученических смертей знает хроника людских мерзостей, но большинство этих мучеников, соглашаясь на страдания, находились в состоянии необыкновенного экстаза. Гусс же ни на минуту не выходит из нормального состояния и, проявляя геройское величие духа, не перестает быть обыкновенным смертным. В нем нет того «небесного» просветления, которое придает христианским мученикам совершенно особый характер, лишенный поучительности для среднего человека. Геройство людей, которым часто с детства слышатся хоры ангелов, предсказывающих им вечную славу, если они пострадают, не перестает, конечно, быть геройством, несмотря на свой экзальтированный, галлюцинационный характер. Но разве не следует поставить выше такого болезненного геройства спокойное геройство человека вполне нормального, который боится смерти, не ищет её и вообще волнуется чувствами «мира сего»? А именно таким был Гусс. Спору нет, он надеялся на вечное блаженство, но ему совсем не хотелось умирать; если он и шел на место казни радостно, то все-таки наплыв «земных» чувств, как мы сейчас увидим, был в нем очень силен в последние часы жизни. Но это-то именно и увеличивает цену его нормального геройства.
Высказывая такой взгляд на нравственный облик Гусса, мы сильно отступаем от приемов всех поклонников Гусса. Если противники его деятельности, как, напр., Гёфлер, в желании унизить значение великого провозвестника реформации, нередко прибегают к извращению фактов, то и апологеты его слишком односторонне выставляют Гусса каким-то ангелом во плоти. Эта односторонность должна возбуждать тем большую досаду, что она совершенно излишня и, по нашему глубокому убеждению, только ослабляет ореол Гусса, который велик именно человечностью и простотой своего геройства. Какой же Гусс ангел во плоти, когда он так энергически отстаивает себя на соборе, уличает во лжи врагов своих, путает показания свидетелей, горько жалуется на вероломство Сигизмунда и громит своих противников? Но лучшим доказательством того, что Гусс даже в последние часы своей жизни, когда «небесное», всепрощающее чувство всего скорее может овладеть осужденным на смерть, – лучшим доказательством, говорим мы, что даже в эти торжественные минуты Гусс не переставал быть человеком, – могут служить следующие два несомненные исторические свидетельства, почему-то почти совсем не затрогиваемые в биографиях Гусса. Мы говорим о двух однородных показаниях Ульриха Рейхенталя и неизвестного автора небольшего трактата: «Kelatio coaevi de sententia et morte M. Joannis Huss». Ульрих фон-Рейхенталь, гражданин города Констанца, был членом собора и оставил после себя знаменитую хронику, причисляемую к лучшим первоисточникам средневековой истории. Сведения его беспристрастны и ими пользуются историки самых разнообразных направлений. И вот что мы читаем у него о тех минутах, когда собор, произнесши приговор над Гуссом, приказал расстричь его и снять с него священнические одежды: «К нему подошли архиепископ миланский, два епископа и др., сняли с него священнические одежды, а он осыпал их насмешками за это (Do macht er ein gespött daraus)»[23]. Еще определеннее говорить неизвестный автор вышеназванного трактата: «Когда епископы приступили к деградации и не сразу могли согласиться относительно порядка совершения его, Гусс воскликнул: „Вот сколько ослов, а между тем не могут сговориться относительно наносимого мне поношения“ (Ессе tot asini nec possunt in ista blasphemia concordare)»[24]. Нет основания предполагать, что оба хрониста сговорились писать одно и то же. Но предположим даже, что в словах их есть известная дола преувеличения, – во всяком случае, однако же, ясно из приведенных двух показаний, что Гусс иронически относился к обряду, что в нем хватило столько «земных» чувств, чтобы насмехаться, хотя может быть и не в таких сильных выражениях, как приведено выше. Впрочем если даже взять самое восторженное описание смерти Гусса (Петра Младеновица), то и из него ясно обилие «земных» чувств в Гуссе пред казнью. Посмотрите, в самом деле, как мало в нем «небесной» покорности и сколько полемического так сказать жара. Ему читают приговор, а он неоднократно прерывает его протестациями, так что епископы приходят в неописанную ярость; затем над ним, как над еретиком, совершаются разные поносительные обряды, а он (на этот раз уже по показаниям самого Петра Младеновица) на это говорит, что точно таким же образом Пилат поступал со Спасителем; наконец собор поручает его душу дьяволу, на что Гусс быстро отвечает: «а я поручаю ее Иисусу Христу». Словом, ни на минуту Гусс не перестает обнаруживать самое оживленное возбуждение. И это-то, повторяем, нам в высшей степени драгоценно. Что знаменательного в том, если ангел во плоти геройски ведет себя? Вот если человек, в полном обладании нормального рассудка, в полном обладании физических и моральных сил, с бьющеюся во всех жилах и нервах жизнью, – если такой нормальный человек ведет себя как величайшие герои легенд и мифов, так это действительно имеет первостепенное нравственное значение и выдвигает такую личность в первые ряды человечества.
Да, Гусс был человек от мира сего. Но это ему не мешало с негодованием отвергать всякие компромиссы, которые могли бы спасти ему жизнь. Тут-то он и проявил тот необыкновенный ригоризм, который, кажется, дает нам полное право называть его поведение беспримерным в истории. От него требовали в сущности самой незначительной уступки, – требовали, чтоб он отрекся от тех пунктов, которые возвел на него обвинительный акт. Такое требование было очень легко исполнить, потому что Гусс признал обвинительный акт клеветой. «В таком случае ты не погрешишь против своей совести, если отречешься от того, в чем тебя неправильно обвиняют», – убеждал его император Сигизмунд. Но Гусс не соглашался: он говорил, что ему не от чего отрекаться; он просто «читает обвинительный акт гнусною ложью».
Собор начал с Гуссом последние переговоры. Ему предложена была формула отречения, в которой сделана уступка самолюбию Гусса, являющаяся новою преградой, противопоставленной его совести. «Хотя мне приписывают многое, что никогда мне и в голову не приходило, – так гласит эта формула, – тем не менее подчиняюсь смиренно повелению, приговору и наказанию собора, во всех справедливых или ложных обвинениях, возведенных на меня свидетелями и извлеченных из книг моих, отдаю себя в полное распоряжение собора, готов принести отречение полное и с покорностью принять наказание, которое он рассудит за блого наложить на меня». Гусс долго готовился к ответу, предлагал себе все возможные сомнения и в беспристрастном суде своей совести решился подписать себе приговор. Ответ его ясный, полный, систематический. Он торжественно отказывается от всякого отречения: 1) чтобы не изменить Богу и совести, отступая от истин хранимых, 2) чтобы не сделаться клятвопреступником, принимая на себя обвинения ложные, 3) наконец, чтобы не соблазнить народа, который столько лет внимал его проповеди. «Пусть лучше повесится мне на шею жернов осельский и потому в пучине морской. Я люблю истину и ненавижу неправду»[25].
Епископам ригоризм Гусса казался каким-то полным безумием и ничему, кроме еретического «упорства», они не могли его приписать. Но так как есть надежда сломить всякое упорство, то наиболее нравственные члены собора предпринимают целый ряд попыток уговорить Гусса отбросить свою щепетильность. Хроники полны подробностей этой борьбы с «упорством» (pertinacia) Гусса. Описав одну решительную попытку уговорить магистра, кончившуюся полнейшею неудачей, выше цитированный анонимный хронист прибавляет: «тем не менее, имея к нему сострадание и желая его удержать от ошибки, непосредственно пред решительным заседанием, многие господа кардиналы вместе с многими другими прелатами и докторами всех стран приказали привести его к себе еще раз, и еще раз всевозможными способами уговаривали его отречься, но ничего достигнуть не могли»[26]. Вечером того же дня Сигизмунд послал в темницу Гусса для увещания его баварского герцога, рейнского пфальцграфа и трех чешских дворян[27]. Этим светским людям удалось так же мало сделать, как и их духовным предшественникам. Гусс стоял на своем, что ему не от чего отрекаться. «Знайте, – говорил он в тот же день своему другу и покровителю, чешскому рыцарю Иоанну из Хлума, который сопровождал его от самой Праги и употреблял все усилия, чтобы спасти жизнь великого проповедника, – знайте, еслиб я сознавал за собою, что я писал или проповедовал против закона и против священной матери-церкви что-нибудь такое, что заключает в себе ересь, я бы смиренно отрекся, Бог тому свидетель»[28].
Наступило последнее по делу Гусса заседание 6 июля. Опять начались бесконечные увещания. Но так как они по-прежнему ничем не кончились, то был постановлен приговор. Приступили к расстрижению, причем трудно уже сосчитать, в который раз епископы в последний раз уговаривали его в отречению. Он со слезами, раздирающим голосом, сказал присутствующим: «Вот эти епископы убеждают меня к всенародному отречению. Если бы дело шло только о человеческой славе, они не тратили бы слов по-пустому. Но теперь я стою пред лицом Господа Бога, готовлюсь предстать на суд неумытный и не могу изменить своей совести и посрамить его исповедание, ибо я не сознаю в себе заблуждений, от которых принуждают меня отрекаться. Я всегда думал, писал и утверждал противное. Какими глазами взгляну на небо, как подниму чело свое на все народное множество, когда по вине моей поколеблются многолетние его убеждения? Соблазнить ли мне столько душ, столько совестей, напитанных чистейшим учением евангельским? О, никогда не воздам чести тленной храмине тела моего паче многих душ христианских!»[29].
Уже тогда, когда все было готово к чудовищной казни, когда Гусс, одетый в шутовской колпак ересиарха, стоял привязанный к позорному столбу и нетерпеливый палач ждал сигнала зажечь нагроможденные в огромном количестве дрова и солому, на площади вдруг появился приближенный короля Сигизмунда (marescalcus imperii), Гоппе фон-Поппенгейм, и стал уговаривать Гусса спасти свою жизнь и отказаться от своего учения. Но Гусс, обратившись к нему, ответил: «Бог свидетель, что я никогда не проповедовал того, что ложно, с помощью ложных свидетелей, мне было приписано. Единственное, что вытекает из моей проповеди, из моих сочинений и из моих действий – это то, что я хотел отвлечь людей от грехов. И за эту евангельскую, истинную правду, о которой я учил, писал и проповедовал, основываясь на словах святых учителей, я радостно сегодня желаю умереть»[30].
Итак, даже в последние минуты своей жизни, Гусс не говорит, подобно христианским мученикам, об ожидающей его небесной награде, а единственно о том, что он не еретик и не желает «соблазнить столько душ», жадно внимавших его проповеди. Что касается того, что он «радостно» желал умереть, – того, что он, как мы сейчас узнаем, шел на смерть как на «радостный пир», это опять-таки не значит, что Гусс, подобно христианским мученикам, сам желал оставить земную юдоль, чтобы насладиться небесным блаженством. Такого желания Гусс в своих многочисленных письмах нигде не высказывает. Напротив того, ему очень хотелось жить, – «он плакал о том, что оставляет свое дело неоконченным, ему жаль было расстаться с друзьями, с Вифлеемскою часовней (в ней он произносил свои проповеди), которую больше не увидит»[31]. Но любовь к правде преодолела в нем любовь к жизни.
После ответа, данного Гоппе фон-Поппенгейму, ничто уже, конечно, не могло задержать казни. «Ломая руки» (manus concutientes), отошел посланец короля от костра и палач зажег облитые смолою дрова. Гусс запел священный гимн. Но вот до лица его достигли густые клубы дыма. Песнь прекратилась, хотя некоторое время зрители еще видели, как беззвучно двигались губы ересиарха, очевидно, доканчивая начатый гимн.
Героическое спокойствие, ясное величие, с которым умер Гусс, не могли не произвести потрясающего впечатления даже на злейших врагов его. Вот что пишет Эней Сильвий Пикколомини (впоследствии папа Пий II) о смерти Гусса и его ученика, Иеронима Пражского, сожженного через год после Гусса:
«С необычайно твердым духом встретили они оба смерть. Они спешили к костру, точно на званый пир какой-нибудь, ни одним словом не обнаруживши волнения. Когда они стали гореть, они запели песнь, которую прекратили только пламень и дым огня. Ни о ком из мудрецов древности не читаем мы, чтоб они так мужественно, так стойко, так радостно встретили смерть, как эти перенесли пламя костра»[32].
Отзыв Энея Сильвия мог бы, собственно, сильнее всех других доводов доказать читателю, что поведение Гусса действительно беспримерно в истории. Ужь если один из важнейших членов римского духовенства, и притом человек принадлежащий к числу самых знаменитых историков своего времени, проводя параллель между Гуссом и мудрецами древности, пальму нравственного превосходства отдает чешскому проповеднику, то значит решительно никакого другого вывода из такого сравнения сделать нельзя, не погрешивши самым вопиющим образом против истины. Но тем не менее мы не можем ограничиться отзывом Энея Сильвия, потому что он не отметил одной черты, крайне важной для полной оценки нравственного величия Гусса. Дело вот в чем. Припомните только, во имя чего умирали или готовы были умереть «мудрецы древности», или христианские мученики, или, наконец, более поздние жертвы людской гнусности, Галилей, например. От всех этих людей требовали полного отречения от своего нравственного я, – требовали, чтоб они признали ложью весь нравственный мир свой, все свои идеалы и стремления. Таким требованием их ставили вот в какое положение: либо смерть за верность своим убеждениям, либо жизнь, купленная изменою, купленная ценою потерянной чести. Каким позором покрыл бы Сократ свои седины, если бы для спасения жизни отказался на суде от своего учения! Какую гнусность совершал всякий христианин, отрекавшийся от Христа и соглашавшийся покланяться идолам! Наконец, каким жалким трусом, каким нравственным ничтожеством признала бы история Галилея, если бы в решительную минуту сила духа не восторжествовала в нем над слабостью плоти!
Никакой такой тяжелой дилеммы не заключало в себе положение Гусса. Мы уже знаем, как ничтожны были требования собора, как мягка была формула «отречения», предложенная Гуссу. Мы, наконец, знаем, что он вполне был убежден, что умирает «оклеветанный», – следовательно, своим «отречением» он не совершил бы никакого ренегатства. И тем не менее такой резкий ригоризм, такое отвращение даже от тени компромисса! Как же его после этого не поставить во главе всех мучеников человеческой мысли?
III
Поразительна также душевная красота другого первостепенного деятеля гусситского движения – Иеронима Пражского. Великие эпохи рождают великие характеры и нарушают экономию природы в распределении выдающихся личностей. Только этим можно себе объяснить тот каприз истории, по которому Гусс и Иероним оказались ближайшими современниками, между тем как даже разделенные столетним промежутком они вполне оправдали бы идеализм тех наблюдателей исторической жизни, которые утверждают, что уже не так омерзителен род людской, что идеальные стороны все-таки составляют значительную составную часть человеческого характера. Одна такая личность, как Гусс или Иероним, на целое столетие пошлости, и резвость последнего значительно ослаблена.
Оба принадлежащие в благороднейшим личностям человечества, Гусс и Иероним были однако же не очень похожи друг на друга характером. В Иерониме было несравненно больше страсти, он был гораздо нетерпеливее в стремлении к истине и потому поведение его не так цельно, как образ действий Гусса. Страстность, разлитая по всему существу Иеронима, сделала его блестящее Гусса. Его бурное красноречие потрясает злейших врагов его; против пламенного одушевления его не устоял в первые минуты непосредственного впечатления даже Констанцский собор, только что осудивший Гусса. Но вместе с тем у него были минуты слабости духа, почти неизвестной Гуссу, и потому в общем образ Гусса поразительнее и величественнее.
Ученостью Иероним превосходил Гусса, принадлежавшего в числу самых выдававшихся богословов своего времени. Но беспокойная натура его, гнавшая его из Праги в Оксфорд, из Оксфорда в Париж, из Парижа в Кёльн, из Кёльна в Гейдельбрег, Пешт, Вену, забрасывавшая его то в полуязыческую Литву, то в православную Русь, то, наконец, в отдаленный Иерусалим, побуждавшая его всюду заводить ожесточеннейшие диспуты, кончавшиеся всегда тем, что он должен был спасаться бегством, – эта жизнь странствующего рыцаря правды не дала ему возможности обстоятельно изложить свои мысли в таких трактатах, какие оставил по себе Гусс. Но за то он с помощью своего пламенного слова разносил по всей Европе идею нравственного обновления и протеста против католической распущенности. Поэтому в тот самый момент, когда его захватили в Констанце, участь его была решена: нашлось достаточное количество свидетелей, в умах которых слишком живо запечатлелась бурная проповедь Гуссова друга о необходимости рассеять миазмы, заразившие нравственную атмосферу католического мира.
Когда Гусс собирался в Констанц, Иероним его отговаривал, говоря, что поездка дурно кончится. Но потом сам не утерпел и без всякой охранительной грамоты отправился в сопровождении только одного ученика своего[33] в Констанц, куда его никто не призывал. Дурные слухи, ходившие насчет участи, ожидающей Гусса, заставили Иеронима сознать безрассудность своего шага, но было поздно. Из самого-то города ему удалось выбраться благополучно, но вскоре его настигла погоня, посланная собором, и он был обратно отведен в Констанц, где и брошен в смрадную, омерзительную тюрьму.
Чрез несколько дней он был приведен в залу монастыря миноритов, где собрались наиболее блестящие члены собора. Со всех сторон накинулись на него обвинители. Все те знаменитые богословы, которые, несмотря на свою ученость, были побеждены Иеронимом во время его странствий по университетам Европы, теперь чувствовали свою силу и поставили ему в упрек даже его философские мнения в великом схоластическом споре о номинализме и реализме. Иероним не потерялся и всем противникам отвечал с обычною своею убедительностью. Тем только оставалось разразиться гневным кривом: «в огонь его, в огонь!» – «Если вам приятна моя смерть, – ответил Иероним, – то да совершится воля Господня»[34]. Вечером того же дня известный уже нам повествователь судьбы Гусса – Петр Младеновиц – подобрался к окошку тюрьмы Иеронима и сказал ему: «Укрепи свою душу, вспомни истину, о которой ты так хорошо говорил, когда ты был свободен и на руках твоих не было кандалов. Друг мой, учитель мой, не остановись пред тем, чтоб умереть за правду!» – «Не остановлюсь, – ответил Иероним. – Я высказал членам собора много вещей, касающихся истины, и буду стоять на них»[35].
Члены собора достодолжным образом отплатили Иерониму за выказанную им твердость духа. Он был переведен в другую тюрьму, еще более смрадную и омерзительную. Здесь его привязали в столбу, сковав кроме того шею, руки и ноги тяжелыми цепями. Два дня простоял таким образом великий сподвижник истины, получая в пищу скудную порцию хлеба и воды[36]. Движимый состраданием, тюремщик известил Петра Младеновица о положении друга. Младеновицу удалось несколько ослабить суровость обращения с Иеронимом, но тем не менее последний на 11-й день заключения тяжко заболел, так что он причащался уже св. тайн; однако он выздоровел. Суровость заточения была несколько ослаблена после этого, но все-таки друзьям Иеронима не удалось достичь того, чтобы с него сняли оковы и перевели бы его в более светлое и здоровое помещение. Целый год провел он в этой отвратительной яме, пока смерть не избавила его от смрада её[37].
Суровоё заточение было для Иеронима более тяжелым испытанием, чем для всякого другого. Всю жизнь привык он странствовать, переезжать из одного города в другой, из одной страны в другую, и вдруг одиночество в четырех мокрых стенах, покрытых плесенью, еле-освещенных тусклым светом, с трудом пробивающимся чрез узенькое окошечко. Весь организм его был потрясен, ноги покрылись незаживающими ранами[38].
Надломили на время эти телесные страдания мощный дух Иеронима. Он согласился отречься от своих идей, признать еретическими сочинения Виклефа и Гусса, а также правильность приговора над последним. Большинство членов собора было очень довольно этим, потому что сожжение Гусса произвело страшное негодование в Чехии и усиливать озлобление сожжением Иеронима было нерасчетливо.
Но недолго продолжалось смиренное настроение Иеронима. Мужественный дух снова проснулся в нем, он устыдился своей слабости и снова предстал пред собором во всем своем нравственном величии. Призванный в торжественное заседание собора для оправдания, он вместо этого обратился к прелатам с пламенными словами укоризны и восторженною апологией Виклефа и Гусса. При этом он обнаружил столько учености, что собрание, вмещавшее в себе знаменитейших эрудитов того времени, было поражено глубоким удивлением и всем захотелось спасти гениального проповедника. Необыкновенное впечатление, которое Иероним производил даже на самых ревностных католиков, ярко выразилось в известном письме Поджио Брачиолини к Аретину. Поджио, знаменитый историк, присутствовал на заседаниях собора, когда происходил суд над Иеронимом, и был очевидцем его сожжения. Он был страшно потрясен всем ансамблем личности Иеронима и в интимном письме к приятелю своему, писателю Аретину, дал полный простор своему восторгу. Дальнейшее изложение основано главным образом на этом письме[39].
В безмолвном удивлении слушал собор бурную импровизацию Иеронима. Это была в полном смысле слова импровизация. Уже целый год сидел Иероним в своей смрадной яме, не имея возможности ни с кем обменяться мыслями, не видя ни одной книги. И тем не менее вся его многочасовая речь, ни на одну минуту впрочем не утомившая слушателей, была полна самых разнообразных доказательств и цитат, почерпнутых и у философов древности, и у отцов церкви, и из Свящ. Писания, и из сочинений правоверных богословов. «Можно было подумать, что он весь год своего заключения провел в полном спокойствии и только и делал, что сидел над книгами», свидетельствует нам Поджио.
Но не к спасению своей жизни направлял Иероним свою ученость и свое потрясающее красноречие. Напротив того, он сам подписал себе этою речью смертный приговор, сделав в ней такие признания, которые, при всем искреннем желании многих членов собора спасти гениального чеха, ни к чему иному как в костру его привести не могли. Вот что говорил он в заключение: «Я знал Гусса с самого детства его и не знаю за ним ни одного дурного поступка. Это был прекрасный человек, праведник, святой. Осужденный, несмотря на свою невинность, он подобно пророку Илии из пламени поднялся на небо и оттуда он призовет своих судей пред престол Христа. И я тоже готов умереть. Я не отступлю пред казнью, которую готовят мне враги мои»[40].
В собрании произошло движение. Удивление, возбужденное первою половиной речи, в которой он так блестяще и убедительно отстаивал свои идеи, стало сменяться гневным возбуждением. Иероним не обратил на него никакого внимания. «Из всех грехов, совершенных мною в продолжение моей жизни, – продолжал он, – ни один не тяготеет так сильно над мною и не возбуждает во мне такого жгучего раскаяния, как тот, когда я признал правильным приговор, постановленный против Виклефа и святого мученика Иоанна Гусса, моего учителя и друга. Да, от всей души раскаиваюсь я и с отвращением говорю, что, отказываясь от учения Гусса, я поступал так под гнусным, позорным страхом смерти. Обращаюсь теперь с глубокою мольбою к Богу, да простит Он мне этот самый тяжкий из всех грехов моих!» Затем он обращается из обвиняемого в обвинителя:
«Не потому осудили вы Виклефа и Гусса, что они потрясли учения церкви, но только потому, что они обнаружили безобразия, творимые духовенством, потому что они обличали корыстолюбие, пышность, чванство и другие пороки прелатов и простых священников. Все эти обвинения, которые остались неопровергнутыми, я их разделяю и провозглашаю вместе с Виклефом и Гуссом».
Собрание затрепетало от гнева: «Он сам подписывает себе приговор!.. Не нужно более никаких доказательств! Мы сами теперь убедились, что он – упорнейший еретик».









