
Полная версия
Твой след ещё виден…
Саша понял, что завод куплен, чтобы скачивать прибыль. Ни о каком развитии речи быть не может. «А несчастные триста баксов за учёбу для Таис – пожалели!» – с обидой, будто это касалось его лично, подумал он.
– Мне надо посоветоваться с шефом. Но при любом раскладе, запчасти и пресс-форма вам нужны?
Юлек пожал плечами: – По мне, так ещё поработают, а там – видно будет. Широко шагать – штаны порвёшь. Решайте в своей Италии. Звоните. Домой когда?
– Сегодня ночью поездом в Москву, завтра самолётом – туда.
– А здесь заночевать? В баньку ночную сходим. Пиво, девочки, бассейн. В преферанс играешь?
– Спасибо. Дела.
Вскоре они на двух служебных «Волгах» мчались в город, где, будь это месяцем позже, Саша мог встретиться с Таис. Не довелось.
7
Несколько месяцев Кирилл навёрстывал то, что было упущено за зиму. Работал, как проклятый. Как раб, прикованный к галере. Накопившиеся долги уменьшались медленно. Копеечные изделия методично падали со станка в поддон, но ещё методичнее и настойчивее поднимались расходы на жизнь: словно их кто-то поддавливал мощными гидравлическими домкратами, противодействия которым, не существовало. Но он не сдавался. Соревновался сам с собой, каждый час скрупулёзно записывая выработку со станка. Оправдывал себя, утрешнего, перед собой же, но уже вечерним, видя, что производительность выросла: «На разогретом станке и импотент сможет». Июнь близился к концу, и лист с убористо вписанными числами, напоминал об удачах, провалах, взлётах и падениях. Выловленные сознательно, или случайно, секунды, иногда десятые их доли, уменьшавшие цикл, складывались, накапливались в течение смены, к концу месяца превращаясь в сэкономленную электроэнергию, дополнительные изделия, – задел, которого для спокойной жизни всегда не хватало. Иногда Кирилл ловил себя на мысли, что лучше: отлаженный, монотонный бесконечный механизм процесса, когда можно тупо сидеть, наблюдать и слушать до тошноты знакомые однообразные звуки, в которых только при большой фантазии определишь различие темпа, ритмического рисунка, уровня громкости; или, когда заданный темп вдруг нарушается залипшей на пресс-форме деталью, заставившей тебя вскочить и, в отведённые две секунды паузы между циклами, сбросить её с обманчиво застывшей пресс-формы, но уже готовой соединить свои разомкнутые челюсти и поймать многотонным усилием живую плоть пальцев, а если удастся, то и всю кисть; или вмиг тревожно замигавшая красная лампа, свет которой сопровождает крещендо в партии больших и малых насосов – они своими фортиссимо и форте возопили вдруг о динамических неполадках, после которых всегда выброс массы, нарушение размеренного, устоявшегося уклада, но и напоминание о бдительности и хоть какое-то разнообразие. И всё это – час, день, месяц. Кирилл выходит уже в ночь, набрав полные корзины усталости, тащит их; выплёскивает в себя, как на каменку, одну-две бутылки пива; приходит в тревожный от фокусов младшей дочери дом, смотрит в диаметр её зрачков; и падает навзничь в приготовленную женой постель. Из семьи слонов, пришедших по наследству из детства, и обещавших когда-то счастье, два уже ушли. Это Кирилл отпустил их, а сейчас он пригласит в путешествие следующего. Без него не уснуть. Путешествуя, он испытывает другие проблемы, другие чувства, но там – воздух, космические масштабы и прикосновение к иному мирозданию…
СЛОН № 3
Встреча
И убыло ещё три года. Стал год триста двадцать третий. Словно в исполинских песочных часах: медленно истекало из верхнего вместилища, наполняя нижнее. И песчинки обозначали в них время человеческих жизней. «И многие же будут первые последними, и последние первыми», – скажут совсем скоро, через каких-то триста, с небольшим, лет, когда кто-то всемогущий перевернёт сосуды, взяв на себя право решать: нужно ли досыпать содержимого в верхний и тем продлить жизнь человечеству, или прекратить, более никому не позволяя менять местами эпохальные чаши.
Ратхама так давно добирался из Александрии, с берегов моря, так долго с верблюжьим караваном плыл песками пустынь в Гизу, что когда прибыл туда, успел забыть плавные, чувственные цвета моря и дрожащие вместе с водой краски.
Хотя ещё совсем недавно, он, в мечтательности манимый голубым цветом моря и неба, сливающихся на горизонте, за которым казались вечность и спокойствие, – уходил в это море, ловил каждое впечатление каждого мгновения, и, ощутив, что ему довелось выжить, добирался до других мечтательных пейзажей. Он часто сидел, обратив лицо к небу, где ясные бело-жёлтые цвета луны, как и звуки, из которых слагались слова, вызывали мечтательное и ностальгическое, уходящее в глубь веков, о которых не раз ему рассказывал его отец Маратха.
Теперь, короткие, выкрашенные хной и напитанные снадобьями, волосы Ратхамы, стали жёстче необработанного в папирус тростника. Когда-то ласковая ткань одежд огрубела, а укачанные длинным путешествием мысли, наоборот: мягко, лирически трепетали в предвкушении встречи с пирамидами.
Он оставил караван и в состоянии созерцателя брёл сейчас по пустыне. Мысленно, словно разноцветные квадраты, но схожего тона, он вставлял друг в друга звуки, и они свободно уплывали словами в пространство.
Фигуру полулежащего на зыбучих песках человека, Ратхама увидел неожиданно. Остановился, долго вглядываясь в неё. Перед фигурой, отделённой от себе подобных аскетической жизнью и от пирамид, к которым всю жизнь будет тянуться взгляд человека, – было такое пространство, которое ещё более усиливало возникшее чувство одиночества и печали. Ратхама понял, что перед ним отшельник, истощённый суровой жизнью в египетской пустыне. Он молча опустился в песок рядом с ним, дожидаясь внимания.
Отшельник держал в руках череп. Держал так бережно, отстранённо, будто продолжал начатые давно размышления о бренности человеческого бытия. И чем дольше отшельник глядел в чёрные дыры глазниц когда-то человека, тем мудрее и глубже становился его взгляд, не приемлющий сейчас ни взрыва чувств, ни вскрика, а лишь предрасположение к неведомому ему человеку. Его тело было чуть прикрыто груботканной хламидой. Светлая борода и морщинистый лоб выдавали тот возраст, когда соседство с гладкой, отполированной временем сферой, не вызывало удивления, а только справедливость и добрую волю. Жилистые пальцы, перебирающие чётки или поглаживающие мёртвые кости черепа, показывали несуетность и терпение. Всё было высвечено мягким, приглушённым светом, исходящим из самого отшельника, что на фоне ярко и контрастно освещённых солнцем пирамид вызывало потрясение и покорность.
– Радуйся, – всё же тихо, по греческому обычаю, поприветствовал Ратхама старца.
– Цели наши конечны, – поднял веки старец. – Лишь две из них главные: радость и горе. Так наставлял нас учитель Аристипп.
– Тот, который стал первым брать деньги за обучение? – чуть улыбнулся Ратхама.
Старец ещё пристальнее посмотрел на него:
– Ты ещё молод. Эти деньги он отсылал своему учителю Сократу. С горем или радостью ты пришёл сюда?
– Горе моё безмерно: в Вавилоне умер Александр. Его народы скорбят. Разве сюда не долетели плачи и стоны его подданных?
– Только вечность рассудит: кто велик, а кто ничтожен. Чем же так дорог тебе этот предводитель, возжелавший от греков божеских почестей и высмеянный за это Диогеном?
– Его воины вырвали меня из рук безверных персов.
– И ты из раба стал свободным?
При этих словах, что-то дрогнуло внутри Ратхамы, будто фрагмент сна, который повторялся все годы его скитаний вдали от родины, отца и матери – вспыхнул, высветил миг и исчез.
– Я вольноотпущенник и служу при Александрийской библиотеке. Но, «кто под царскую вступает сень, тот раб царю», – вспомнил Ратхама когда-то прочитанное.
– Ещё Аристипп возразил Дионисию: «Не раб царю, коль он пришёл свободным».
Словно сверкающие маяки, блестели на солнце пирамиды. Ратхама молча смотрел на них, мучаясь вопросом: «Люди ли воздвигли это?!»
Будто поняв, о чём думает он, старец-отшельник тихо изрёк:
– Фараоны лишь унаследовали то, что оставили им боги, прибывшие с затонувшего острова. Таинство и господство пирамид через тысячелетия будет властвовать над человеком.
– Но и пирамиды боятся времени. За две тысячи лет они, думаю, несколько изменились, – усомнился Ратхама.
– Это время будет бояться их…
Старик надолго замолчал, опять поглаживая морщинистой рукой гладкую сферу лежащего на песке черепа.
Ратхама повернул лицо в пространство пустыни перед пирамидами, чтобы было легче молчать. Два цвета видел он сейчас. Белый – пустынный – едва заметной линией на горизонте переходил в бледно-голубой – неба; ничего более не существовало в этом пространстве и, казалось, не могло существовать.
Ратхама вынул заветные три камушка, положил их рядом, в задумчивости складывая имя сына, который ждал его сейчас в далёкой Александрии и, конечно, скучал. Ратхама почувствовал вдруг, как неестественно напрягся старец, протянув руку к одному из камней.
– Положи это вот так, – попросил старец, и сам переложил слог. – Я видел эти знаки почти на таких же камнях у одного раба. Как и ты, он не из эллинов родом. Тебя зовут?..
– Ратхама. Но мой отец не может быть рабом, а такие камни есть только у него.
Отшельник молчал. Затем, подняв голову, посмотрел на Ратхаму.
– Никто не родится рабом. Людям одной расы всегда кажется, что представители других очень похожи между собой, но ты и вправду похож; на того раба. Он вёл себя очень достойно и, скорее всего, был куплен влиятельным господином, – старец виновато опустил голову. Больше мне нечего тебе рассказать. Это было три года назад, на Крите.
Ратхама долго вглядывался в горизонт, переводил взгляд на камни, одиноко лежащие посреди песка пустыни, на которых было сложено его имя:
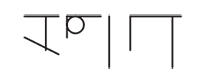
– Ра-тха-ма, – но если переставлять камни, то и имя отца его и сына, и имена нескольких предков, которых он старался помнить…
«Вот в замке чирикнул ключик, значит – это ты идёшь», но сейчас, в пять утра, ключ в двери не чирикал, а скрежетал, и было не до чужих стихов. Из-за двери слышался скандальный голос младшей дочери, матерные слова и другие, значение которых Кирилл не совсем понимал. «С дискотеки вернулась», – просыпаясь, начал воспринимать действительность Кирилл.
Маша уже шарахалась в прихожей, огрызалась на увещевания матери и просьбы не шуметь. Шедшее на смену поколение, жило по своему графику, по своим понятиям, вообще – другой жизнью. Иногда Кириллу казалось, что все фибры души дочери источали только презрение к нему – отцу. А иногда, что её душа уже развернулась к разврату: дискотекам – с бесполыми певцами (или певицами?); фильмам – с гнусавыми переводами похотливых выкриков и стонов: «О-о, йес!»; газетам – с выставленными напоказ титьками, жопами, мандами и сосущими ртами: всем тем, о чём Кирилл не только догадывался, но и знал, с юности не будучи пуританином. Но мысль о том, что части тел принадлежат чьим-то матерям, жёнам, дочерям – вызывала отвращение и брезгливость.
Кирилл слышал беспощадные упрёки, брошенные ему и Наталье, видел неистовство Маши, да глумливый плевок под ноги, за который хотелось врезать по губам. Но не только дочь, а и государство безразлично сплюнуло в его сторону, цинично обозначив свободы, к которым его поколение не было приучено. Умыло руки и бесстрастно ждало, когда их облачат в перчатки, чтобы приступить к стерилизации.
Хотелось во что-то верить или, хотя бы, оправдать тех, кто придёт вместо.
Больше сорока лет прошло, а Кирилл не забыл, что заслужил и вторую порку, которую отец отсрочил, да так и не исполнил.
Когда тебе исполняется пятнадцать лет, однажды обнаруживаешь себя в постели взрослым человеком. На комоде, – рядом с фарфоровыми статуэтками, крашеными цветами из чьих-то перьев, слонами, вереницей бредущими друг за другом, бабушкиной шкатулкой, в которой так много интересного, – теперь лежат твои первые документы. Характеристика и аттестат об окончании школы-восьмилетки, где взрослые люди оценили твои знания: русский язык – «пять»; литература – «пять»; математика – «пять». Сладостное своей безмятежной длительностью детство осталось на перепаханном босыми ногами футбольном поле, на четвёртой в левом ряду парте, где уже никогда не будет сидеть Ира Ильина, которую ты безумно любил. А однажды поцеловал в бантик, но она этого не почувствовала. Осталось на жаркой от света прожекторов сцене заводского Дома пионеров, где ты в белой, отутюженной матерью рубашке, с алым шёлковым галстуком на шее читаешь стихи Маяковского; в сотнях прочитанных книг, благодаря которым ты путешествовал, сражался, погибал и воскрешал, смеялся и плакал.
Ты проснулся, а ничего не изменилось. Та же белая печь в углу тесной комнаты, то же бряканье кастрюль на крохотной кухне за фанерной перегородкой, и ворчание бабушки, скрип половиц на перекошенном полу, тот же туалет на улице и вода в колонке за двести метров от дома.
А в конце полуразрушенной улицы уже строят красивые строгие каменные девятиэтажки, без дурацких вензелей на карнизах и размалёванных на разные вкусы палисадничков, – И Витька, с которым ты вместе с пелёнок вырос, у которого всегда не было отца, – уже получили с матерью двухкомнатную квартиру. Он стоит, наверное, сейчас на балконе, покуривает втихаря и поплёвывает свысока в сторону оставшихся неснесённых домишек. Вчера к нему приехал из Москвы двоюродный брат Владик, старше их с Витькой на три года, который уже год учится в «Бауманке», но даже это не убеждает отца Кирилла. Опять с утра нравоучения и упрёки. Заводит отца бабка, плюхнув ведро с помоями рядом с порогом.
– Опять этот стиляга приехал. Рубашку в брюки не заправляет – всё навыпуск, носки красные, на голове гребень, как у нашего петуха. Господи! Как только таких обормотов в институт принимают?!
– Ты документы подал? – отец стоит перед Кириллом в майке и пижамных брюках: с уродливым горбом на спине, маленький ростом, потому что вдруг Кирилл за лето стал выше его на полторы головы.
Он, конечно, видит, что документы всё лето валяются на комоде, а Кирилл со своим будущим ещё не определился.
– Не хочу я в математическую школу, – еле выдавливает из себя Кирилл.
– Да тебя и не примут туда, оболтуса, – вклинивается в разговор бабушка. – По физике и по химии – «тройки»!
– В техникум иди, – чтобы хоть что-то посоветовать, говорит отец.
– И сидеть потом на ста рублях, как ты всю жизнь.
– На старые деньги, между прочим – тысяча.
Бабушка и до сих пор всё переводит на старые деньги. Однажды, через год после реформы, она прочитала в газете о какой-то трагедии на стадионе в южноамериканской стране. Погибших было человек триста. Она горько вздохнула тогда: – А на «старые» это сколько же будет?
Кирилл, конечно, подаст документы в эту школу, потому что больше некуда. Не в ПТУ же идти. Он всё выжидал, куда сдаст документы Ильина, но та, не подумав о нём, пошла в медучилище. Но с тех пор, как человек в белом халате, долго и больно ощупывавший его холодными костлявыми пальцами, изрёк: «Не выживет он», – Кирилл сторонился этих людей.
Вот и теперь – вычеркнул навсегда Ильину из своей жизни. Хотя потеря казалась невосполнимой.
– Сдай документы, – всё-таки попросил отец.
Он смотрел на Кирилла так, будто опять у него, его сына, желтуха, опять надо ехать в Москву, доставать какие-то чудодейственные лекарства и снадобья.
– Сдам.
– Владик надолго приехал?
– Не знаю.
Снова в разговор встряла бабушка, которая никак не могла вынести помои на улицу.
– Давно ли таких вот стиляг, как он, к расстрелу приговорили. Штанами американскими торговали и ва-лю-той! – последнее слово она произнесла так, будто торговали Родиной.
Только начинавшийся день испортили Кириллу окончательно. Он вскочил, оделся наспех, и, уходя, постарался хлопнуть тяжёлой, обитой ватой и дермантином, дверью. Но та, висевшая основательно, не поддалась на провокацию, пригасила порыв.
А к вечеру всё и произошло. Владик угостил их с Витькой портвейном № 15. Кириллу досталось немного: стакан. Но, взбудораженный рассказами Владика о московской жизни, песнями с пластинок, которые они слушали на Витькином «проигрывателе», походом в школу, куда они с Витькой сдали наконец документы, – Кирилл захмелел быстро. И это, не испытанное им раньше состояние свободы, взрослости, возможности говорить громко, когда слушают тебя, понимают тебя, – привело к потери бдительности.
Они стояли у раскрытой двери трамвая, который мчался по длинному, прямому перегону, спорили о чём-то, и, в нетерпеливом порыве, не дождавшись пока трамвай остановится совсем, стали поодиночке выпрыгивать из вагона. Первым – Витька, вторым – Кирилл. Наверное, его подтолкнул Владик, который тоже желал успеть сделать прыжок на ходу. Но для Кирилла получилось неудачно. Он сорвался со ступенек и кубарем скатился на асфальт. Тот принял его жёстко. Лоб, нос – кровоточили, а на купленных недавно брюках, зияла дыра.
Ещё кто-то из соседей рассказал отцу о случившемся. И как Кирилл ни старался придти домой не замеченным, сделать этого не удалось. Отец говорил громко, долго и бессвязно, в том числе и о том, что Кирилл «позорит семью». Получалось, что Кирилл – человек конченый, и Кирилла это обидело. Отец уже в сердцах повернулся, пошёл длинным, узким двором к крыльцу, когда Кирилл бросил ему в спину:
– Горбун!
До сих пор Кирилл надеется, что отец не услышал этого слова. Ведь должен тогда был остановиться, вернуться и дать Кириллу по физиономии. Но нет. Запнулся только и будто съёжился совсем. И с тех пор стал быстро стареть, словно заторопился уступить дорогу Кириллу. Он умер неожиданно, лет через пять, когда Кирилл уже ощутил другую, настоящую взрослость, готовый стать на ноги. Ушёл, когда Кирилл дослуживал армию, не дав возможности даже попросить прощения.
Он – ровесник. Он умер тогда,в пятьдесят с небольшим, не дождался…как я мчался сквозь все города!..Не успел, не сказал, не признался…Кирилл смотрел сейчас во вздрагивающую спину дочери, ему хотелось подойти, положить руки на хрупкие плечи, повернуть её к себе, – но боялся её взгляда: злого, но с угадываемым внутри испугом и, как нож в сердце, мучением.
– Сколько ей надо денег? – спросил он Наташу, когда младшая дочь ушла в свою комнату и там притихла.
– Полторы тысячи, – устало ответила Наташа.
Он даже не спросил: на что?
Хотя бы до вечера станет тихо, и можно спокойно(?) работать.
– Кирилл, ты не знаешь, куда подевались три слоника?
Наташа протирала пыль в комнате – это её успокаивало – и стояла сейчас у книжного шкафа.
– Ушли.
– Я серьёзно спрашиваю.
– А я серьёзно отвечаю. Скоро остальные уйдут, – Кирилл позвал Наташу на кухню, на очередную утреннюю оперативку, – которые проходили в последнее время регулярно.
И с чего бы ни начинался разговор, он всегда возвращался к оставленному Кириллом заводу, к тому времени, когда завод, как и Кирилл, жил интересной и объёмной жизнью.
* * *После отъезда итальянского менеджера Саши, Кирилл стал ждать договора. Его больше всего, интересовала новая пресс-форма, а значит, новая продукция, которая вот-вот могла потребоваться в Казахстане. ГЮЛей Кирилл в суть переговоров не вводил, понимая, что заказ может «уплыть» в «Регионспецстрой», откуда трудно будет выцарапать какие-нибудь деньги.
Да и в Казахстане оказалось всё не так просто. Там, на заводе по производству «пепси», боролись две группировки: казахская и русская. Русские хотели, чтобы ящики под «пепси» шли из России; казахи – откуда угодно, пусть дороже, но не от русских. Если бы в эту сделку вклинился «Регионспецстрой» со своими ненормальными, рассчитанными на «дурака» ценами, то уж тем более, русскому лобби у казахов было не выиграть. Кирилл держал всё в тайне, а ГЮЛи никак не могли понять: зачем ему понадобилась новая пресс-форма? Тем более, хорошо расходились ящики под бутылки «ноль-пять». Но планируемый из Казахстана заказ, ожидался впечатляющим, поэтому Кирилла беспокоило оборудование, сбои на котором стали всё чаще и чаще. Так что запчасти из Италии заводу бы не помешали.
Наконец, в августе, всё утряслось. Простыни факсов, проектов договоров, рабочих расчётов с калькуляциями, которые Кирилл получал на домашний факс, – превратились в трёхстраничный договор. И когда Кирилл получил его по почте, с оригиналами печатей, он сообщил об этом ГЮЛям. Поставки продукции должны были начаться с марта будущего года, по восемь вагонов ежемесячно, вплоть до декабря 95-го. Но ГЮЛи, как и ожидал Кирилл, не обрадовались его инициативам. Надулись, словно маленькие ребятишки, которых не приняли играть в свою компанию. Но, скорее всего, он нарушил какие-то их стратегические планы. Или, один сделал то, что они, «надувая щёки», долго бюрократили бы втроём.
– Я же не в карман эти деньги положу, а на завод они придут! – безуспешно пытался оправдаться Кирилл, стоя, как школьник перед доской, в офисе «Регионспецстроя». – Долги по зарплате – три месяца, налоги не плачены: замучился отчитываться. У них в налоговой инспекции знаете, какой плакат висит – «Недоимщик – враг народа!» Вы продукцию берёте, а денег от вас не дождёшься. И потом: если поставки напрямую, то и с вагонами вопрослегче решать, и стаможней.
– Пустили козла в огород! – в шутку, или всерьёз высказал своё мнение Лёха. – Такие «бабки» на сторону уходят! Ты знаешь, что нас выселяют из этой церкви? Офис надо покупать, а это серьёзные затраты.
– У вас офисы на уме, а там… – Кирилл кивнул за окно, где, далеко, находился теперь его второй дом, – крыша над цехом течёт. Осень начнётся, опять станки плёнкой покрывать, – он начал горячиться, а ГЮЛи сидели невозмутимо, как судьи: в одинаковых красных клубных пиджаках, одинаковых галстуках, с одинаковым выражением глаз. – Накурили тут! На улицу выйти не можете? Церковь всё-таки, Юлек!
– Ты, Кирилл Николаевич, набожный стал?
– Как наш губернатор, – развил тему дальше Лёха. – Этому тоже срочно понадобилось приход возвернуть. Перед выборами, страха ради иудейска, начнёт теперь направо – налево подарки раздаривать. Вчера опять из приёмной звонили, батюшка должен придти, – Лёха протянул басом, – о-сме-чивать будут.
Кириллу тема не нравилась. Конечно, офис располагался «прикольно», как выразилась его младшая дочь, побывав здесь. Впрочем, как и вся маленькая площадь, где находилась церковь. Это был такой «сюр» – нарочно не придумаешь. Вот и сегодня, августовским ранним утром, Кирилл, вышел на высокий, крутой берег широкой реки и вглядывался в чрезмерно-реальную ясность, осязаемо висевшую далеко, за левым, пологим берегом. Оттуда: через неподвижные образы полей, синие леса, речные и озёрные воды, – веяло душевным покоем. За рекой, в далёких безлюдных пейзажах, серели, похожие на черепашьи панцири деревеньки, жившие размеренно, спокойно, в такт вращению тела Земли, часть которой они составляли.
Но, повернувшись к реке спиной, Кирилл видел уже другое, привычное для города, тем более центральной его части, но странное. Объекты расположились рядом, будто стремясь столкнуть друг друга с крутого обрыва. Чуть поодаль, на другой стороне площади, высилось скрупулёзно выписанное, будто на кусок неба наклеили чёрно-белую фотографию, здание гостиницы, ещё недавно бывшей ведомственным подразделением обкома партии и носившей соответствующее название «Октябрь». Перед гостиницей, словно фантом из времён интервенции и гражданской войны, навечно приземлился аэроплан: свидетель и участник конкретных военных сражений, подвигов других поколений – это были уже деды и прадеды Кирилла или кого-то другого, начинавшие лихо и в «мировом масштабе». По ночам два мощных прожектора, вмурованных в постамент, освещали машину, устремляли свои лучи, крест на крест, в небо. Но аэроплан отлетался: его рейды над позициями войск Антанты; снегопад листовок, сброшенных на чужие окопы; «мёртвые петли» и «тараны», – остались в прошлом. Сейчас, особенно по ночам, «Антанта» наступала на него сама.
Кафе с ненавистным названием располагалось совсем недалёко. Ненатуральная синева крыши-купола предполагала ауру таинственности, но ничего загадочно-непонятного за стеклянными, прозрачными стенами кафе, не существовало. И если днём оно набирало сил, отдыхало, то к ночи начиналась жизнь, если так можно было назвать царивший здесь мир галлюцинаций, подсознания, где молодость старалась пренебречь смерть или соблазнить её. Возбуждённая или наоборот, дремотная молодёжь, опустошив в «Антанте» карманы, вываливалась на площадь, допивала своё пиво и с ненавистью швыряла в фанерные бока аэроплана пустые бутылки. Или же: прячась в темноту прицерковной территории, подходила к приделу церкви, тупо и долго мочилась там, оставляя о себе память. К утру стены придела не успевали высохнуть, но там наступало какое-то оживление, звонили телефоны, журчали факсы, ребята-евреи занимали свои рабочие места в бывшем алтаре православного храма. Как и другие объекты, населявшие площадь, церковь не являлась тем, чем она казалась со стороны любому нормальному человеку, а лишь соучаствовала в создании мира, состоявшего или из обликов, чуждых волнениям, грёз, или из существ, порождённых ночными кошмарами. А Кирилл волею судеб был частью этого сюрреалистического процесса.

