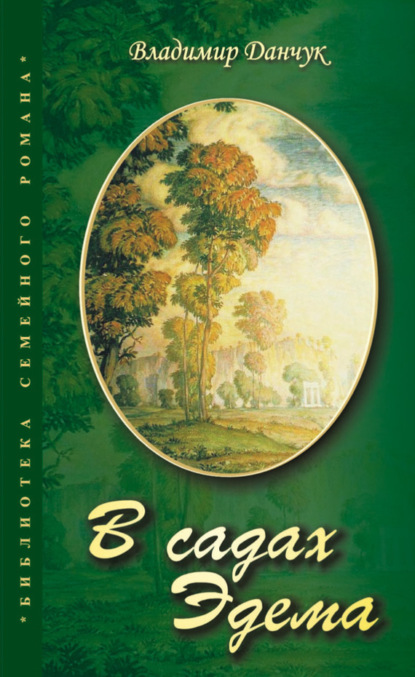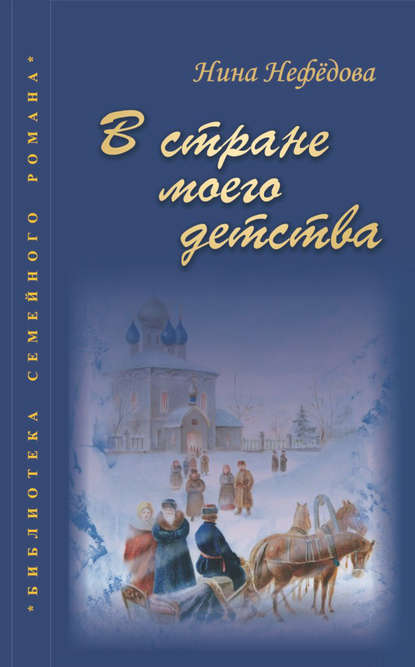Полная версия
Собрание сочинений в двух томах. Том I
– Два месяца… дотяну.
– А мне уж один, – сказал Стрежнев, – с небольшим хвостиком. Что делать-то будем?..
– На печи и поодиночке не скушно, – ответил Федор и ушел. Стрежнев постоял еще, прислушиваясь к ночи, потом тоже прошагал к себе.
Спал и не спал. Просто лежал, думал: «Эх, скорее бы осень, что ли!.. Когда все в затон собираются – никогда скучно не бывает. То ли от мороза, то ли от спешки, но все бегом бегают. У всех радость, все вернулись домой. Кончились вахты. Окаянные осенние вахты! Ледовые, долгие, в непроглядной темени… Мученье одно, а не работа: винт забивает льдом, из рубки не высунешься – лицо ветром, как бритвой, полосует, матрос не успевает шуровать печку, движок едва тянет, давление масла на манометре ниже шести, леера оборваны, привальный брус измочален, аккумуляторы едва дышат… Все износилось за навигацию! Но все иди, иди и иди…»
Не успеешь сунуться в затон – снова приказ: иди за баржой, проломили – тонет; иди за таким-то катером: заклинило винт. Пришел, – снова иди… И нет тебе ни дня и ни ночи.
И все капитаны, у кого хоть как-то еще ползает катер, сутками стягивают всю братию – весь флот – домой, в свой затон. По нескольку ночей за штурвалом без сна, небритые, без настоящей еды, без курева…
С каждым часам все гуще и медленнее несет рекой лед, все толще и крепче он. Вот-вот река схватится и тогда… тогда ремонтируй, кто где остался, мучайся вот так, как с этой «девяткой».
Начальство не уходит с берега. Ночует тут же, в караванке, на жестком деревянном диване у телефона.
Караванный не чует под собой ног. У него хлопот больше всех: надо с толком расставить на зиму весь флот, чтобы каждому было удобно ремонтироваться. Он должен знать, у кого какой будет ремонт: кого придется вытаскивать на берег, кого оставлять на всю зиму во льду.
Целой упряжкой, как собачья свора, тянут катера к затону тяжелые краны. Метр за метром пробиваются сквозь густой ледяной замес. Тянут весь день, вечер и ночь… Надрывно урчат перегретые двигатели, свистит в рангоуте ветер, обмерзают палубы, скрежещет и лопается вокруг лед. В кубрике не усидишь: кидает с борта на борт, а снаружи как будто бьет кто остервенело по железу кувалдой.
Все медленнее, неохотнее поддается отяжелевший край: копится у него под днищем ледяная подушка, вырастает, упирается, наконец, в донный грунт – и с искрами лопаются в ночи стальные троса! Распахиваются на катерах двери рубок, и летит в ночь чей-то, как с яру сорвавшийся, отчаянный крик: «Разделывай!.. Выбирай!..» И мечутся по ледяным палубам люди, летают тени, дробно стучат тяжелые сапоги, кинжально полосуют тяжелую тьму ночи прожекторы…
Но вот наконец все в сборе. Все в затоне. И валятся измученные люди, где попало: на стулья, скамейки, прямо на пол жарко натопленной караванки.
Умаялся затон. Утих. Спит.
Мертвеет в призатонской гриве последний обреченный на дубах лист. Прибрано, просторно, тихо по темным лесам вкруг затона. Задумчивы сосновые кряжи, глядят с соседних увалов на свою раздетую братию – отмахавшее жарким каленым листом чернолесье.
Изредка, будто примериваясь, робко взглянет с холодной вышины на землю месяц и снова потонет во тьме – маленький и далекий, с чужим отрешенным блеском.
И в этот краткий миг вспыхнут, будто янтарным лаком залитые, лесные озерины – так чист и гладок на них первенец лед.
Ждущая молчаливая стынь.
И только на реке, на самом ее стрежне, где еще недавно бился караван, идет неусыпная борьба тяжелеющего льда и течения.
Сопит, рушит, скребет… Но все слабее, глуше.
И вот в самый потаенный час полночи жиманет мороз едва ползущую, задремавшую было ледяную дорогу, хватит ее с обеих сторон, и все – крышка, до новой весны!
Ледостав.
Смелеют в стылой немоте ночи звезды. Дрема одолевает леса. Вялость одолевает в озерах рыбу. Колдовски блещет стеклянная полировка озерного льда, дразнит высокое стальное лезвие месяца. Кажется, все затаилось, прислушивается к молчаливому ходу ночи, ждет…
Осторожно, мягкой поступью выкрадывается на лунную мутно-зеленую полосу озера, будто на единственную просеку в ночи, в нетерпеливом любопытстве лиса. Нюхает призрачный лед, озирает всю его темную пустыню, слушает.
– И чу! – откуда-то, не понять и откуда, будто со дна озерной пучины нарастает странный непонятный гул. Он, как неуловимый и тайный дух, скользит, несется, едва касаясь гладкого льда. Все ближе, ближе… кажется, уже со всех сторон. И вдруг – Тааа-у!!! Как электрический разряд проскакивает что-то под пружинистой лисьей лапой. Вздергивается остроухая тонкая морда, но далеко уже черная молния трещины. И все равно хитрым зигзагом кидается ночная ищейка на спасительный берег…
И опять два зеленых призрачных огонька тлеют в прибрежных кустах, стерегут заодно с луной страшный своей обманчивостью ледяной первопуток.
Ледостав…
* * *А утром в отоспавшемся, отдохнувшем затоне закипает на несколько суток новая суматошно-праздничная жизнь – начинают «морозить рули».
Резок после жаркой, до кислоты прокуренной караванки ядреный, дрожью прохватывающий, морозный воздух; каменно тверд перемешанный за лето множеством сапог и ботинок сыпучий песок.
Спешно, весело идет на всех судах последняя приборка: парят, скребут, моют… Тушат котлы и печки, выбрасывают на лед остывающие угли. Спускают из уставших двигателей воду, подметают палубы, вымывают и протирают насухо трюмы – до последнего закоулочка!
Лишь после этого придирчиво принимается каждое судно строгой комиссией, сдается до новой весны затонской охране. И, как подписан акт сдачи, начинается на каждом холодеющем судне праздник. По мерзлым скрипучим трапам с бетонно твердых песков или прямо со льда лезут на свои катера старые капитаны, пропахшие маслом и гарью механики, молодые бесшабашные матросы.
Уже неуютно в настывающих кубриках и рубках, какими-то тайными щелями вытянуло из них тепло. Непривычно тихо на всем катере: нигде не капнет вода, не треснет грозой приемник. Катер будто умер.
Но команда на месте, в сборе.
Не произносится длинная речь, приберегаются до поры разговоры. Сосредоточенны, серьезны усталые лица. На любой посудине все ждут в этот момент лишь одной фразы, которую, как команду, произнесет старший судна – капитан или шкипер.
«Морозим рули!» – скажет он. И в ответ все разом вздохнут с облегчением.
Последний день навигации закончен. И с этой минуты все вроде бы уже и не на работе. А просто собрались свои, затонские люди, чтобы обсудить, подытожить навигацию, поговорить в открытую, все выяснить, успокоить на целую зиму душу.
И не важно, что нет такого закона в «Правилах плавания». Не внесен он пунктом и в «Судовой устав». Он родился сам по себе, живет незаписанным: о нем помнят и так.
Это случайно брошенное кем-то «морозим рули» звучит уже как символ. Тут, разумеется, и благодарность катеру за минувшее плаванье, и благодарность друг другу, и общая радость за добрый конец навигации.
…Все холоднее в кубрике, но все жарче подогреваемый разговор. И говорят уже не только о винтах, двигателях и ходовых знаках, а до хрипоты спорят, выясняют, много ли нынче в бору белки, чья лайка звонче одергивает ее воздушный скок, на какую блесну лучше берет в Ореховом озере полукилограммовый черноспинник-окунь…
И вот начинают переходить по льду с катера на катер. Идут и зовут друг друга в гости. С презрением к холоду распахиваются настежь иллюминаторы, нехотя лезет на мороз в их железные горловины табачный дым…
Незримо убрался ужатый морозом день. Цепенеет уставший отработавший караван. Тихо, успокоенно по лесам вокруг.
Но все скрипят, ноют в ночи промерзлые трапы, гулко отдают под сапогами железные палубы, волной вскипает призатихший было заполуночный разговор.
Ледостав…
Морозят рули.
* * *Легкий весенний сон сморил исхлопотавшуюся землю. Нежилась в теплой темноте влажная хвоя боров. Мелко дрожали в журчащем сонном течении на разливах кусты, и отдыхали расслабленно в прохладе ночи усталые, высушенные годами суставы старушки-брандвахты.
Трое на ней – Федор, жена его и Семен – давно уже спали.
Поулеглось от воспоминаний на душе и у Стрежнева, сонно затуманилось его разгоряченное воображение. Он вздохнул, повернулся на другой бок и повыше поддернул колючее казенное одеяло.
Спи, капитан, – все твое, все с тобой.
4
Семен вытер ветошью руки, оглядел двигатель, спросил Стрежнева:
– Пробуем, что ли?
– Сейчас… – Стрежнев стал проверять краны.
– Да все открыто… Нажимаю.
– Сейчас… подожди, – сказал Стрежнев, – Жарко что-то, пойти наверх дохнуть, что ли… Закури-и…
И он полез на палубу. Вылез за ним и Семен. Оба присели на фонарь, глядели на реку.
– Тихо, приморилось, – сказал Стрежнев. Он нарочно оттягивал время, думал: «А вдруг откажет… и поведут с позором в затон на буксире».
И для Семена запуск был тоже как экзамен. Однако оба старались скрыть свое волнение. Семен украдкой глянул на Стрежнева, но тот поймал его взгляд, понял по-своему.
– Кхы, кхы… пойдем, – сказал Стрежнев и кивнул на люк.
Спустились. Семен встал наготове у щитка приборов, сосредоточился, как верующий перед молитвой. Стрежнев молча качал масло, и стрелка манометра, подрагивая, помаленьку двигалась вверх. Вот она остановилась возле цифры 2, Стрежнев с натугой качнул еще раз и сделал шаг назад.
– Ну?.. – отрешенно сказал Семену. Семен вдавил кнопку стартера. Тяжело, медленно провернулось внутри двигателя.
Оба ждали: сейчас еще раз вздохнет, проворотит, стрельнет чихом и пойдет…
– Чах! чи-чша-ша-а-а… – виновато выдохнул дизель и стал.
Переглянулись, Семен опустил кнопку.
– Застыл, – сказал он. – Покачай еще масло.
Стрежнев покачал. Семен снова нажал кнопку. И снова три тяжелых оборота, и опять тяжелая тишина.
– Не возьмет, – заключил Семен.
Пробовали все подряд. Старались как можно больше облегчить двигатель: открывали клапаны, держали у решетки всасывающего коллектора факел – подогревали воздух… Но двигатель тяжело, будто хромой, едва волочился за стартером, наматывал его слабые силенки.
И опять проверяли все сначала: форсунки, насосы, угол опережения подачи топлива, фильтры, краны, солярку…
Все было исправно, но двигатель не подчинялся.
– И чего ему надо, уперся, как бык… – вздохнул Семен.
Оставалось непроверенным только газораспределение. И оба теперь думали об этом, но оба молчали, потому что не знали оба, как его регулировать.
А признаться было, стыдно. Стрежневу – потому, что не научился за всю жизнь делать этого, хотя капитану вроде и не обязательно. Семену же – надо было бы, да тоже не знал. Нет, знать-то он знал, но не надеялся, что справится один: не помнил всего толком, давно не приходилось. В двигателе это самая сложная, тонкая регулировка.
Наверху, где-то совсем рядом, возле катера, надсадно взревывал трактор. Вышли поглядеть. Трактор по другую сторону заливины устанавливал на гриве тесовую будочку на санях. На боках ее висели спасательные круги.
– Дожили, – сказал Стрежнев.
– Чего это? – спросил Семен, разглядывая приехавший домик.
– Будка для перевозчика, завтра на лодке возить будут… время-то – май. Весь мир через реку повалит – стыда не оберешься, стоим, как памятник, накрасились.
Они снова спустились в машинное, теперь пробовали по-отчаянному, уже не жалели аккумуляторов. Пытались и с факелом, и без факела, с клапанами и без клапанов… Но так ничего и не добились, только заметно «посадили» аккумуляторы да измучились сами.
Больше не ругались, не строили никаких догадок. Молча захлопнули машинное отделение, а потом долго сидели на скамейке перед рубкой, откинувшись на леера.
Снова был вечер. Тихий, мглистый. Темнело.
Трактор ушел. Резал фырканьем тишину далеко у поселка. Река посапывала у берега. Повыше по течению, за будкой, изредка всплескивали песчаные обвалы. Слышны были за рекой голоса ребятишек.
А они все сидели, тупо глядели перед собой на темную воду.
– Побрели? – Семен кивнул в сторону поселка.
Стрежнев тяжело встал.
– Пойдем, – сказал он. – Утро вечера мудренее.
Но мудрого в голову ничего не шло. Как Стрежнев ни думал, а все получалось, что надо завтра звать линейного и говорить ему о двигателе. Не хотелось этого Стрежневу, не хотелось кланяться, признаться в своем бессилии теперь, уж перед самым концом. И еще – он втайне, надеялся, утром, может, что-то и прояснится, всяко бывает.
Они сошли по трапу на берег, помыли, потерли со скрипом мокрым песком руки. Стрежнев по привычке набрал в ладошку воды, хотел напиться, но вспомнил, что весна, вода мутная, и выпустил ее обратно. Он с трудом разогнулся и побрел поперек грив к огням брандвахты.
Семен отстал, но не окликал его, шел следом. Видел он в сумерках, что Стрежнев пошатывается, как после выпивки, а запястья его белеют: он так и не рассучил рукавов.
Опять взлетали с грив сонные чибисы, опять жалобились в темноте, но ни Семен, ни Стрежнев их не слушали, не жалели.
5
Утром в каюту зашел Федор.
– Поплыл я, сегодня уведут, – сказал он, не изменившись в лице.
«Ну, дождался, – с радостью за Федора подумал Стрежнев, – хоть поотойдет теперь, а то совсем потускнел».
– Так… отзимовал, значит, – сказал Федор, присаживаясь на стул. – Ждал, ждал, а теперь и плыть что-то неохота. Да и чего я там оставил? Жена здесь… весь с собой. Ну что ж, может, отвальную возьмем? – спросил с безразличием.
– Не время, – покачал головой Стрежнев, – с движком зашились совсем. Да и неохота. А ты запасись, дорога длинная… Тебе теперь можно, – не нам.
Федор еще больше насупился, не попрощавшись, вышел. Потом вернулся, сказал в открытую дверь:
– Мешки берите, все забирайте… Больше не увидимся.
– Да еще не уведут, простоишь до завтра… Вечером и посидим. Сегодня, может, заведем, – стараясь загладить вину, сказал Стрежнев.
Федор ничего не ответил, но долго глядел на обоих, медленно закрывая дверь.
Аккумуляторы за ночь поотдохнули, схватили хорошо, и даже один раз вырвался из-под клапанов синий дымок.
– Может, раздышится, – в робкой надежде сказал Семен.
Однако с каждым пуском двигатель вставал все скорее, с шипением выдыхал воздух.
– Бросай, Семка, посадим аккумуляторы, – сказал Стрежнев. – Иди за линейным.
Семен пошел берегом. Олег на палубе наливной баржи что-то обсуждал со шкипером у раскрытого люка.
– Ну как? – увидев Семена, встрепенулся Олег. – Директор приказал сегодня же выпустить катер. Завтра праздник, говорит, на лодке людей перетопим.
– Не берет, – угнетенно ответил Семен.
– Не знаю, что вы там намудрили… Пошли.
Стрежнев так и сидел в машинном. Устроившись на перевернутом ведре, он разглядывал какую-то замасленную книжку.
– Что, Николай Николаич? – спросил Олег, спускаясь.
– Газораспределение надо регулировать… Гляжу вот руководство, подзабыл, – не поднимая головы, спокойно ответил Стрежнев.
– Ну, что ж, давайте разбираться, – Олег вздохнул. – Я тоже на память не помню. Ну-ка, покажи…
И он забрал у Стрежнева книжку.
Читали, крутили ломом маховик, подкручивали клапаны. Снова вращали маховик, спорили и опять брались за книжку…
А на берегу, у будочки, начиналось уже предпраздничное оживление. Даже в трюме им было слышно, как там смеются, играет гармонь, задорно фырчит моторная лодка, спеша переправить в обе стороны гостей.
Иногда над головами у них раздавались осторожные шаги по палубе, и вскоре в проеме люка появлялась любопытная физиономия, с извиняющейся улыбкой спрашивала:
– Поехали?..
Все трое поворачивались на голос, и, хотя никто не произносил ни слова, физиономия тускнела и тут же исчезала: так выразительны были их взгляды.
Во второй половине дня, все измазавшись, с газораспределением наконец покончили.
Двигатель зашевелился уже с другим, более мягким утробным звуком. Но тут же заноровился, отвечал совсем коротко, будто огрызался на своих хозяев за их неумение и надоедливость.
– Аккумуляторы… – сказал Олег, не глядя на Семена и Стрежнева. – Новые батареи посадили, дорвались без толку… – и полез наверх. Молча, с виноватым видом поднялись и Семен со Стрежневым.
Какая-то тетка подошла к трапу и, взмахнув рукой, решительно сказала Стрежневу:
– Дяденька, вези! Глянь-ко, нас сколь… Скоро ли на этой лодчонке?
Толпа, прислушиваясь, смолкла.
– Не готово, – ответил Стрежнев.
– Ну, так что, плаваешь ведь, вези, – настаивала женщина. Стрежнев горько улыбнулся. В толпе кто-то сказал:
– Искра в воду ушла.
Несколько человек засмеялись, а другой голос добавил:
– Всегда у них так. Всю зиму на ремонте, а как лето – опять ремонтировать. Дурака валяют…
Стрежнев передернул плечами и перешел на другой борт. Семен зачем-то побрел в рубку, а Олег опустился в машинное, снова пытался пустить двигатель.
Стрежнев с Семеном хоть и не видели друг друга, а в позах и во взглядах было у обоих такое, будто они напрягались вместе с двигателем и хотели помочь ему всей душой и телом.
После третьего оборота двигатель устало испустил дух, будто прошептал: «От-ступиии-тееессь…»
– Все, – тихо сказал в трюме Олег, но Семен и Стрежнев его услышали. Он вылез наверх. – Завтра от директора головомойка будет. Нужны дополнительные аккумуляторы… Может, на электростанции раздобудем?
Механик электростанции аккумуляторов не давал. Пришлось звонить главному инженеру на дом, чтобы он разрешил. Потом еще раз пришлось звонить ему же, чтобы в гараже выделили машину везти эти аккумуляторы.
Нагрузились и выехали уже в сумерках. На размокшей дороге заносило, встряхивало. Возле склада горючих материалов в черной страшной луже сели – ни вперед, ни назад! С машины сошел и выбрел на берег только Олег в сапогах с длинными голенищами. Потом он вернулся, на себе перенес Семена. Снова пошли в гараж, просили трактор, не скоро вызвали из дому тракториста…
Добрались до катера совсем ночью. Немой, виноватый, он все так же дремал у ночной гривы. Берег был совсем пуст, в будке не светилось и огонька.
Пока сгружали, пока по трапу затаскивали аккумуляторы на палубу, а потом спускали их в трюм, Стрежнев все время ругался. Он проклинал не только эту весну и начальника, а всю свою жизнь… Отводил он душу и после, когда ночным, чавкающим под сапогами лугом брели они снова с Семеном на брандвахту, которая уж обоим осточертела.
Семен же ничего не говорил, только время от времени ожесточенно сплевывал на сторону. И Стрежнев даже сквозь зло удивлялся его терпению, не мог понять, что за каменная натура была у Семена.
А Семен проклинал себя, что не уехал в Тюмень вместе со всеми, сразу после смерти Панкратыча.
Когда в темноте добрались до старицы, брандвахты не было на месте. Была пустая вода и вокруг ночь. Даже сесть было не на что.
– Так ведь Федор и говорил утром-то… Как это забыли? – удивлялся Стрежнев. – Да ну, как не забыть – весь день в таком аду.
– На катер надо, – сказал Семен.
– Замерзнешь, не топлено… И дров, дураки, не заготовили.
– Ну, пошли в поселок, в общежитие, к линейному.
– Спят все. Булгачить-то… Да, наверно, и места нет. Кто нам припас? Пойдем вон в контору хоть, на столах переночуем, немного осталось уж, – сказал Стрежнев.
– Все равно, на чем, – согласился Семен.
Пожилая сторожиха открыла им, и они поднялись на второй этаж. В конце коридора возле окна стоял стол.
– Вон ложись на стол-то, а я на полу, – сказал Семен и лег возле стены. Потом одумался, встал и перешел поближе к печке. Положил под шапку два полена и затих.
Стрежнев развернул возле окна стол, снял с себя фуфайку, сунул ее в изголовье на подоконник и тоже прилег.
Уснули быстро. И, когда поднялась к ним снизу сторожиха, они уже ничего не слышали. Она поглядела, потом сходила вниз и осторожно подсунула под голову Семену какую-то одежонку.
Часа два от силы спал Стрежнев. Среди ночи он неожиданно очнулся не то от увиденного во сне, не то от предчувствия – казалось, все гибнет, вся жизнь, и надо вставать, что-то делать. Скорее, а то…
Нет, ничего страшного не было. Было просто наваждение – все та же неотступная дума, что последняя навигация кончается.
«Но не жизнь же… – подумал с радостью Стрежнев. И удивился, что не смог этого осознать и различить до сих пор. – Просто вышли годы, отплавал сколько положено, и все! Закон для всех. А уж сколько буду жить, это мое дело. Тут мы еще подумаем… – рассуждал он, сидя на столе и закуривая. – Что ж, на берег так на берег. Не я первый. Только никогда не думал, что так тяжело… Или время такое? А и на самом деле, что делать-то буду? Куриц гонять по огороду? За грибами, за черникой ходить с Анной?.. Та-ак…»
И он представил, как будут они рано утром приходить вместе с Федором к караванке на берег, где собираются перед выходом в рейс все капитаны и шкиперы. Курят на скамейке, спросонья зевают, глядят на притихший затон, на свои катера, на которых матросы уж растопили печки. Все ждут последних указаний начальства, звонков из диспетчерской…
Потом, уяснив все, капитаны один за другим, не спеша, вразвалку сойдут, разъезжаясь ногами по песку, к своим катерам, пройдутся для порядка по палубе, пнут что-нибудь походя, чтобы указать матросу: «Убери!» И все спустятся к двигателям в машинные отделения.
Бодро схватятся, заурчат движки, все бойчее, забористее; зафыркает возле бортов вода от выхлопов… И один по одному отойдут катера от берега, развернутся и, разгоняясь, и все круче наводя волну, убегут, скроются за поворотом, и останется над водой в затоне только тающий легкий дым да пустая ненужная тишина.
«Ну, две жизни тоже не проживешь», – как бы оправдываясь, подумал Стрежнев и вздохнул.
Протопленные с вечера печи все больше нагревали контору.
Семен, как лег, не ворохнулся, спал глубоко дыша. А Стрежнев тихо ходил по коридору, думал. Становилось уже жарко, он расстегнул китель, а потом подошел и распахнул окно.
Совсем рядом возле окна думали старые понурые сосны, мирно переливался ручей, стекая по их корням с яра. Тепло было.
Стрежнев слушал ночь и старался представить, какая она, весна, на берегу вся целиком. Он думал, взвешивал все весны, какие помнил, и выходило, что они очень похожи. Почти всегда, как только проурчат в верховья катера, безудержно прибывает в реке вода. А потом за две недели отгорланят по низинам зажоры, отворкуют в мягкие теплые ночи обессилевшие ручьи, подсохнут по боровинам рыжие вилочки палого игольника. И за какую-нибудь ночь разом брызнет из голой, еще холодной земли первая зелень. Любопытные зеленые клювики проткнут прошлогоднее мочальное сплетение трав. Калужница бодро расправит в холодной воде лугового залива широкий, в ладонь, лист и зацветет под водой желтым наивным цветам…
А там, дня через три, по тонким обвислым, как шнурки, ветвям, глядишь, кинет зеленые копейки береза, и где-то в глубине бора закукует первая кукушка.
И так каждую весну. Сколько их прошло, этих весен, не помнил Стрежнев. Да и не считал он их, некогда было: все бегом, все второпях, поесть – и то на ходу. Не скажи бы нынче осенью в кадрах о пенсии, так и не знал бы, запутался, вспоминая…
За окном уже побелело, и было так тихо, что казалось Стрежневу, будто слышит он, как осторожно тянут из земли соки старые сосны и тихо потрескивают, расправляясь, их оживающие верхушки.
Он снова прилег на стол. И только забылся, как голую притихшую землю ошпарило первым теплым ливнем – тайным, без грома, но щедро и благодатно.
Отдавай чалку!
Не долго пришлось им слать. Но проснулись они бодрыми, будто тайный дождь смыл у обоих с души последнюю тяжесть.
В окно тянуло свежей умытой хвоей, прелью оживающей земли.
…Старая проторенная тропинка к катеру. Знаком каждый кустик, каждая заливинка.
Вот и последний раз шли они этой дорожкой, последний раз вспугивали тонкоголосых куликов.
Каждый думал о своем, а по сути дела об одном и том же: что уже никогда в жизни больше не приведется им ремонтировать здесь не только этот катер, а и никакой другой. И берега, и катера, и люди – все будет другое.
Стрежнев походя гладил мокрые кусты дубняка, как бы говоря: «Расти, расти…» Вроде искал себе новых береговых друзей…
Оба думали и даже были уверены, что сегодня наконец дизель заведут и ходить больше сюда будет незачем – надо обживать катер.
Олег в это утро опередил их – сидел на палубе, ждал.
Быстренько подключили привезенные аккумуляторы, Олег сам покачал масло и коротко, не глядя ни на кого, сказал:
– Пробую.
Двигатель дернулся, недовольно фыркнул, но могучая сила двойных батарей поборола его норов, наддала так, что от цилиндров просочился дым. Один цилиндр хлопнул, другой и… раскатилось!