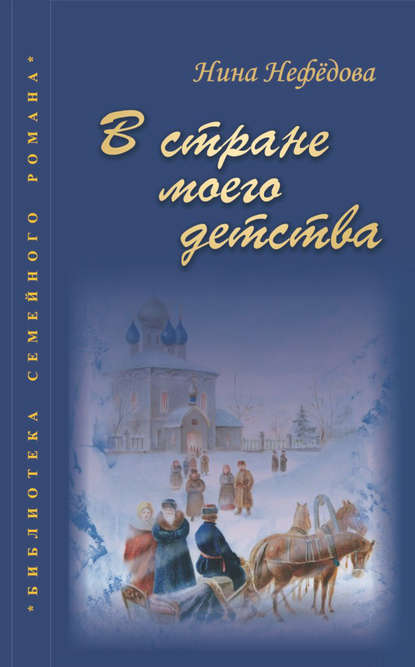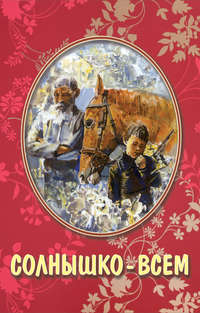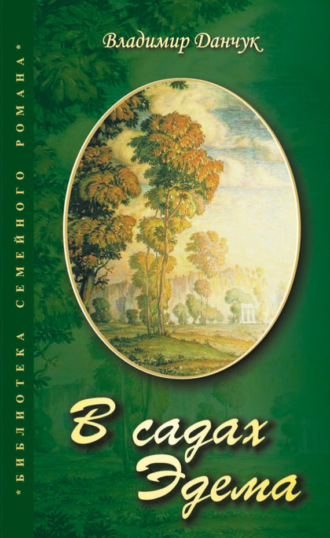
Полная версия
В садах Эдема
Теперь ищу работу и жильё. Поэтому мы решили, что мне надо идти в дворники. Обошёл уже десяток управлений (любопытным показалось, что на окраинах с жильём сложнее, чем в центре, но потом сообразил, что на окраинах нет развалюх).
Несу Лизаньку на руках. Она долго шуршит конфетой.
– Угости конфеткой, Лизанька.
– Нек… – невнимательно отвечает она.
– Ах, нехорошо! Угости! Пожалуйста!
– Нек, не угастю.
– Лиза, – говорю я с укоризною, – я же тебя несу! Вот поставлю на землю и пойдёшь ножками.
– Неси, – щебечет она, хмуря лобик. – И низзя как гаваить. Нага безкаысно носить.
01.05.84Мы на кухне – пьём чай. Лизанька в бабушкиной комнате. Они беседуют:
– А кага я ум’ю, я пойгу ко Госьпагу…
Бабушка молчит. Тогда Лизанька повторяет эту фразу раза три и с каждым разом всё громче, явно вызывая на ответ. Слышится приглушённый и быстрый ответ:
– В землю закопают и всё.
– Нек, кы непавийно гаваишь, – радостно возражает Лизанька, чувствуя за собой авторитет наших бесед. – Кы кохэ, кага ум’ёшь, пойдёх ко Госьпагу.
– Нет никакого Бога, – слышится ещё быстрее и тише.
Лизанька, наоборот, повышает голос и почти кричит:
– Не гаваи так! Гасьпог хывёт на небе!
Бабушка совсем переходит на шёпот:
– Ты что кричишь? Хочешь, чтобы все слышали?
Мы переглядываемся: не даёт спуску маленькая девочка!..
Не хотела спать, и вот – стоит в углу:
– Маминька… п’асти миня… я бойхэ не бугу…
– Как не будешь?
– Халить не бугу… бугу гаськи зак’ывать…
– И ляжешь в кроватку, как маминька велит? – Нек!
– То есть как «нет»?
– Кы дойхна (должна) миня на дивантик полохыть…
– Почему «должна»?
– Пакамухка кы миня любих!
02.05.84Похолодало, но день ярко солнечный. Сильный ветер, поэтому мы сидим дома. Я занялся перепечаткой архиеп. Луки – «Дух, душа и тело». Блестящая работа, давно уж батюшке обещал перепечатать. Миша вчера улетел в Москву; рассказывал, что во время поста они с Лилею вообще ничего не ели по средам и пятницам, а Лиля прихватывала ещё и четверг. Я немедленно позавидовал и тоже решил попробовать.
Лизаньку искусали комары – по ночам, днём их не видно. Всё личико в красных точечках. Нас почти не кусают – невкусные. Утром Лиза опять говорила с Олечкою о бабушке: бабушка, мол, говорит, что Бога нет, а так говорить нехорошо, так говорить нельзя; просто Он за синим небушком и поэтому Его не видно.
А недели две назад, когда мы оставили Лизаньку бабушке на целое утро, Лиза потом нам сообщила, что был такой дядя Ленин, который за всех боролся… Я часто борюсь с Лизанькой, балуясь на диване, и поэтому она, серьёзно рассказывая, что вот, мол, был такой дядя, едва дошла до того, что он «боролся», тут же закатилась смехом, замахала ручками и сбилась с урока, залепетала, давясь от смеха:
– Баовся!.. Как мы с отесинькой!.. Тохэ баавався!.. Вок дядя – бававник!
04.05.84Утром мы с Лизанькою вдвоём ходили гулять на «речку Самарку»: маминька велела скормить рыбкам остатки пасхальных пиров (батюшка посоветовал). Потом мы бросали камешки в воду… Лиза разыгралась, не хотела уходить и, когда я всё же подхватил её на руки, она задёргалась, закричала:
– У, п’ахой какой!.. отесська!..
Обычно в таких случаях я снимал с неё штанишки, слегка сёк и ставил в угол, но тут – в солнечный день, на берегу реки, мне так не хотелось «строгих мер»!.. К тому же я прекрасно понимал её – такая живописная река, такой зелёный берег… Но и спускать такое «оскорбление величества» было нельзя, и я, перевернув Лизаньку на живот, глухо постучал ладонью по толстой попке в комбинезоне. Дошло – через минуту мы уже целовались, мирясь.
– Смотри, – сказал я, – какой крутой склон! Как бы нам на него взобраться? Сумеем?
– Сумеим! – задорно отвечала Лизанька и задёргала ножками, желая слезть с рук и показать мне, как «сумеем». Из любопытства я поставил её на землю, и на самый верх она взобралась сама (я чуть-чуть поддерживал её за плечики), поминутно останавливаясь и оглядываясь:
– Отесинька!.. Ну, стой!.. Ну, стой!.. Посмоки (посмотри) – о! как ухэ мы высяко заб’аись! (забрались)
Слушаем Моцарта; я печатаю на машинке (арх. Луку), Лиза – напротив, за моим столом. В паузу, поднимая головку от рисунка, говорит, прислушиваясь:
– Какой мег’енный (медленный) звук…
Мы с Лизой устраиваемся на диване – готовимся засыпать. Заботливая маминька приносит Лизаньке яблочко перед сном и стоит над нами, улыбаясь. Я рычу медведем и тянусь отнять яблоко, собираясь начать игру «в борьбу» за него. Но Лизанька неожиданно протягивает ручку с яблоком жадному медведю:
– На!
– «Возьми»! – мимоходом поправляю я её нормальным голосом.
– Вазьми! – соглашается она, кивая.
Но я, рыча, отползаю назад и мотаю головой: яблоко должна съесть Лизанька.
– Эко мохно есть, – убеждающее говорит она, всё протягивая яблоко, – мохно! Эко не хывое (не живое), эко не ахатка (лошадка). Кухай, мегвег!
– Щедрая девочка! – смеётся Оля. – Откуси, медведь! Уж так и быть.
И рассказала мне, как попросила Лизаньку «нарисовать отесиньку»:
– С уговойствием, – ответила та и, очевидно, поймав звуковую ассоциацию, неожиданно продолжила. – Уговойственный магазин!..
Не могла никак запомнить, кто к нам приехал: «Да дядя Миша же!» – а через минут пять: «А ко эко?» – «Ну, – с досадою на несообразительность маленькой девочки говорю я, – как ты думаешь: кто это?» – помедлив, робко: «Дядя Саха?»
Что ты будешь делать.
Второй час пополуночи; сидим с Олечкою за моим письменным столом, под настольною лампою – пьём сок и разговариваем о церковном пении (не нравится – оперное). Вдруг в кроватке завозилась Лизанька, заговорила непонятно:
– П’имим… п’ямим…
Я оглядываюсь: «Что такое?» Вижу – встаёт. Встревоженные, подбежали: что, Лизанька?
С полузакрытыми глазками, стоя на коленках, она прихлопывает одной ладошкой о другую, как «куличики печёт», и приговаривает:
– А во как!.. Во как!.. Во как я умею!..
– Правильно, – говорю я осторожно, – молодец, девочка!.. А теперь – ложись…
– А на подушечку? – добавляет встревоженная Оля. – На подушечку?
Лизанька, так и не открыв глаз, послушно ложится. Спит… Мы переглядываемся: что это было? Не узнать.
Вспоминаю, как она сегодня днём спала: уснула вместе с Олечкою, прижавшись к ней спинкой – как в сказке, положив ладошку под щёчку.
Ба! забыл совсем: была сегодня у нас Татьяна Ивановна, рассказала про слепенькую бабушку по соседству – слёзно, мол, молит: «Возьмите к себе!.. А ваша мама – молодая ещё – пусть у меня поживёт». Оля прямо загорелась: в доме будет не подозрительная блюстительница утопии, а простая жалобная бабушка! Трепеща, поговорила с матерью, и та – вот чудо! – согласилась.
05.05.84Потеплело, и опять нагрянули комары. Лизаньку приходится сторожить.
Уже несколько дней подряд только я укладываю Лизу для дневного сна – с Олею она шалит и не слушается… Кстати, вот серьёзная метаморфоза: ещё прошлым летом я хватал Олю за руки, удерживал, чтобы она не наказывала маленькую девочку (ну, два года только! крошка! – так было жаль), и Лиза совершенно меня не почитала, и когда я отважился в первый раз поставить её в угол, она плаксиво кричала мне, мол, пусть её маминька в угол ставит, а не отесинька, «отесиньке низя наказывать Изю». Оля же была сурова и непреклонна; до того сурова, что у неё вырывались не совсем вежливые слова, до того неумолима, что я часто, почти всегда, хмурился, слушая её выговоры Лизаньке, и журил потом, выговаривал за тон: «Что за тон, Олечка?» – и ставил требование, чтобы голос был строг, оставаясь ласковым.
– Ладно, – покорно соглашалась Олечка. – Покажи, как это, и я буду…
Я пожимал плечами:
– Да я просто не успеваю к вашим разделкам!
Увы, всё переменилось… Я пью чай на кухне – гляжу в книгу, но прислушиваюсь. Из комнаты доносится утробный смех Лизаньки, увещевающий голос Олечки… Догадываюсь, что без меня дело не обойдётся. Так оно и есть: после шума, возни, смеха и визга Олечка выходит на кухню и говорит смущённо:
– Иди, отесинька… Маленькая девочка не слушается, балуется.
Я отставляю недопитую чашку, с шумом отодвигаю табурет и, стараясь ступать слышно и весомо, иду в комнату…
Навстречу с дивана мне мечется испуганное и растерянное личико Лизаньки. Спеша, стараясь опередить мой обвинительный тон, предупредить непоправимое, она лепечет:
– А я… а я… сяма ухэ… сяма ухэ… звава отесиньку… Я кибя ухэ звава…
Такая жалость (мне неприятно, что она так меня боится). Не моргнув глазом, я самым мягким голосом подхватываю предложенный вариант, будто и пришёл, потому что она меня позвала, и ничего грозного нет в моём приходе.
– Ах, так ты меня уже звала?
– Звава…
– Ну, вот и умница! Вот и молодец! Сама позвала отесиньку, чтобы уснуть. Ведь так, Лизанька?
– Га… – кивает она.
– Идём-ка, – беру её на руки и переношу в кроватку. – Вот так, моя хорошая. Теперь давай накроемся… вот… закрывай глазки… Всё, теперь спим!
Я вполголоса пою «Господи, помилуй» и «Богородицу», краем глаза слежу за Лизой. Она чуть-чуть ворочается с закрытыми глазками, ковыряет в носике. Я ей не мешаю – лишь бы уснула. И она засыпает через 8 минут.
…И вот опять пью чай, и опять слышу крики и возню в комнате, слышу голос Олечки:
– Ах, так! Что ж, пойду – скажу отесиньке…
И отчаянный вопль Лизы:
– Нек! не хади!.. Не гаваи ему ничиво!
– А будешь послушной девочкой?
Оля стала такой мягкой и уступчивой – то ли роды приближаются, то ли я всё время дома и отучил её от «руководства»?
10.05.84Два дня я снова работал в Покровском соборе: с Андреем Захаровичем, самым, пожалуй, симпатичным стариканом из церковных, мы ремонтируем крышу храма. Работа нудная и тяжёлая, под палящим солнцем на железной крыше. Зато высоко, и полгорода видно. Но сегодня он дежурит на воротах, и у меня – свободный день (в библиотеке давно не бывал).
С устройством пока ничего не выходит, всё время попадаются какие-то варианты, отнимают дни и ничем не оканчиваются. Вот теперь и Андрей Захарыч обещает устроить меня дворником на Самарской улице, рядом с храмом. Жду результатов, чиню крышу, деньги пока есть.
Неделю назад Машин Юра уехал к своим родителям в Среднюю Азию, вконец поругавшись с тёщей. Маша печальна, но матери оставлять не хочет – старенькая…
От Танечки посылка пришла и письмо грустное: «Я целый день вас вспоминаю, и всё мне плакать хочется, что не скоро ещё увидимся». Сообщает о Мише, о его впечатлениях от встречи с нами: «Миша говорит, что Олечка – тишина и чистота, а Володя – резкий в суждениях и раздражён. Вот уж не поверю про Володю, а про Олечку – точно. Про Лизаньку сказал, что она разбаловалась, а про маму вашу – покорная».
Вот что значит глядеть извне! Впрочем, Мишу можно понять – он привёз целую стопку рукописей: две повести, 6 рассказов и две статьи (400 стр.), и мы всё это тщательно обсудили. Мне понравилось немногое, оригинальными показались три рассказа: «Пролог» – от лица двухлетнего младенца, «Охота» – от «лица» оленя, и «Василий» – от «морды» кота. Олечка с большим одобрением приняла его работу о Великом инквизиторе (что и говорить, неплохо! но это конспект Розанова).
Наташа купила своему Гене машину «Москвич». Мы и не подозревали, что у кого-то из наших знакомых могут быть такие деньги. Чудо какое-то.
– Лизанька, вынь пальчики изо рта! Разве ты медведь?
– Нек… А катяка (котята) вапки не сосут?
(Чаще всего она представляется Котёнком)
– Нет, конечно.
Вынимает пальчик, глядит на него, вздыхает. Поднимает глазки и говорит с убеждением в голосе:
– Нек! Койко (только) мегвеги!.. Вок как (вот так) засюнут вапку в ’ок (в рот) и посясываюк… (посасывают)
Вечером – прыгает на диване, не хочет надевать пижамку.
– Р-р-р, – говорю я, – где пижамка? дай-ка я надену!
В первом испуге Лизанька кидается к штанишкам, хватает их, прижимает к груди:
– Уходи, мегвег (медведь), – говорит сердито (сердится, что испугалась).
Но тут же в глазах вспыхивает любопытство:
– Не бойся, мегвег… вок, иди сюга… тибе хэ пижамка не погойдёт…
– Подойдёт, – рычу я.
Она примерочно вытягивает ручки и, склонив головку, как истый закройщик, примеряет пижамку ко мне:
– А гавай… (давай)… Гавай к нохкам п’иохым (к ножкам приложим)… вихъ, не пагхогик… (видишь, не подходит)
Я печатаю; Лиза стоит в углу, маминька над нею – скорбным памятником справедливости. Размазывая слёзы по щекам, маленькая девочка жалуется:
– Кага ты меня наказываех, ты совсем не маминька! Не маминька, а звеухка!
14.05.84Сижу за письменным столом, Лиза – напротив, увлечённо щёлкает ножницами. Я взглядываю:
– Лиза! Что ты делаешь? Это же хороший конвертик!
Она пугается – ножницы вздрагивают в ручках. Губки кривятся:
– Я хэ… у вас же много есь… я же…
Я уже досадую на свой невольный крик (подумаешь, конвертик!):
– Ну-ну, ничего… Ничего страшного, Лизанька. Но ты уж в следующий раз спроси прежде, можно ли. Хорошо?
Глаза её полны слёз, но она пока удерживается и кивает. И только когда я возвращаюсь к своим занятиям, слышу в кухне плачущий голосок:
– Маминька! Эко не бега (это не беда), шко я конвентик поезаа (порезала)?
Такая жалость! Бросаю всё, иду утешать. Оля меня встречает укоризною:
– Лиза жалуется, что с нею грубо разговариваешь.
– Ну, не грубо, – смущаюсь я, – резковато только… Нечаянно.
Этот месяц у меня неожиданно оказался излишне «детективным». Как-то я заехал в библиотеку за очередным томиком Шиллера, но застрял у полки с Kriminalroman’ами и набрал с собою – читать в автобусах и трамваях, на прогулках с Лизою. Что хорошо в таком запойном чтении – я в конце концов совершенно забываю, на каком языке читаю… И всё же нашлись две по-настоящему интересные книги: некоего Хорнунга, зятя Конан Дойля, по следам тестя писавшего в приключенческом жанре, только на материале своих путешествий по Австралии, и «Невероятные преступления» Питаваля (этот парижский юрист XVII века своими очерками породил двухсотлетнюю серию публикаций о процессах по чудовищным преступлениям; на Западе, оказывается, это известное имя, даже странно, что в нашей словесности о нём нет никаких упоминаний! Хотя…)
Ждут своей очереди ещё три детектива, среди них довольно изобретательные французы Буало и Нарсежак, но далее идут уже совсем почтенные авторы: Гессе, Джозеф Конрад, Натаниель Готорн и Фолкнер. На русском подобных книг мне просто не найти. Сейчас читаю «Ivanhoe» W.Scott’а.
И всё же русский список более почтенен: письма Хомякова, «Дневник писателя», «Лавка древностей», статьи Флоренского и монография о Меньшикове (не о публицисте, а о сподвижнике Петра).
Оля написала Танечке: «…В последнее время мне пришлось познакомиться с некоторыми бабушками, и невозможно было без слёз смотреть на чистоту и бескорыстие их; всё это идёт из той неведомой для нас и прекрасной жизни, и всё это уходит – и с чем остаёмся мы?
…Володя на постоянную работу ещё не устроился, но зато временно работает в храме. Уходит утром на весь день; устаёт, конечно, да и дни у нас стоят жаркие, до +30° в тени. Но ни одной его работой я не была так довольна, как этой. Общается он исключительно со стариками – такими благообразными, с длинными бородами. С завтрашнего дня будет искать постоянную работу; вероятнее всего, дворником.
Лиза тоже растёт и худеет. Вчера на прогулке я говорю Володе: «Что-то мне в деревню нашу захотелось…» А Лизанька подхватывает: «А мне что-то в Москву захотелось. Очень я Леночку полюбила».
Деревню мы вспоминаем часто и тоскуем – как там сейчас хорошо. Чугунов нам написал, что они уезжают туда на всё лето. Не поедете ли вы? Посмотрели бы Вареньку, прислали бы нам травки – нигде больше не растёт такой вкусный зверобой…»
20.05.84, Неделя о самарянынеЧуть было не устроился в один ЖЭК, но передумал – участок далеко, а на работу выходить к 5-и часам утра.
Умерла одна из наших бывших соседок, Мария Петровна. От нас на похороны ходила только мать. Нас с Олей ничего с ними не связывало, а я и совсем – залётная птица.
Получил в храме 25 рублей – за дежурство на Преполовение.
Оля:
«Перед сном сегодня Лизанька разговорилась. Впечатления дня, которые, казалось, прошли без внимания, всплывают, и она начинает размышлять.
– А потиму бабухка в х’ам не хогик?
– Она, Лизанька, Бога не знает. Когда была маленькая, ей никто молитв не пел, в храм не водил. Она и молиться не умеет.
Лизанька начинает перечислять молитвы, которые я ей пою: и «Х’истос воскесе», и «Взб’анной воевоге»… Потом говорит, пусть бы бабушка в храм пришла и увидела бы там Господа – «на потойке» (на потолке).
– Он кам наисован…
Я рассказывала ей, что батюшка – это живая икона Бога, и эта мысль ей очень понравилась.
– А мохно бабухке сказать, что батюхка – это Бог?
– Нет, Лизанька, это не Бог, как и икона не Бог, а образ Божий.
Иногда она говорит, что когда приходит в храм, то становится «котёночком» – это значит, что она становится очень ласковой и послушной девочкой.
– А хко батюхка пеед пичастием гаваит? (что батюшка перед пречастием говорит)
– Исповедание веры, – отвечаю я и читаю немного. – Верую, Господи, и исповедую…
– А паком… пос’е (после) пичастия нага тяху (чашу) цеовать… В х’аме так хаахо… (хорошо)
Вечером мы на подоконнике лепили фигурки из пластилина. Лизанька всё что-то говорила, а я, задумавшись, просто мяла в пальцах комочек.
– О тём кы загумалась? – вдруг наклонилась она ко мне с таким ласковым участием…»
И когда я взглянул на них, Лизанька осторожно гладила маминьку обеими ручками по щекам.
23.05.84Жарко. Во весь день ни тучки.
На днях купили Лизе велосипед. Пару дней мне пришлось с нею побегать, но теперь она уже катается сама – не очень быстро и не совсем уверенно, но ездит.
Сидит на диване, выдумывает:
– А дядя Гена пиезжал на квою абоку?
Я с недоумением пожимаю плечами:
– Дядя Гена? На мою работу? Зачем?.. Нет, не приезжал.
– Пиезжал! – шаловливо говорит она. – Я видева!.. Сидик (сидит) в окне, на квоей абоке, и книхку чикаек (читает)…
И заливается смехом:
– Тохэ кваю книхку!
– У него, Лизанька, своя работа есть.
А ей ещё смешнее:
– А он… а он на кваю бегаек!.. (на твою бегает)
Я коварно спрашиваю:
– А на твою, Лизанька?
По инерции она смеётся дальше:
– И на мою тохэ!..
И тут перестаёт смеяться, задумывается.
– Где ж твоя работа, душа моя?
Неуверенно говорит:
– В комнаке… У миня – в комнаке…
– С игрушками? – помогаю я.
– Га… – недоумение разрешено, и она оживает, снова начинает смеяться. – Ай га дядя Гена!.. И на кваю, и на ево, и на маю абоку бегаек!
Олечка нарядила её сегодня в бантики, и я целый день изумляюсь на маленькую девочку: в самом деле – девочка!
01.06.84Уже три дня работаю дворником в жэу-19, но только сегодня занёс заявление начальнику, и он разводит руками:
– Могу засчитать только сегодняшний!
– Но я же работал! Целый участок убирал! Какая вам разница, каким числом заявление подписать?
– Не могу! Не положено.
Обидно.
Оля записала за Лизой: «Я во сне виху ахадку (лошадку) Ивухку… Я зак’ываю газа (глаза), и она скачит в темноке…»
04.06.84«Руководство к духовной жизни» – удивительно: мне попалось первое издание ответов св. Варсануфия на русском языке (Москва, в Университетской типографии, 1855-й год). Впервые книга была издана на Афоне монахом Никодимом в 1803-ем году «по единственной рукописи». Перевод (профессоров Московской духовной академии) хорош – плавная, гибкая речь, богатый и находчивый язык. Сам святой отец – египтянин по происхождению, но подвизался в Палестине – суров и непреклонен, древней стойкостью так и веет от его речей, но речи эти полны такой мерной трезвости, что невольно приходит на ум эпитет «божественная». Ясное впечатление от книги: эта душа озарялась Духом Святым.
«Но сперва обличу тебя: ты называешь себя грешным, а на деле не показываешь себя сознающим сие. Признающий себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается… Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего и обвиняешь его, будто чрез него приходит к тебе скорбь? Разве ты не знаешь, что всякий искушается собственным сознанием».
«О Боге св. отцы, будучи вопрошаемы, написали: ищи Господа, а не испытывай, где обитает Он».
«Что же касается до сильного отягощения твоего блудными помыслами: это случается от того, что думаешь о ближнем злое и осуждаешь его; бывает и от свободного обращения…»
«Брат! истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что» (надо бы: «вменяется ни во что»).
«…мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и само действие их…»
«Не думай, чтобы диавол имел власть над кем-нибудь: причина греха заключается в нашей свободной воле… человек как не принуждается к спасению, так и ко греху…»
«Вопрос. Не грешно ли делать что-либо в день воскресный?
Ответ. Делать что-либо во славу Божию не грешно, ибо Апостол сказал: „день и ночь делающе, да не отяготим кого” (1 Сол. 2, 9); делать же что-либо не по Богу, с презрением ко дню воскресному, по лихоимству и по видам низкого корыстолюбия – грех…»
05.06.84Начало лета отметилось небольшим похолоданием, с северным ветром, но сегодня был по-настоящему летний день. Я начинаю находить удовольствие в своей работе: встаю до восхода солнца; в восемь часов, в девятом уже иду домой, спать ложусь после заката; дни мои длинны и домашни – большей частью в общении с Лизанькой. Поэтому Оля совсем перестала влиять на маленькую девочку:
– Володюшка! А Лиза опять меня не слушается…
– Да? – грозно говорю я. – Кто там маминьку не слушается?..
Днём уже обязательно я укладываю её спать, а сегодня уложил и вечером; и так – всё чаще. И в библиотеку Олечка меня не отпускает (мать – дома, в отпуске, и уже три дня я хожу у Олечки в сторожах). Но сегодня я уговорил её на прогулку втроём – мы съездили в библиотеку, где я заказал на свой номер Страхова. Много, конечно, не начитаю – Оле скоро рожать (спаси, Господи, и помилуй).
Педагогическая беседа: сидят обе на диване, Олечка штопает, Лиза играла, но за горячим и острым разговором бросила игрушки и задорно смотрит на маминьку. Оля:
– А будешь непослушной девочкой, так мы с отесинькой уйдём от тебя.
– А я двейку зак’ою – чик!
– Ну, так что ж. Мы через балкон уйдём.
– А кам высоко!
– А мы по лестнице спустимся. Вот, есть у меня такая лестница – верёвочная, привяжем к балкону и спустимся.
– А шко эко акое (а что это такое)?
– Лестница? Из верёвочек сплетённая.
– А где? Шко-ко я не видева.
– Спрятана лестница… Вот спустимся и уйдём куда-нибудь.
Лиза молчит. Думает. И оживляется:
– Я тохэ куга-ко бы уехава…
И, вспомнив, ликует:
– К девочке Сене!
Это её выдуманная, сказочная подружка.
– К девочке Сене! – веселится, выпрямляясь, Лизанька. – Я знаю, в какой скаоне (стороне) она хывёт. Вон кам!..
И она машет рукой на запад.
Во дворе. Болтик от велосипеда потерялся. Лиза хлопотливо присаживается на корточки возле виновато поникшего вело-ослёнка, трогает пальчиком гаечки, говорит:
– Потияйся хууп… (потерялся шуруп)… А экок? экок потиму не потияйся?
Я слушаю вполуха, гляжу, соображаю, как выйти из положения, бормочу:
– Почему?.. почему потерялся?.. Да кто его знает, Лизанька, почему…
Она снова обращает свой взгляд к велосипеду, вновь пальчики перебегают с гаечки на болтик, с болтика на гаечку:
– Кук к’епко захууп’ено (тут крепко зашуруплено), га?.. А кук… кук с’ябо (слабо), га?
Зовёт меня:
– Отесинька!
– Что?
– Иги сюга! На минукочку!
Зовёт Олю:
– Маминька! Иги сюга! Я кибе тиво скаху… (чего скажу)
– Хоть всё море перерой!.. – декламирует Олечка, одевая Лизаньку.
– Нек! – останавливает она маминьку. – Не всё мое…
– А что? – не понимает Оля.
– Всю земью…
10.06.84«Борьба с Западом в нашей литературе» Страхова – я думал он проследит зачатки славянофильских идей в нашей словесности (а их от Ломоносова, Фонвизина, Шишкова можно немало насчитать), что ещё вообще никем не сделано, чаще просто прослежено пунктирно, но и Страхов этого не сделал. Он «пошёл от обратного» и разбирает идеи западников, оказавших наиболее заметное влияние на русские умы. Что ж, тоже интересно. Страховым я заинтересовался по Розанову и не разочарован. Ум не яркий, но сильный, стиль почти художественный – блестящий полемист, читать его – просто наслаждение. Удивителен, но и показателен тот факт, что ни его аналитика, ни сама его личность не вызвали в обществе должного внимания. Та же история, что и с Леонтьевым. Розанову понадобился «скандал», чтобы приобрести читателей, и эпатаж, чтобы им заинтересовались. Страхова я полюбил (совершенно непонятна история с письмом о Достоевском – значит, была какая-то теневая сторона в личности этого «мирского монаха», которая лишь раз вырвалась наружу, и теперь никак не вклеивается в тот образ философствующего отшельника, который прочно – может быть, ошибочно – сложился в моей голове).