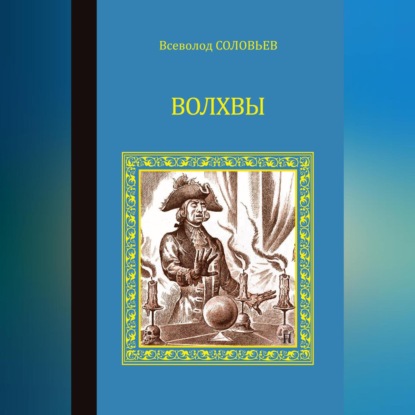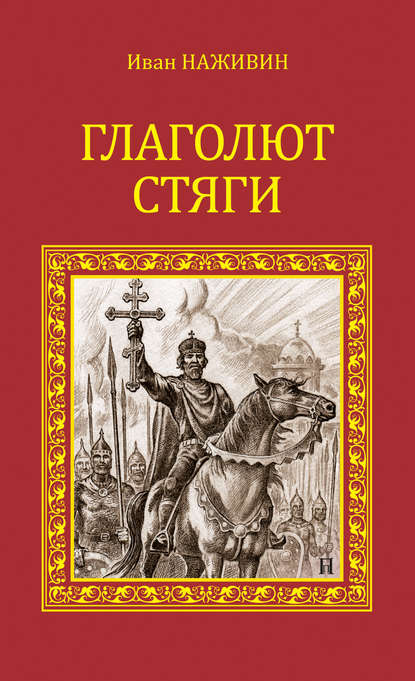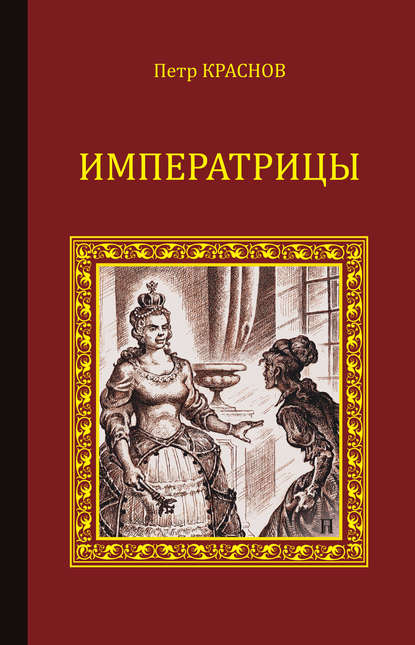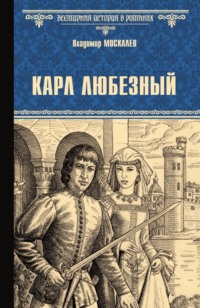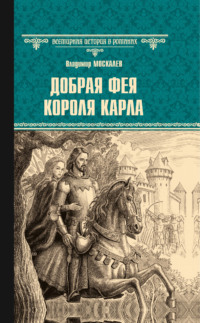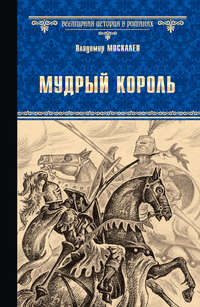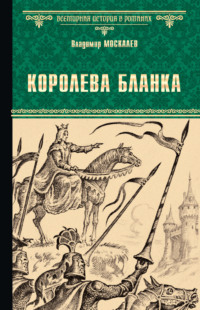Полная версия
Екатерина Медичи
– Он был ранен одним из первых. Кажется, осколок ядра угодил ему под лопатку. Однако же прощайте, Лесдигьер, нам придется расстаться, ибо мы отходим под стены крепости. Мы потеряли уже почти добрую половину своих людей. По-видимому, эта битва нами проиграна: я вижу, как от стен Парижа к вам движется значительное подкрепление.
– Прощайте, ваше высочество.
И Лесдигьер направился туда, где был коннетабль. Сражение разгорелось нешуточное, и его удивляло упорство гугенотов, с отчаянием обреченных, не желавших покидать поле битвы.
Коннетабль очутился в центре этой схватки. Он был уже ранен в голову и руку, однако не столь серьезно, ибо продолжал оставаться в седле и рубить шпагой. Рядом с ним был Шомберг, весь в крови и пыли, поднятой копытами лошадей.
– Ты ранен, дружище? – спросил его Лесдигьер, подлетая к нему на всем скаку.
– Есть немного, но это пустяки, – ответил тот, стараясь улыбнуться. – Здесь творится что-то невообразимое, они стремятся убить либо захватить в плен коннетабля. Я уже два раза защищал его собою, в третий раз, боюсь, не смогу этого сделать…
И он зашатался в седле. Лесдигьер передал раненого на руки своим гвардейцам, а сам поспешил туда, где плясал в вихре пыли и дыма белый султан.
Окружавшие коннетабля дворяне тоже выглядели не лучше, многие имели ранения, и немало трупов лежало под копытами их лошадей. Оставалось удивляться, почему именно здесь было напряженнее всего. Чего стоило католикам бросить сюда тысячу человек для окончательного подавления врага? Но они были увлечены преследованием отступающего противника на левом и правом флангах, полагая, что в центре конницу коннетабля обязаны поддержать те, кто находится у него в тылу, у городских стен. Но помощи оттуда не было, никто не догадался отдать приказ.
Первым догадался об этой оплошности Франсуа де Монморанси. Взяв с собою три сотни всадников, он бросил их в центр. В это же самое время со стороны Парижа тоже торопилась на подмогу войскам короля свежая конница католиков.
Но… Франсуа Монморанси опоздал. Они уже увидели друг друга, как вдруг его отец вскрикнул: чей-то меч перерубил ему левую руку, державшую щит. Коннетабль еще успел увидеть, как Лесдигьер, неизвестно откуда здесь взявшийся, вонзил шпагу в горло врагу, посмевшему поднять на него руку, как вдруг раздался выстрел, и мушкетная пуля раздробила ему бедро. Коннетабль не успел позвать на помощь, как Лесдигьер бросился на гугенотов, окружавших главнокомандующего, круша их направо и налево, не разбирая, где чужие, где свои.
И в это самое время рядом с коннетаблем раздался громкий голос:
– Сдавайся, маршал!
– Кто ты? – крикнул он всаднику, опешив от такой наглости.
– Меня зовут Роберт Стюарт, и клянусь, я возьму тебя в плен.
– Ты думаешь, я уже настолько слаб, что меня можно взять голыми руками? – и главнокомандующий взмахнул своей шпагой.
Если бы Роберт Стюарт не пригнул голову, она слетела бы с плеч. Но он пригнул ее и, когда выпрямился, выхватил из-за пояса пистолет и в упор выстрелил в коннетабля. Анн де Монморанси издал протяжный стон, выронил шпагу и схватился за живот. К несчастью, на нем не было панциря, он обронил его в пылу битвы. Его сын, опоздав лишь на мгновение, с ходу зарубил Стюарта, но коннетабль, мертвенно бледный, уже сползал с седла. Его поддержали, осторожно уложили на носилки. Франсуа остался с отцом, а Лесдигьер, взяв на себя командование пятьюстами всадников, стремительно погнал неприятеля назад, под стены Сен-Дени.
Так закончилась эта битва, не принесшая успеха ни той, ни другой стороне. Потери гугенотов составляли около пятисот человек, а для их и так небольшого войска это был значительный урон, если учесть, что большинство убитых и раненых были дворяне. Католики потеряли в этом сражении около четырехсот человек, это была, по сути, Пиррова победа, если учесть тройное превосходство их сил над неприятелем.
На следующий день протестанты, сохранившие в этом сражении своих вождей, соединились с вернувшимся сильно потрепанным отрядом д’Андело и направились в Монтро. Там к ним примкнули войска де Ларошфуко, имевшие сражение с Монлюком и оттеснившие его к папским владениям. Затем все вместе они двинулись в Шампань. Здесь их должны были ждать рейтары герцога Казимира, младшего сына графа Пфальца, численностью в шесть тысяч всадников и три тысячи пеших солдат.
Узнав об этом, Екатерина приказала своему младшему сыну шестнадцатилетнему Генриху Анжуйскому взять на себя обязанности главнокомандующего вместо смертельно раненного коннетабля Монморанси и отправиться в поход на восток, дабы помешать гугенотам соединиться с рейтарами Казимира. К нему были приставлены опытные и храбрые полководцы: герцог де Немур, герцог де Монпансье, муж дочери Франциска де Гиза, и г-н де Косее, будущий маршал.
Тяжелораненого коннетабля провезли по улицам Сен-Дени, потом Сент-Антуан и доставили в его дворец. Всю дорогу он не приходил в сознание, таким его и уложили в постель, предварительно раздев и обмыв. Легран, личный врач полководца, сразу же бросился осматривать своего господина. Весь парижский двор собрался здесь, все ждали, какой приговор больному вынесет врач, и гадали, кто теперь будет коннетаблем. Ждали королеву-мать, но вот подъехала и она со своими сыновьями. Она привезла с собой двух лекарей, хотя знала, что у коннетабля есть собственный. Наконец Легран объявил собравшимся у ложа раненого:
– На его теле двенадцать колото-резаных ран, особенно на лице и голове. Два раза его царапнула мушкетная пуля. Но эти раны не страшны, они бы зарубцевались. Страшнее другая, последняя. Эта не даст ему прожить дольше завтрашнего дня. Пуля угодила в хребет и разбила седалищные позвонки и диски, разрушив спинной мозг. Ее нет, она вышла навылет. Всей жизни у главнокомандующего несколько часов. Вы можете прощаться с ним. Пошлите за священником и духовником. Он в любую минуту может прийти в себя, душа его должна быть чистой, дабы не попасть в ад.
Шомберг рыдал навзрыд, встав на колени и уткнувшись лицом в кровавую рубаху своего хозяина; Лесдигьер, стоя рядом, не пытался сдержать слез, текущих по щекам. Франсуа стоял на коленях у изголовья отца с лицом белее простыни, на которой тот лежал и, будто загипнотизированный, молча, сухими глазами глядел в безжизненное лицо коннетабля. Ладони его, держащие восковую руку умирающего отца, мелко дрожали.
Королевские врачи не стали спорить с Леграном, ибо диагноз был абсолютно верен.
Екатерина, нахмурясь, молча стояла у постели главнокомандующего и тяжело вздыхала.
Через час коннетабль пришел в себя, но поначалу никого не узнавал. Потихоньку мысли его стали проясняться, и он тут же позвал Леграна. Монморанси попросил его сказать всю правду, пусть самую горькую. Он должен успеть сделать распоряжения.
И Легран не стал ему лгать. Коннетабль поблагодарил его и сделал знак, чтобы к нему наклонились Франсуа и Шомберг. Они были сейчас самыми близкими людьми, и им он поверил какие-то свои тайны, неведомые никому. Потом подошла Екатерина с сыном. И Анн Монморанси выразил желание, что не ради корысти, но для блага Франции хотел бы видеть своим преемником на посту главнокомандующего сына Франсуа. Даже в свой смертный час он думал не о себе, а о судьбе королевства. Потом коннетабль отдал еще какие-то распоряжения, записанные тут же его нотариусом, и наконец объявил:
– Это все. А теперь зовите попов, я буду беседовать с ними.
Наутро, сразу после пробуждения, с ним случилась агония, он бился и дрожал с минуту-другую, закатив глаза и с пеной у рта, потом глубоко вздохнул, выдохнул и успел еще сказать:
– Я иду, Диана.
И умер.
* * *Королева в знак признательности за долгую и безупречную службу организовала для коннетабля поистине королевские похороны в соборе Парижской Богоматери. Его сердце поместили близ его дома, в монастырь целестинцев, рядом с сердцем Генриха II, которому он всегда верно служил. А когда главнокомандующего везли в усыпальницу Монморанси, то по пути остановились в Сен-Дени, дабы усопший мог проститься с прахом короля. Это был последний, с кем попрощался Анн де Монморанси, и душа короля Генриха, верно, будет первой, с кем встретится его душа, только что отлетевшая на небо.
Часть вторая. Конец и начало. 1568
Пролог
Начатая битвой при Сен-Дени, вторая гражданская война на этом не закончилась. Благодаря денежной помощи, оказанной протестантам Лесдигьером, они встретились в Шампани с рейтарами герцога Казимира и этим значительно увеличили свое войско. Теперь можно было подумать и о походе на Париж. Но Екатерине нужен был мир, у нее больше не было денег на продолжение войны. Начнись она снова, ей нечем будет платить иностранным наемникам, и тогда протестанты могут одержать верх.
Она направила своего эмиссара в армию Конде для переговоров, и вожди протестантов, поразмыслив, дали согласие, однако поставили условие: отправление свободного культа богослужения в Нормандии, Париже, Ла Рошели и других южных городах.
Екатерина, что называется, кусала локти. Теперь она уже не знала на что решиться. Приходилось идти на компромисс с собственной совестью, гордостью женщины, честью королевы, и все это ради мира, который нужен ей сейчас как воздух. Мир необходим ради ее детей, в этом нуждалась страна, которой она управляет. Ах, если бы не Шампань, если бы не бездарность и глупость Косее, Немура и Монпансье, проворонивших соединение гугенотов с наемниками! Ей не пришлось бы сейчас краснеть за саму себя. Жаль, так глупо погиб коннетабль… и что это дало? Ничего, кроме того, что гугеноты, будто бы разбитые, все же одержали верх не потому, что не потеряли ни одного из своих вождей, но потому, что осмеливаются предъявлять ей свои требования, на которые она, и это самое ужасное, не может не согласиться.
Поздней зимней ночью выборных делегатов, избранных адмиралом и кардиналом де Шатильоном, – старшим братом Жолиньи и д’Андело, человеком, отлученным папой от церкви, – провели в Лувр к королеве и королю. Оба в масках, при оружии и охране, их имена – граф де Ларошфуко и Шарль де Телиньи. Последний являлся обладателем состояния, доставшегося ему после смерти небезызвестного г-на де Вильконена, и кроме того, был зятем адмирала, женатым на его дочери Луизе.
Несколько дней тому назад испанский посол д’Адава сообщил своему государю о предстоящих обменах мнениями; тот незамедлительно ответил, что готов предложить французскому королю миллион, лишь бы тот отказался от постыдных переговоров с протестантами. Карл IX тут же сдуру начал писать Филиппу, что он согласен, но его мать вырвала у него из рук письмо и разорвала в клочки. Карл потребовал объяснений, и Екатерина усталым голосом проговорила, что ей не нужны деньги, на которые он наймет иностранных солдат и начнет новую кровопролитную войну. Хватит уже крови, им нужен мир. К тому же заниматься ростовщичеством с испанским королем опасно, велик риск попасть к нему в кабалу. И еще она напомнила сыну о видах, которые имеет Филипп II на Францию.
Карл нахмурился. В самом деле, Габсбурги хотят прибрать Францию к рукам, сделав ее наподобие Нидерландов одной из провинций Всемирной монархии, возглавлять которую будет Филипп – испанский король и император священной Римской империи, ничтожный преемник Карла V, своего отца. Вот отчего он так радел об искоренении ереси во Франции, вот откуда такая неслыханная щедрость.
Перо выпало из рук Карла. Он поднял глаза на мать. В них она прочла, что он понял ее. Медленно развернувшись, она величавой поступью ушла к себе.
Оставшись един, Карл задумался. Как же так? Ведь католики по-прежнему режут гугенотов по всей стране! Можно попробовать заставить их подписать мир, но вряд ли что изменится при этом за пределами Парижа. Дотянется ли его рука до тех, кто посмеет нарушить мирный договор, подписанный им самим? Неужто придется предпринять новое путешествие по Франции, как три года тому назад? Но в таком случае, французские католики играют на руку испанскому королю!
Он побежал было вслед за матерью, чтобы разобраться в этом сумбуре, но в дверях остановился, пораженный последней мыслью. Так вот почему его мать не хочет этой братоубийственной войны, вот почему она так стремится к миру!
Обессиленный этой непривычной для него работой ума, Карл опустился в кресло и обхватил голову руками.
Несколько часов уже длилось это необычное свидание. Гугеноты требовали постоянства мирного эдикта и уплаты королем жалования рейтарам герцога Казимира. Кроме того, они просили о создании деклараций, в которой значилось бы, что армия протестантов никогда и не помышляла о мятеже против правительства, а произошедшие недавно волнения были вызваны необходимостью, то есть мерой, предпринятой ими для их собственной безопасности. Имелась в виду армия в Пикардии и по соседству с ней войско герцога Альбы.
Екатерина подумала, что это немного и, обрадованная, уже хотела дать согласие, как вдруг все дело испортил король. Ему показалось обидным и недостойным, что его мать собирается подписать мирный договор с мятежниками, которые всего лишь два месяца тому назад как посягали на его жизнь, и Карл, вскочив с места и размахивая руками, с лицом, перекошенным от гнева, закричал:
– Я хочу, чтобы эти господа объяснили мне, чего ради они гнались за своим королем по дороге из Мо в Париж?! И пока я не получу вразумительного ответа, другого разговора у меня с ними не будет!
Послы, переглянувшись, встали. Король кипел злобой и говорить о чем-либо с ним сейчас бесполезно. Его поведение – это прямой отказ. Поклонившись, они стремительно вышли вон.
И все же по просьбе принца Конде, голодная армия которого лютой зимой отступала от Парижа, преследуемая католиками, Карл IX согласился на удовлетворение всех требований протестантов, и в марте маршал Монморанси с одной стороны и кардинал де Шатильон с другой заключили перемирие в Лонжюмо. Через несколько дней его подписали король, Колиньи и Конде.
Глава 1. В Ла Рошели
28 сентября 1568 года, на другой день после Воздвижения, в доме городского прево, в одном из залов верхнего этажа, вечером, в едва начавших сгущаться сумерках, – вели беседу пятеро: губернатор города г-н д’Эскар, принц Людовик Конде, адмирал де Колиньи, Франсуа де Ла Ну и Франсуа де Ларошфуко.
Все сидели за столом, покрытом желтой скатертью. Слева от них – камин, по его краям две небольшие мраморные колонны восьмиугольного сечения, их узорчатые капители упирались в потолок, повсеместно разукрашенный затейливым орнаментом из цветов и листьев; на камине стоит, прислоненная к стене, картина работы Ботичелли с изображением средневекового города на фоне гористой местности; слева и справа от нее – подсвечники, по одной желтой свече в каждом. Недалеко от камина у стены – комод, больше похожий на кунстшранку, на нем красуется бронзовый кубок, рядом – миниатюрный бюст Кальвина на гранитной подставке, весьма искусно выполненный кем-то из французских мастеров. На стенах, обитых коричневой тканью с причудливыми узорами в черных квадратах, – портреты Лютера и Цвингли в золоченых рамах.
Стол стоит на четырех массивных резных дубовых ножках разного сечения, которые привинчены к полу, выложенному белой и светло-коричневой плиткой с таким расчетом, чтобы белые в строгой пропорции образовывали букву «Т», а коричневые – букву «Г». Последние по всей площади пола соприкасались друг с другом короткими горизонтальными частями, причем верхняя перекладина одной из букв служила тем же самым для другой буквы, шедшей в противоположном направлении. Поговаривали, что некогда этот дворец служил местопребыванием тамплиеров, в память об этом они, дескать, и приказали выложить пол таким образом, однако точными сведениями по этому поводу никто не располагал, и пол оставался нетронутым со времен Филиппа Красивого, уничтожившего этот орден.
Над столом висела, прикрепленная цепью к одной из балок потолка, изящная люстра из венецианского стекла со множеством подсвечников, в каждом из которых торчало по одной оранжевой свече.
Идя дальше вдоль стены в сторону окон, мы увидим мальчика, вернее, уже юношу, поднявшего голову и разглядывающего висящее на стене полотно работы Мазаччо. Это был фрагмент из стенной росписи в церкви Санта-Мария во Флоренции, изображавший Иисуса Христа в Иерусалиме в окружении двенадцати апостолов перед тем, как они взобрались на гору и он выступил перед ними с речью о том, каким должен быть человек, чтобы попасть в царство Божие. Юношу в шляпе с пером и со шпагой на боку зовут Генрих, он сын Людовика Конде; рядом с ним пожилой дворянин с обветренным лицом и скрещенными за спиной руками. Лицо его непроницаемо, он тоже смотрит на картину. Это наш старый знакомый Матиньон.
Справа от них миниатюрная скульптура Донателло «Давид» на невысоком, в половину человеческого роста, постаменте. Библейский герой изображен автором в тот момент, когда он попирает ногой голову поверженного им Голиафа. Еще дальше, ближе к окну – столик на резных ножках, на нем две книги. Одна из них – «Маленький Жан де Сентре» француза Антуана де Ла Саля, другая – «Рифмованная хроника» Жоффруа Парижского. Обе обшиты красным бархатом, на котором выдавлены и блестят позолотой название и имя автора. На другом столике у противоположной стены лежат раскрытыми иллюстрации Симона Мармиона к «Большим французским хроникам». Справа от столика ближе к входной двери стоит шкаф из красного дерева, внутри него полки, на них книги всевозможных расцветок в золоченых и серебристых переплетах. Над столиком и шкафом, на стене висят полотна дель Россо. На окнах, а их три в этом зале, – шторы из желтого венецианского шелка, ниспадающие до самого пола и охваченные золотистым шнурком у самого подоконника.
Такова обстановка зала, где находились вожди гугенотов накануне новой, третьей войны.
– Ее обещания и клятвы лживы, как и она сама, – говорил Ла Ну. – Во что превратился мир в Лонжюмо? Наших братьев по-прежнему зверски избивают по всей Франции! В Руане католики разгромили дворец Правосудия, всех чиновников протестантского вероисповедания выволакивали во двор и убивали тут же, у всех на глазах под улюлюкание толпы фанатиков, а иным заклеивали рот и нос и бросали в Сену. Дворы и дома гугенотов разграблены и сожжены, а семьи безжалостно вырезаны, причем активное участие в погромах принимают даже женщины. И после этого вы, д’Эскар, утверждаете, что король движим стремлением к миролюбию?
Губернатор, потупившись, только развел руками в ответ:
– Видимо, в Руане не знали о перемирии в Лонжюмо…
– Не знали?! А известно ли вам, что король в этот же день разослал эмиссаров по всей Франции с вестью о мире, а через неделю начались избиения в Руане и Амьене?
– Как, и в Амьене тоже?
– Да, мсье, и там тоже душили, резали и топили гугенотов во славу Божию. А ведь Екатерина уверяла кардинала через герцога Монморанси, что страстно желает этого мира и надеется, что распри, грабежи и убийства утихнут настолько, что это позволит правительству в будущем утихомирить всю страну и окончательно примирить обе враждующие партии. И что же, вы думаете, в ответ на это предприняли католики?
Никто не отвечал ему. Ла Ну видел перед собой только нахмуренные лбы и опущенные вниз глаза, да сжатые кулаки на поверхности стола. Он гневно продолжал:
– Они врываются в камеры к заключенным и убивают тех, кто отвергает иконы и мессу, а в Тулузе господину де Рапену, который привез весть о мире, просто отрубили голову, а потом отослали ее обратно в Париж.
– И что же король? – спросил д’Эскар.
– Ничего! – вскричал Ла Ну. – Его мать была больна, а сам он, как известно, ни на какие разумные решения не способен. Но мы тоже не сидели сложа руки. В то время как войско короля вынудило нашего принца укрыться за стенами Нуайе, мы разрушали католические церкви и убивали их попов, их самих так же, как и они нас.
– Всеблагий Господь! Да настанет ли конец этой братоубийственной войне? – отозвался д’Эскар.
– Это случится, вероятно, тогда, – подал голос Ларошфуко, – когда обе королевы – Екатерина Медичи и Жанна д’Альбре – протянут друг другу руки и расцелуются у всех на глазах.
– Полно вам, Франсуа, так было уже не раз, – произнес Конде. – Что из этого вышло, всем хорошо известно. Скажите еще, чтобы они переженили своих детей: принца Генриха Наваррского с ее шлюхой Марго. Хорошо еще, что Жанна вовремя улизнула из лап Екатерины, уж она не отпустила бы ее сейчас, если бы не проворонила тогда.
– Вывод один, – снова заговорил Ла Ну, – и таков же вопрос: можем ли мы сидеть сложа руки здесь и ждать, пока они штурмом возьмут город, а нас всех перевешают на зубцах городских стен, как это было в Амбуазе?
– Что вы предлагаете? – спросил Конде.
– Надо выступать в поход, монсиньор, и соединяться с армией принца Оранского, который ждет нас у границ Шампани.
– И потом?..
– Потом объединенными силами двигаться на Париж.
– Вы рассуждаете так, Ла Ну, будто бы, кроме нас с вами, во Франции больше никого нет и некому преградить нам дорогу. Вы забываете про Таванна с его войском, про Монлюка, про Гиза, который рыщет по всему королевству в поисках мятежников, про маршала де Коссе, стерегущего границы Шампани, и, наконец, про Альбу, с армией которого и надеется соединиться этот самый Коссе.
– Но что же делать в таком случае, принц? – в отчаянии воскликнул Ла Ну.
– Ничего. Сидеть здесь и ждать.
– Ждать? Но чего? Своей погибели?
– У нас мало сил, Ла Ну, и вы это знаете. Мы не можем выйти за пределы города с таким войском. Подождем д’Андело. Он и Субиз должны подойти на днях к стенам Ла Рошели из Прованса. Вот когда мы объединим наши усилия, настанет время подумать и о походе.
Ла Ну замолчал. Никто не сказал больше ни слова, хотя мыслей в голове у каждого было предостаточно. Все ждали решения адмирала.
– Нет! – властно произнес адмирал, и ладонь его тяжело легла на желтое сукно стола. – Нам всем прежде всего необходимо подумать о нашей королеве. Она находится сейчас в большей опасности, нежели мы с вами, сидящие за неприступными стенами Ла Рошели, и именно к ней мы обязаны отправиться на выручку со всем нашим войском, которое у нас есть.
Он немного подумал, прежде чем продолжить. Все терпеливо ждали.
– Каждый день к нам подходят новые силы, армия наша увеличивается. Часть ее завтра останется здесь для защиты города от нападения католиков, другая часть под моим командованием отправится к Нераку, где сейчас наша королева. Со мной пойдет Ла Ну. Завтра утром, чуть свет, мы выступаем с тысячным войском. Хотя, если король вознамерился взять ее силой, она наверняка отступит в Наварру, и там, среди гор, он уже не достанет ее.
– Что ж, тогда и мы пойдем в Наварру, – воскликнул Ларошфуко, – и не успокоимся до тех пор, пока наша королева не будет с нами!
– Браво, Франсуа! – произнес Конде. – И только тогда, объединив наши силы с королевой и под знаменем нашей Жанны д’Арк, мы выступим в поход и захватим Сент, Коньяк, Ниор и Сен-Максан. А потом вместе с д’Андело отправимся на Шампань!
Все единодушно одобрили это решение, но больше всех обрадовался юный Генрих, которому еще не довелось участвовать ни в одном сражении.
На этом совещание закончилось, и адмирал уже поднялся, собираясь отдать дальнейшие распоряжения в связи с прибытием новобранцев, как вдруг в коридоре послышался какой-то шум, двери внезапно широко раскрылись, и в них показалась возбужденная, никем не ожидаемая, но всеми горячо любимая королева Наваррская Жанна д’Альбре: высокая, стройная, в темном дорожном костюме со сверкающей драгоценными камнями широкой диадемой в волосах. Рядом с ней стоял ее любимый сын Генрих, принц Наваррский.
Ее неожиданное появление, да еще в то время, когда о ней только что говорили, произвело эффект разорвавшейся бомбы: на миг все онемели.
Первым опомнился Конде:
– Бог мой, ваше величество!..
И, бросившись к королеве, склонился в поклоне над ее протянутой рукой. Остальные, обрадованные, проделали то же самое. Она, улыбаясь, глядела на них и, казалось, не знала, что сказать, с чего начать, с кем заговорить.
– Но ради Иисуса Христа… каким образом, мадам? – воскликнул адмирал, предлагая королеве место за столом.
– Одну минутку, адмирал, – произнесла Жанна и обвела присутствующих любопытными, блестящими под тонкими дугами бровей глазами. – Кто комендант этого города, господа?
– Я, ваше величество, – ответил д’Эскар, называя себя и кланяясь.
– Как зовут вашего дворянина у дверей?
– Дю Барта.
Жанна подошла к дверям и широко распахнула их:
– Господин дю Барта!
Перед ней тотчас возник дворянин в темно-фиолетовом костюме.
– Вы знаете, кто я такая, сударь?
– Королева Наваррская и наша повелительница, – с достоинством ответил дю Барта и, прижав правую руку к груди, наклонил голову. Потом добавил: – Я не был бы гугенотом, если бы не знал вас в лицо, ваше величество.