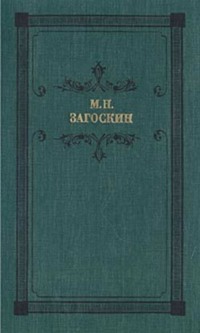Полная версия
Брынский лес
– И, Софья Андреевна! Охота же тебе вспоминать о том, что ты видела в бреду! Я тогда у вас в дому не жила, а слышала после: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, целый месяц в память не приходила, так диво ли, что тебе и бог весть что мерещилось?.. И со мной была однажды такая же болезнь, и мне также помнилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны, а как пришлось после опять за квашню приниматься, так поневоле вспомнила, что я работница… Да что об этом говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачем я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу от нее допытаться, что за молодцов таких она провела вчера через наш двор; а уж нечего сказать – молодцы!.. Особливо тот, который пониже; что за личмянной детина такой!..
– Ах, нет, Дашенька! Тот, который выше, гораздо миловиднее.
– Э!.. Так и ты их видела?
– Да… так… мельком… Я на ту пору сидела у окна… Чему же ты, Дарья, смеешься?
– Тому, матушка, что ты этак закраснелась… Ну!.. Еще! Словно маков цвет!.. Э-их, Софья Андреевна!.. Молоденька ты, матушка!.. Ну, что за беда, что ты взглянула на пригожего детину? Ведь ты не черница какая!
– Знаешь ли что, Дашенька? Помнишь, прошлого года на Святках ты уговорила меня гадать?
– Помню, матушка! Ты еще сказывала мне, что видела во сне молодца, русоволосого, с голубыми глазами… Неужели этот высокий детина?..
– Ах, Дашенька, ну точь-в-точь такой же! И взгляд такой же унылый, и платье, помнится, на нем такое же…
– Вот что!.. Ну, Софья Андреевна, видно, он твой суженый.
– И, полно, Даша!.. Прохожий!..
– Что, матушка, прохожий, – не узнаешь!.. Вот и я также: ела на Святках пересол, и меня во сне напоил какой-то вовсе не знакомый детина. Что ж ты думаешь? Не прошло месяца, как я его увидела!.. Да ты знаешь его: работник твоего батюшки, Архипка рыжий…
– Архипка!.. Да ведь он женат!
– А почему знать, матушка, может быть, и овдовеет.
– Так ты думаешь, что этот прохожий молодец мой суженый?
– Да видно, что так. А жаль, что не другой!.. Другой-то пригожее.
– Ах, нет, Дашенька!
– Да чем же этот высокий показался тебе лучше своего товарища?
– Я и сама не знаю; но уж только лучше его я в жизнь свою никого не видала.
Вы можете себе представить, каково было Левшину, когда в эту самую минуту, может быть, блаженнейшую во всей его жизни, двери из сеней отворились, и он увидел Колобова, который манил его к себе. Левшин отскочил от перегородки, вышел потихоньку в сени и затворил за собою дверь.
– Ну что ты, братец? – спросил он почти с досадою.
– Да что, Дмитрий Афанасьич, – отвечал Колобов, улыбаясь, – я вижу: не в пору гость хуже татарина! Ну что, хороша ли?
– Кто хороша?
– Вестимо кто – твоя соседка.
– А почем я знаю. Она ни разу не приходила в светлицу.
– Так чего же ты смотрел в щелку-то?
– Так – от безделья.
– Хитришь, брат!.. Ну, если твоей соседки нет, так войдем к тебе в светлицу.
– Нет, нет! – прервал торопливо Левшин. – Лучше здесь!.. Неравно кто-нибудь войдет, услышит, что мы разговариваем…
Колобов засмеялся.
– Эх, полно, братец! – сказал Левшин. – Говори скорей, зачем ты пришел?
– Как зачем?.. Повидаться с тобой, да взглянуть на твою соседку.
– Охота же тебе, Колобов…
– Ну, ну, не сердись!.. Экий ревнивый какой!. Вот что, братец: я сейчас был у боярина Кириллы Андреевича Буйносова; он уже все знает: на тебя донесли князю Хованскому, а тот ему пересказал. Как я стал говорить, что ты хочешь перейти в наш полк, так боярин покачал головою и сказал: «Поздненько Левшин хватился; теперь уж речь не о том, а как бы только голова-то на плечах осталась. Сегодня, как совсем смеркнется, приди с ним тайком ко мне, так авось мы придумаем, как горю пособить». От боярина Буйносова я отправился к Кресту и, как туда попал, гляжу – тянется по Троицкой дороге обозец, телег шесть, и двух коней ведут: на задней телеге едет холоп, такой дюжий, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая…
– Ну, так и есть! – прервал Левшин. – Это Ферапонт.
– Я закричал: стой, ребята! Вы не Дмитрия ли Афанасьевича Левшина? «Его-ста», – молвил передний подводчик. – «Кто из вас Ферапонт?» – «Я, ваша милость!» – отвечал рябой, соскочив с телеги. Я сказал ему, что выслан навстречу, что им теперь на дом к тебе ехать нельзя и чтоб они остановились в первом постоялом дворе и ждали приказа. Оттуда я пошел к тебе, – и, знаешь ли что, Левшин? Как я проходил через Красную площадь, так слышал такие непригожие речи, что упаси Господи! Народ так и кипит – и все какие-то разносчицы; а Никита Пустосвят стоит опять на Лобном месте и кричит: «Пойдемте, православные, в собор изгонять хищного волка… Да восстанет истинная церковь и расточатся все враги ея!..»
– И некому унять этого злодея? – вскричал Левшин.
– Какой унять!.. К нему весь народ пристает. Крики и гам такой, что и сказать нельзя! Мне повстречался наш пятисотенный Бурмистров и с ним человек двести стрельцов: идут в Кремль охранять царские палаты. Я и сам туда же сейчас побегу.
– Как! – сказал Левшин. – Неужели эта сволочь осмелится ворваться в чертоги царские?
– Чего доброго, у них все станется.
– Так и я с тобою! – вскричал Левшин.
Он вбежал в светлицу и схватил свою саблю.
Увлеченный первым порывом, этот пылкий и благородный юноша забыл, что его могут и видеть, и слышать из соседнего покоя.
– Что ты, Левшин, что ты? – сказал Колобов, идя вслед за ним в светлицу. – Да в своем ли ты уме? Ты хочешь идти в Кремль?.. Да разве ты не знаешь, что твои злодеи ищут тебя по всему городу?.. И добро бы еще в другое время, а то теперь, когда эти окаянные крестоизменники опять завозились!.. Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, так тебя тотчас же и уходят.
– Воля Божия, Артемий Никифорович, – чему быть, тому не миновать.
– Да сделай милость – останься!..
– Останься!.. Эх, брат, не тебе бы говорить, не мне бы слушать!.. Чтоб я в то время, как наш батюшка, Петр Алексеевич, будет окружен изменниками и предателями, сидел, как баба, взаперти?.. Нет, Колобов! Не тому учил меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за веру православную и за царя, – говаривал он, – так не торгуйся: ложись, да и умирай! Там будет хорошо».
– И, братец! Да что значит один лишний человек?..
– Что значит! А почем ты знаешь, может быть, мне-то Господь и судил заслонить моею грудью того, кому я целовал крест и святое Евангелие?
– Эй, Левшин, подумай!.. Ведь ты идешь на верную смерть.
– Наша жизнь, Колобов, в руке Божьей. Коли мне не суждено погибнуть от моих злодеев, так я останусь жив; а если суждено, так не честнее ли мне умереть с оружием в руках у порога царского, чем здесь или в другом каком захолустье?
В эту минуту послышался какой-то глухой и невнятный шум, похожий на отдаленный гром, которого раскаты слились в один грозный и протяжный гул.
– Чу!.. – сказал Левшин. – Слышишь ли, братец?
– Да, Дмитрий Афанасьич, и здесь слышно, как воют на площади эти голодные волки. Видно, опять крови захотелось!..
– Идем!..
– Нет, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше сам не пойду.
– Так оставайся же один! – вскричал Левшин.
Он оттолкнул своего приятеля, опрометью бросился вон и в три прыжка очутился внизу лестницы. В то самое время, как он выбежал из светлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошептал: «Боже мой! он идет на смерть!..» – «Эх, жаль молодца!» – проговорил другой голос, и все затихло. Когда Левшин вышел на двор и обернулся, чтобы посмотреть, идет ли за ним Колобов, то невольно взглянул на светлицу своей соседки – и что ж он увидел? Она стояла у открытого окна. Ее взор, исполненный любви и страха, был устремлен на него… О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы он ее видел… Эти глаза, наполненные слезами, этот умоляющий взгляд, эти сложенные руки!.. Казалось, она хотела ему сказать: «О, не ходи, не ходи!»
Как вдруг окно затворилось, и подле Левшина раздался голос Колобова.
– Ну что ты, братец, остановился? Уж не передумал ли?.. Эй, Дмитрий Афанасьич, послушай меня!
Левшин стоял бледный, как смерть; он едва мог дышать, он чувствовал, что кровь застывала в сердце… О! Кто может разгадать, что происходило в эту минуту в душе влюбленного юноши?.. Святой долг – и первая любовь; там, в Кремле, почти верная смерть, – а здесь, быть может, целый век блаженства, подле той, которую избрало его сердце!.. Да! Эта душевная борьба была ужасна; но она недолго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взор вспыхнул, и он, схватив за руку своего приятеля, сказал твердым голосом:
– В Кремль, мой друг!.. В Кремль! А там что Бог даст? Его святая воля!
– Куда вы это, молодцы? – спросила Архиповна, которая стояла у ворот постоялого двора.
– Теперь на площадь, бабушка, – отвечал Колобов.
– Да на площади никого нет: все в Кремле.
– Зачем?
– Как зачем?.. Я вам говорила, что будет собор. Грановитая-то палата битком набита: все наши там.
– Слышишь, брат? – вскричал Левшин. – А мы еще здесь. Скорей, скорей!
– Что за диво! – прошептала Архиповна. – Вчера этот молодец от правежа прятался, а теперь в Кремль идет!.. Ах, батюшки! Бегом пустились!.. Уж не хотят ли и они постоять за истинную веру?.. Давай Господи!
IVЛевшин и Колобов добежали в несколько минут до Красной площади; на ней народ не толпился, по обыкновению, но за то у Спасских ворот была такая давка, что они должны были поневоле остановиться.
– Что, молодцы, – сказал какой-то нищий, который сидел у самых ворот, приютясь к стене, – знать ходу нет. Эва, как народ-то сперся в воротах – ни туда ни сюда!
– А! Это ты, Гриша? – сказал Левшин.
– Я, брат.
– Бедненький! Чай, тебя вчера больно стрельцы-то прибили?
– Да, брат, потрепали, дай Бог им здоровья!.. Да что вы напираете – не пройдете, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь, Никита как всех перебулгачил: уж за ним людей-то шло – видимо-невидимо!.. Эх, Никитушка, Никитушка, – продолжал нищий, покачивая головой, – слепой вождь слепых!.. Жаль мне тебя, голубчик! Много за тобой пришло сюда друзей и приятелей, а много ли их будет с тобой, как выведут тебя на площадь?
– Что ты это, Гриша, говоришь? – спросил Колобов.
– Так, брат, про себя! – сказал нищий и запел вполголоса: – Со святыми упокой!.. Ах, что-то не поется, – промолвил он, остановясь, и горько заплакал.
– Ах, батюшка, Дмитрий Афанасьевич! – сказал какой-то приземистый и плечистый детина, лет тридцати пяти, подойдя к нашим приятелям, которые как ни старались, а не могли подвинуться ни шагу вперед.
– Это ты, Ферапонт? – вскричал Левшин. – Зачем ты здесь?
– Виноват, батюшка, не утерпел! Хотелось поклониться московским угодникам.
– Эх, брат! – прервал Колобов. – Напрасно ты ушел с постоялого двора…
– Да там, батюшка, остались конюх Вавила и двое подводчиков: ничего не пропадет.
– Успел бы и после побывать в соборах, то ли теперь время.
– А что, сударь?
– Разве не видишь?
– Вижу, батюшка: народ так и валит в Кремль… Видно, ход?
– Какой ход!
– Что ж это, Колобов! – вскричал с нетерпением Левшин. – Долго ли нам здесь стоять? Пойдем лучше к Никольским воротам.
– А вам, батюшка, пройти, что ль? – спросил Ферапонт. – Так прикажите, я как раз дорожку прочищу.
– Вишь, какой Еруслан Лазаревич! – сказал Колобов. – Нет, брат, тут на силу не возьмешь.
– А вот посмотрим! – прошептал Ферапонт. Он уперся могучим плечом в толпу, понатужился, двинул – и вся эта плотная масса народа заколебалась.
– Тише, тише! – раздались голоса впереди.
– Батюшка, давят! – закричали под воротами. – Смерть моя!.. раздавили!.. Куда ты, разбойник этакий!.. Тише, тише!.. – Но Ферапонт, не обращая внимания на все эти вопли и ругательства, продолжал медленно подвигаться вперед, а за ним Левшин и Колобов.
– Уф, жарко! – сказал он, отдуваясь, когда они выбрались наконец за ворота. – Ну, тесно! Еще бы этак саженей десятка три-четыре, так и я бы из сил выбился!
– Экий бык! – промолвил Колобов, глядя с удивлением на Ферапонта. – Однако ж, брат, ступай и здесь передом: вишь народу-то набралось! А, чай, там, около Грановитой палаты, хоть по головам ходи.
И подлинно, вся нынешняя Дворцовая площадь запружена была народом. Несмотря на охранную стражу, составленную из стрельцов Сухарева полка, толпы всякого рода и звания людей ежеминутно прорывались к Красному крыльцу, которое было все усыпано народом. Ферапонт принялся снова работать плечами, валя народ направо и налево, и лишь только потряхивал курчавою головою, когда какой-нибудь невежливый кулак задевал его по затылку. Вот наконец наши приятели протеснились до Красного крыльца и, оставив Ферапонта внизу, начали взбираться по лестнице. Мимоходом они заметили, что большая часть людей, захвативших все входы в Грановитую палату, состояла из раскольников: у каждого за поясом четки, у иных в руках книги и почти у всех за пазухой каменья. Все эти раскольники были в каком-то исступлении, и у некоторых лица выражали такое нечеловеческое зверство и остервенение, что страшно было на них взглянуть.
В сенях перед Грановитой палатой столпилось человек двести этих бешеных изуверов – пройти было невозможно.
– Посторонитесь, ребята! – сказал Левшин. – Мы идем в Грановитую палату.
– Постоите и в сенях! – промолвил один высокий старик в длинном балахоне.
– Говорят вам, посторонитесь! – повторил вспыльчиво Левшин.
– А тебе говорят, стой там, где стоишь!.. Вишь, какой выскочка!.. Да не пыли, не пыли, молодец, надорвешься.
Колобов толкнул локтем Левшина и, оборотясь к старику, сказал вполголоса:
– Экий ты, братец какой!.. Да там в палате, чай, православных меньше, чем никоновцев, так что ж вы своих-то не пускаете? Ведь этак мы не одолеем.
– А вы разве наши?
– Ваши, ваши! – шепнул Колобов.
– Посторонитесь, правоверные! – закричал старик.
Толпа расступилась. У дверей Грановитой палат стоял довольно сильный отряд из стрельцов и детей боярских; разумеется, Колобов и Левшин, как стрелецкие начальные люди, были пропущены. Они вошли в палату, и вот что представилось их взорам: на царском месте сидели цари Иоанн и Петр Алексеевичи; рядом с ним, по левую сторону, сидела на великолепных креслах соправительница, царевна Софья Алексеевна, подле нее вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великие княжны Татьяна Михайловна и Мария Алексеевна. Потом на скамьях, которые тянулись вдоль стен всей палаты, размещены были по старшинству думные бояре, окольничии и прочие государственные и придворные сановники. По правую сторону царского места сидел святейший патриарх Иоаким; одиннадцать митрополитов, четыре архиепископа, два епископа и все московские архимандриты. С обеих сторон царского места стояли рынды, младшие придворные чины и человек пятьдесят вооруженных жильцов, одетых в шелковые разноцветные терлики. Вся середина палаты была занята толпою раскольников: тут были люди всех званий, и в том числе многие принадлежащие, по-видимому, к духовному сословию. Это были беглые чернецы, выгнанные из монастырей послушники и расстриги из белого духовенства; одни из них держали в руках иконы, другие огромные зажженные свечи. Впереди этой буйной сволочи стоял перед налоем расстрига Никита Пустосвят. По обеим сторонам у входа в Грановитую палату толпились стрельцы разных полков со своими начальниками. Колобов присоединился к отряду Сухарева полка; Левшин стал подле него. Когда они вошли в палату, дьяк Борис Протасов читал, по приказу царей, челобитную Никиты, в которой этот мятежный расстрига, называя себя и своих единомышленников православными, а все духовенство, начиная с патриарха, отступниками от истинной веры, требовал собора для всенародного обличения всех последователей, по словам его, нечестивой никонианской ереси. Когда челобитная была прочтена, Никита и некоторые из его сообщников, ссылаясь на принесенные ими древние рукописи, начали в самых дерзких и обидных выражениях обвинять духовенство в злоумышленном искажении церковных книг. Святейший патриарх и митрополит Астраханский Никифор ответствовали им, что сделанные при патриархе Никоне поправки в церковных книгах были необходимы, что некоторые списки, при сличении их, оказались несходными меж собою и что даже многие из прежних переводов греческих церковных книг не во всем были сходны со своими подлинниками. Но все эти доказательства, основанные на истине и здравом смысле, остались тщетными. Грубое невежество и эта фарисейская гордость, которую мы называем фанатизмом, ненавидят истину. Многоречие, пустословие, превратное толкование текстов и насилие – вот их здравый смысл и логика. Вместо того чтоб слушать с должным уважением слова своих духовных пастырей или, по крайней мере, возражать им с кротостию и приличием, Никита и его сообщники, забыв, что находятся в присутствии самих царей, подняли такой неистовый крик, что заглушили совершенно речи архипастырей и не давали им выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видеть людей и пообразованнее раскольников, которые полагают, что победили своих противников, потому что им удалось их перекричать, – так удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя победителями, приступили смело к главной своей цели, то есть к торжественному проповедованию, в присутствии царей и всего духовенства, своих невежественных бредней и богопротивной ереси; но тут восстал против них архиепископ Холмогорский Афанасий. Он некогда разделял сам заблуждения этих последователей аввакумовского раскола и, следовательно, знал лучше других, на чем они основывали свои превратные понятия о вере. На все их лживые умствования он возражал словами Спасителя, его апостолов, святых отцов и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличал всю нелепость их противозаконных толков и верований; но это вовсе не усмирило, а только привело в большую ярость мятежников. Эта, по словам летописца, «гидра изуверия» чем более была поражаема, тем страшнее становилась. Угрозы заступили место доказательств, и расстрига Никита, видя себя совершенно побежденным, в безумной ярости бросился на архиепископа Афанасия и ударил его в грудь. Это буйное святотатство было началом всеобщего смятения. Исступленные крики и неистовые вопли мятежников заглушили все. Раскольники, бывшие в сенях, сломили стражу и ворвались в палату; те, которые стояли на Красном крыльце, обратились к народу и начали кричать: «Ступайте, православные, спасайте церковь! На соборе насилие! Никоновцы бьют православных!» В самой палате раздавались везде мятежные крики. «Очистим от хищных волков церковь! – вопили раскольники. – Истребим всех слуг антихристовых!» В эту минуту общего смятения царь Иоанн Алексеевич, Софья Алексеевна и весь двор, по выражению того же летописца, в несказанном страхе и слезах ушли из палаты, и на царском месте осталось одно десятилетнее дитя; но это дитя был Петр. Окинув смелым взглядом мятежную толпу, он встал, снял с головы своей царский венец и детским, но уже мощным голосом сказал: «Пока этот венец на главе моей и душа в теле, не попущу воевать святую церковь: и, как я сам нарицаю ее матерью и верю, что она есть правая и истинная, так и всем повелеваю верить! Ну что ж вы? – продолжал он, обращаясь к стрельцам, и грозный взор его засверкал гневом. – Берите этих крамольников!» В одно мгновение все изменилось. Голос царя русского, как глас Божий, поразил мятежников. Стрельцы, державшие сторону раскольников, выдали их с руками. Левшин первый с обнаженною саблею кинулся в толпу, а за ним все те из стрельцов, которые не принадлежали к расколу. В несколько минут зачинщики были схвачены, и все их сообщники выгнаны из палаты.
Во все это время юный государь стоял на царском месте; его грозный, но спокойный взор был устремлен на толпу стрельцов, которые не принимали участия в усмирении мятежников; казалось, он чувствовал, что только один всемощный взор помазанника Божия мог сковать буйную волю крамольных стрельцов, готовых стать грудью за своих сообщников. Когда в палате не осталось ни одного раскольника, то державшие их сторону стрельцы стали также выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушив все замыслы дерзких бунтовщиков, превратила их в толпу робких преступников, которые помышляют только о том, чтоб избегнуть заслуженного наказания. Одни из них пробрались потихоньку на Лыков двор – этот главный притон мятежных стрельцов, а другие присоединились даже к тем, которые гнали из Кремля раскольников. Вскоре не осталось во всей Грановитой палате никого, кроме государя Петра Алексеевича, нескольких ближних его бояр и всего духовенства. Тогда началось умилительное зрелище, о котором повествуют летописцы. Престарелый патриарх Иоаким, а вместе с ним и весь священный синклит, спасенный единым словом державного отрока, пали к стопам его. Владыка православной церкви русской, святители московские, все пастыри духовные – старцы, поседевшие в подвигах веры, трудах и молитвах, – у ног десятилетнего ребенка!.. Но этот ребенок был уже великий муж духом, мудростью и силой своей непреклонной воли.
Когда Дворцовая площадь и окружные места были совершенно очищены от мятежников и вся эта сволочь, всегда дерзкая при успехе и трусливая при малейшем сопротивлении, рассыпалась во все стороны, Левшин, который во время этой суматохи разлучился с Колобовым, встретился с ним опять у подворья Крутицкого монастыря.
– Это ты, Левшин? – вскричал Колобов. – Ну, слава тебе, Господи! А я уж было совсем отчаялся, думал, что ты попал в руки к твоим злодеям.
– Нет, Бог помиловал.
– Погоди-ка, брат! – сказал Колобов.
Он поглядел кругом; казалось, все было спокойно; изредка прокрадывался около стенки какой-нибудь гражданин, робко озираясь крутом; кой-где мелькали черные рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось из Грановитой палаты в Чудов монастырь, и только вдали, у Спасских ворот, слышны были крики стрельцов, которые продолжали гнать из Кремля остальной народ.
– Смотри-ка, – сказал Колобов, – давно ли здесь негде было и яблоку упасть, а теперь хоть шаром покати!.. Зато, чай, на Красной площади народ так и кипит!. Делать-то нечего, брат: придется тебе пообождать.
– Да, – отвечал Левшин, – теперь вряд ли я доберусь благополучно до Мещовского подворья.
– Тише, тише, братец!.. Что ты кричишь! – прервал Колобов, озираясь. – Ну, если кто-нибудь подслушивает…
– Да ведь мы здесь одни.
– Нет, брат, не одни!.. Кажись, там за углом кто-то кашлянул.
– Я ничего не слышал.
– А вот посмотрим.
Колобов обошел кругом подворья.
– Ну, что? – спросил Левшин.
– Теперь никого нет. Только вот что, Дмитрий Афанасьевич: как я зашел за угол, показалось, что кто-то юркнул к Шереметеву.
– Кто-нибудь из его холопей.
– Статься может, а все-таки лучше будешь поопасливее… Чу, слышишь, как шумят на площади?
– Слышу, братец.
– Да вот скоро разбредутся. Время обеденное – пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрий Афанасьевич, хорошую было кашу заварил этот Никита, как-то ему придется ее расхлебывать!.. Веришь ли, братец, очнуться не могу! Как это нам помог Господь?.. Ведь в палате, кроме наших сухаревских, почитай все стрельцы были за раскольников; с тем и пришли, чтоб за них стоять.
– Да, Колобов, кабы не батюшка Петр Алексеевич…
– Да, да!.. Исполать ему! Как он встал на своем царском месте, так, веришь ли Богу, показался мне выше тебя!.. Подумаешь: всего десять годков – что ж будет, как он подрастет?.. Ну, Дмитрий Афанасьевич, вот это царь так царь!
– И все его покинули! – сказал Левшин. – Оставили одного посреди мятежников!..
– В том-то и дело, братец!.. Ох, матушка Софья Алексеевна! Хитрая ты, а все не будет по-твоему: кого Господь Бог хранит, тому люди ничего не сделают. Вот хоть ты, Левшин: видел ли, как в палате смотрел на тебя полковник Чермнов? Вот так бы и проглотил живого! И негодяй Чечотка и Федька Лутохин глаз с тебя не спускали, – а что они тебе сделали?
– Не до того было, братец.
– И ничего не сделают! Ты, Левшин, видел ли в палате боярина Кириллу Андреевича Буйносова?
– Нет, не видел.
– А он тебя видел, долго шептался с нашим воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и они оба на тебя смотрели.
– Так ты думаешь, князь Хованский за меня заступится?
– А как же?.. Он для Кириллы Андреевича все на свете сделает; только теперь-то не попадись в руки к твоим злодеям, а уж там дело как-нибудь уладят.
– Постой-ка, – сказал Левшин, – кажется, и на площади все утихло. Не пора ли нам идти?
– Ну, пожалуй! Пойдем к Спасским воротам, а там посмотрим.
Левшин и Колобов дошли до Вознесенского монастыря, не встретив почти никого; но когда они вышли за Спасские ворота, то увидели, что на Красной площади много еще было стрельцов и народ толпился около Лобного места.
– Погоди, брат! – сказал Колобов. – Вот, кажется, идут сюда стрельцы моей сотни… Ну, так и есть! Ивашка Троцкий… вон Ларька Недосекин… Знаешь ли что? Я вместе с ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдем кучкою, ты в середине: там никто тебя не увидит.