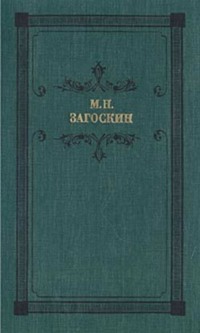Полная версия
Брынский лес
Зарядье, то есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти из одних въезжих домов, подворьев и харчевен; только теперь этот набережный квартал Китай-города застроен весь каменными домами, а тогда, за небольшим исключением, они все были деревянные. Нынешние постоялые дворы по большим дорогам могут дать понятие о тогдашних подворьях Зарядья; они были только гораздо обширнее и вместо одной большой избы составлялись иногда из трех или четырех изб, соединенных меж собою крытыми переходами; тут были и зимние теплые хаты с широкой печью и полатями, и летние светлицы с красивыми резными скамьями, дубовым чистым столом и оловянным висячим умывальником. Лучшим украшением этих изб и светлиц были, так же как и теперь, живописные иконы; перед ними обыкновенно теплилась лампада, а из-за них виднелась ивовая лоза, то есть верба, которая сменялась однажды в году после заутрени на Вербное воскресенье. Иногда также на одной полке с образами стояла склянка с богоявленской водою и лежало яйцо, которым хозяин и хозяйка дома похристосовались в последнее Светлое воскресенье со своим приходским священником.
Левшин и Колобов, спустясь по лестнице в Зарядье, прошли шагов двести вдоль прямой улицы, которая вела к Москве-реке; потом, повернув налево в кривой и грязный переулок, остановились подле ворот, занимающих промежуток между двумя высокими избами. Обе эти избы были в два жилья, крыты гонтом и украшены резными коньками и узорчатыми подвесками.
– Ну, вот и Мещовское подворье! – сказал Колобов. – Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! Ты дома, что ль? – закричал он, подойдя к открытому окну одной из изб.
– Кто тут? – раздался в избе пискливый голос, и в небольшое окно сначала высунулся огромный красный нос, а потом вдвинулось, как в тесную раму, толстое, брюзглое лицо с отвисшим подбородком.
– Здорово, Архиповна!
– Ах ты, сокол мой ясный, Артемий Никифорович, – пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самым приветливым образом. – Милости просим, батюшка. Пожалуйте, пожалуйте! Калитка отперта.
Наши приятели взошли со двора в небольшие сенцы, в которых встретила их хозяйка дома, толстая, здоровая старуха, в поношенной камчатой телогрее и красной камлотовой юбке. Голова ее была повязана шелковым платком и, как видно, на скорую руку, потому что Колобов, взглянув на нее, засмеялся и сказал:
– Здравствуй, Архиповна! Что это у тебя шлык-то на стороне?
– Торопилась, батюшка, торопилась! – отвечала старуха, поправляя свой головной убор. – Ведь хуже, если бы вы застали меня простоволосою. Милости просим в мою келью, господа честные, милости просим!
Стрельцы вошли в небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшин, который был высокого роста, едва не доставал головою до потолка. В переднем углу, на полке, вместо обыкновенных живописных икон, стоял огромный медный складень с выпуклыми изображениями святых и висели на гвоздике кожаные четки.
– Архиповна, – сказал Колобов, – я привел к тебе этого молодца; он так же, как я, стрелецкий сотник.
– Вижу, батюшка, вижу!
– Мы с ним задушевные приятели – крестами давно поменялись.
– Сиречь вы крестовые братья. Так, батюшка, так!
– Вот изволишь видеть: он позадолжал и уже его сегодня вели на правеж…
– На правеж!.. Этакого молодца и красавца!.. Помилуй Господи!.. Видала я, как на этих правежах бьют прутьями по ногам. Мука, батюшка, мука!
– А делать-то нечего, Архиповна; если б он не ушел, так пришлось бы ему стоять босиком перед приказом.
– Полно, так ли, Артемий Никифорович? Уж не хотели ли его только пугнуть? То ли время теперь, чтоб стрелецкого сотника отдавать на правеж!.. Да какой купец или горожанин посмеет…
– Вестимо, Архиповна, купец не посмеет, да он задолжал не купцам, а своей братье, начальным стрелецким людям.
– Вот что!.. Ну, это иная речь, батюшка: тут уже за него вступиться будет некому.
– Денька через три он как-нибудь справится и заплатит, да теперь-то не может, так, знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать, понимаешь?
– Смекаю, батюшка.
– Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголок.
– Как бы не найти, да на тот грех все мое подворье битком набито приезжими – и все, батюшка, издалека, все люди нашей старой веры, со всех мест: с Поморья, с Вятки, из Брынских лесов… Говорят, будто бы собор будет и наши станут спорить с никоновцами и отстаивать истинную веру… Помоги им Господи!
– Эх, не о том речь, бабушка! Ты мне скажи: неужели-то у тебя нет ни одного порожнего уголка?
– Есть-то есть, кормилец! На заднем дворе знатная светелка! И лесенка в нее особая.
– Так чего же лучше!
– А вот что, Артемий Никифорович: рядом-то с нею другая светелка, да снизу еще два покоя, – и в них во всех живет один приезжий…
– Ну, так что ж?
– Жилец-то, батюшка, не простой…
– Да не боярин же какой-нибудь!..
– Боярин не боярин, а кабы вы знали, кто у него вчера был тайком…
– А кто, бабушка?
– Да ведь вы, пожалуй, разболтаете…
– Нет, Архиповна, нет! Говори смело.
– К нему вчера, – продолжала старуха шепотом, – приходил в сумерки один-одинехонек… сама, батюшка, видела, своими глазами…
– Да кто?
– Ваш набольшой-то воевода…
– Князь Иван Андреевич Хованский?
– Он!
– Вот что?.. Да нет ли у твоего жильца дочки?
– И, полно!.. Что ты, греховодник!.. Ну, конечно, дочка есть, – да то-то и беда: она живет в светлице; так если узнают, что я под бок к ней посадила такого молодца…
– Да ведь, чай, между ним и этой красавицей стена будет?
– Какая стена… так, из дощечек; и на беду, и двери есть; хоть они и заколочены, а все, батюшка, как-то непригоже…
– Знаешь ли что, Архиповна: если тебя спросят, так ты скажи, что пустила в эту светелку недужного человека, старика… Ведь он никуда выходить же не станет, и всего-то на три дня…
– Правда, дочка-то приезжего, – продолжала Архиповна, – днем только сидит в светлице, а ночует, обедает и ужинает внизу.
– Так чего же ты боишься? Лишь только эта красавица в светлицу, так он притаится, как заяц под кочкой. Ей и в голову не придет, что подле нее живут.
– Ну, ин быть по-вашему! Только смотри, молодец, живи смирно, чтоб тебя и слышно не было.
– Да уж не опасайся! – прервал Колобов. – Ведь и он у меня ни дать ни взять красная девушка.
– Я затем это говорю, батюшка, что этот жилец-то, кажись, от всех прячет свою дочку, – и мне даже не дал перемолвить с ней ни словечка, у них дверь всегда на замке.
– А отец Левшин.
– Нет, батюшка, и он и служитель его часто выходят: их и теперь нет дома. Работница его, Дарья, также забежит иногда ко мне; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пяди: весь день сидит одна-одинехонька да вышивает на пяльцах. Вот была в Москве, а Москвы не видала!
– Так это дело слажено, – сказал Колобов. – Что придется за постой и за хлебы, считай на мне, а теперь веди-ка нас скорей в светлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно станут пытать, не живет ли у тебя какой стрелецкий сотник…
– Так я, батюшка, хоть образ со стены сниму. Не живет, да и только! И почему мне знать, что он стрелецкий сотник? Мое дело бабье! Пожалуйте…
Левшин и Колобов, вслед за хозяйкою постоялого двора, прошли задними воротами на другой двор, застроенный клетьми и амбарами, посреди которых стояла высокая изба в два жилья и с двумя крыльцами, одно с лицевой стороны под дощатым навесом, который поддерживали красивые балясы, другое сбоку и без всяких украшений. Архиповна пробралась сторонкой, завернула за угол избы и по крутой лесенке ввела стрельцов в небольшие сени.
– Постойте-ка на минуту, молодцы, – сказала она, – я пойду взгляну, где моя жилица.
– Да разве ты, бабушка, сквозь стену-то увидишь?
– И, кормилец! В дощатой стене всегда щелочки есть, – отвечала Архиповна, входя в светлицу.
– Слышишь, Левшин? – сказал Колобов. – Смотри же, брат, скажи мне, хороша ли твоя соседка. Ведь тебе делать-то будет нечего, сиди себе у стенки да в щелку и посматривай.
– Ступайте, господа честные, – промолвила Архиповна, растворяя дверь. – Жилица моя внизу.
Наши приятели вошли в небольшую светелку с одним окном.
– Вот, батюшка, – сказала Архиповна, обращаясь к Левшину, – там под лавкой лежит войлочек. Не прогневайся, лишней перины у меня нет да и подушечек-то Бог не дал. Что ж делать – не взыщите!
– И, бабушка, есть о чем хлопотать! – прервал Колобов. – Была бы только крыша. Ведь наш брат, ратный человек, ходя наестся и стоя выспится.
– А что, молодец, – сказала Архиповна, обращаясь к Левшину, – не принести ли тебе поужинать?
– Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану, – отвечал Левшин.
– Что ты, что ты, кормилец! Без ужина да без молитвы никогда спать не ложись…
– Нет, любезная, я есть не хочу.
– Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.
– Не тронь его, Архиповна, – прервал Колобов. – Коли он не хочет есть, так я за него поем; ты же ономнясь хвалилась, что у тебя есть астраханская белужина.
– Есть, батюшка!.. Да есть также и малиновый медок, – вот тот самый, что ты жаловать изволишь.
– Право? Так я, бабушка, к тебе заверну.
– Милости просим! А твоему крестовому братцу, видно, уж принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодец? Я сама тебе состряпую. Хочешь ли перепечу крупичатую или курник с яичной подсыпкою?
– Все равно, бабушка, все равно!
– Нет, батюшка, не все равно: перепеча перепечей, а курник курником.
– Ну, как сама хочешь.
– Так лучше курник – это будет посытнее. Теперь пойду на ледник, нацежу свеженького медку жбан, да уж так и быть… редкий гость!.. есть у меня заветная наливочка: прошлого года гостинец из Черкас привезли… Ну уж, батюшка, есть чем почествовать, – сластынь такая, что и сказать нельзя!.. Прощенья просим!.. Мотри же, Артемий Никифорович, я буду тебя дожидаться.
– Да не бойсь, Архиповна, припасай только нам своей аленой наливки-то, а уж мы твои гости.
– Так я пойду. Счастливо оставаться, господин честной!.. Спокойной ночи, крепкого сна… Ох, да натощак-то какой сон!
– Засну, бабушка! – сказал Левшин, улыбаясь. – Прощай!..
– Насилу ушла! – промолвил Колобов, когда Архиповна вышла из светлицы. – Старуха добрая, а уж куда здорова болтать. Ну, брат Левшин, ты сам покамест пристроен к местечку, теперь надо подумать о твоих домашних. Тебя эти разбойники не захватят на дому, да зато уж все твое доброе подымут на царя, заберут твоих служителей, начнут от них выпытывать, где ты, – замучат их сердечных!
– Я этого не боюсь, – сказал Левшин. – Ведь я еще и сам в доме-то не был.
– Как так?
– Да так. Я сегодня около вечерен приехал сюда налегке с одним знакомым купцом из Ростова. Он приехал к своему родному брату, который служит поддьяком в Холопьем приказе, а тот не хотел отпустить меня без угощения; рассказал мне почти со слезами обо всех безбожных делах этих окаянных мятежников, – и я прямо из его дома пришел на Красную площадь, где с тобой и повстречался.
– Так ты один приехал из Костромы?
– Нет. Мой слуга Ферапонт и конюх едут на долгих. После покойного дядюшки досталось мне много всякого добра…
– А, вот что! Так у тебя обозец сюда идет?
– И коней ведут, двух персидских аргамаков. Одним из них тебе челом бью, Артемий Никифорович.
– Спасибо, Дмитрий Афанасьевич!
– А другого оставлю для себя; Султаном зовут. Что за конь, братец!.. Ферапонт никогда не бывал в Москве, так я велел ему дожидаться меня по Троицкой дороге у креста.
– Когда ты их ждешь?
– Да завтра поутру должны быть.
– Так я вместо тебя их встречу.
– А я было сам думал…
– Нет, братец, погоди!.. Неравно еще наткнешься на кого-нибудь из своих товарищей. Уж верно они обо всем донесли полковнику Чермнову; чай, он теперь и рвет и мечет. Вот как перейдешь в наш полк, так ты себе перед ним хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты у него под началом, так он может тебя и силою потянуть на расправу… Э! Да постой-ка!.. Ведь ты никак знаком с боярином Кириллою Андреевичем Буйносовым?
– Как же! Он очень любил моего покойного батюшку и меня изволит жаловать.
– Так я завтра же поутру у него побываю. Я слышал, что он живет в ладу с нашим главным воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и коли замолвить ему словечко, так тебя завтра же переведут в наш полк. Ну, брат Левшин, делать нечего, пришлось тебе жить затворником!.. И то сказать – вперед наука! Думай, что хочешь, а языку-то воли не давай. Плетью, брат, обуха не перешибешь. Ты лучше по-моему: сиди у моря да жди погоды; будет и на нашей улице праздник: не все станут мирволить этим крамольникам. Дай только подрасти нашему батюшке, Петру Алексеевичу, так он приберет к рукам и их и сестрицу свою, – промолвил вполголоса Колобов. – Да что об этом толковать – не наше дело!.. Прощай, брат, до завтра! Пойду смаковать хваленой наливочки… а ты смотри – на улицу ни ногой!.. Да не забудь, Левшин, я завтра спрошу тебя: хороша ли твоя соседка?
Простившись со своим приятелем, Левшин сел на лавку и призадумался не о том, что он должен был скрываться, как преступник, что неосторожной речью восстановил против себя своих сослуживцев, – нет! Чистая и благородная душа его не терпела немоты. Он не мог не высказать того, что было у него на сердце, и повторил бы снова те же самые слова перед всем полком своим. «Умереть за правду весело, – думал он, – а грустно жить таким круглым сиротою. Что я? Без отца, без матери, без кровных… Я теперь богат, а на что мне это богатство? Кого я им порадую?.. Ах! Зачем Господь не послал мне подругу по сердцу!.. Я желал бы, чтобы она была бедна: я осыпал бы ее жемчугом, одевал бы в парчу, тешил бы, как малое дитя… а теперь кого я потешу, кому скажу: “Ты делила со мной и бедность и горе; у нас все было пополам, – так раздели же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтоб и мне было весело; будь счастлива, чтоб и я, глядя на тебя, был счастлив?..” Почем знать, может быть, злодеи отыщут меня… Они не пощадили и родственников царя, так что же для них убить беззащитного бобыля, без рода и племени. Почем знать, может быть, завтра или через несколько дней меня не станет, и некому будет поплакать о горькой доле бедного сироты, и разве только добрый Колобов, да и то тайком, отслужит панихиду за упокой души раба Божьего Дмитрия!»
Никогда еще Левшин не чувствовал так сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нет! Никакие дружеские связи, никакая приязнь не могут заменить для души нашей ласки отца и матери, привет родных сестер и братьев и эту святую, неизменную любовь доброй жены, которая – я уверен в этом – и, умирая, не покидает своего мужа! Она изменяет только свое название и вместо жены становится его ангелом-хранителем!.. Мы, дети девятнадцатого столетия, чтоб рассеять грустные мысли, отправляемся в театр, скачем на гулянье, едем на бал, – а тоска за нами следом: от нее никуда не ускачешь! У наших предков было средство повернее этого. Когда их мучила грусть, томило уныние, они молились Богу, и горький плач скорби превращался в тихие слезы умиления; а эти слезы… о, верьте мне! Как роса небесная для цветка, попаленного зноем, так эти слезы для души, истомленной земною горестью! – Левшин прибегнул к этому средству – и, когда усердная молитва облегчила его душу, он прилег на жесткий войлок, положил под голову свое платье и, как на мягком пуховике роскошного богача, заснул самым тихим и спокойным сном.
IIIЛевшин проснулся рано поутру и едва успел одеться и помолиться Богу, как вошла к нему Архиповна, неся на деревянном блюде завтрак.
– Ну, вот, батюшка, – сказала она, – изволь покушать моей стряпни. Я принесла к тебе спозаранок затем, чтоб ты позавтракал, прежде чем твоя соседка придет в светлицу. Что, молодец, проголодался?.. Чай, у тебя сна вовсе не было?
– Нет, бабушка, я спал хорошо.
– Ну, диво! А я, грешница, коли не поужинаю вдоволь, так во всю ночь глаз не сведу… Поболтала бы я с тобой, да некогда: пора на рынок идти… Ох, сердечный! Скучно тебе будет, не с кем словечка перемолвить; а если б и было с кем, так придет твоя соседка, и ты хочешь или не хочешь, а молчи… да уж помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, в слово.
– И ты думаешь, Архиповна, соседка не догадается, что подле нее живут? Что же мне целый день не пошевелиться.
– Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хворого старичка. А как начнешь говорить, так не поверят: голос-то у тебя не стариковский. Ну, изволь же, батюшка, покушать на здоровье моего курника!.. Да вот тебе на этом кулечке калачик, крупичатый хлеб, штофик с медом, а в сенях я поставила кувшин с водою… Прощай покамест, молодец!.. Пораньше-то на рынке из первых рук купишь, – продолжала Архиповна, уходя, – а только опоздай немного, так они, окаянные прасолы, все захватят. Ведь теперь на перекупщиков, – промолвила она, остановясь в дверях, – никакой управы не найдена. Не прогневайся, они, почитай, все стрельцы… Ох! Батюшка, жутко нам от них приходится: все забирают в свои руки!
Несмотря на приглашение гостеприимной хозяйки, Левшин не дотронулся до завтрака; ему было совсем не до того: он чувствовал, что с ним происходит что-то небывалое; он не мог присесть на одном месте; кровь приливала беспрестанно к сердцу, которое поминутно замирало от какого-то тревожного ожидания. Вчера еще он вовсе не думал о своей соседке, а теперь, бог весть почему, она не выходила у него из головы. Сначала он сам не понимал, отчего желает с таким нетерпением увидеть вовсе не знакомую ему девицу, быть может, весьма непригожую собою; но, наконец, какое-то темное и в то же время непреодолимое предчувствие овладело совершенно его душой. Оно как будто бы говорило ему: «Вот здесь, за этой перегородкой, живет та неизменная подруга, неразлучная спутница в жизни, которая предназначена тебе от Господа». Нетерпение его умножалось с каждой минутою. Вот прошел час, другой… «Полно, придет ли она сегодня? – думал Левшин, ходя взад и вперед по своей тесной горенке. – Уже солнце высоко! Скоро благовест начнется… Чу!.. Вот и загудел Успенский колокол!.. Пора бы, кажется». Несколько раз подходил он к дощатой стене и смотрел в щелку, хотя всякий раз видел одно и то же: чистую светлицу, побольше той, которую он занимал, лежанку из белых изразцов, скамью, стол, а на столе большие пяльцы. Но вот наконец послышался шорох… Левшин прижался к перегородке и затаил дыхание… Двери в светлицу отворились, и вошла женщина среднего роста; но прежде, чем Левшин успел взглянуть на ее лицо, она обернулась спиною к перегородке, чтоб, по тогдашнему благочестивому обычаю, помолиться пред иконами. Как ни коротка была эта молитва, но Левшин успел полюбоваться прекрасным станом своей соседки. Она была в шелковом сарафане, с непокрытой головой, которую опоясывала одна только алая ленточка; ее заплетенные в широкую косу волосы, черные и блестящие, как вороное крыло, опускались почти до самой земли; на ногах ее были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки восьмилетнего ребенка. Когда соседка его, помолясь перед иконами, обернулась к нему лицом, он едва мог удержаться от невольного восклицания… Нет! Никогда и в самых пылких мечтах своих не создавал он существа прелестнее этой красы-девицы, которая теперь представилась ему наяву! Вы, может быть, знаете из старинных песен, что тогдашний идеал женской красоты немного имел в себе романтического. Белизна, дородность и яркий румянец на щеках составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшин смотрел с таким упоением на эту девицу с гибким станом и почти бледными щеками? Уж не потому ли, что истинная, совершенная красота, несмотря на условные и весьма различные понятия о красоте, просто и без всякого отчета пленяет нас своей неизъяснимой прелестью?.. Вероятно, Левшин не думал ничего подобного, все чувства его слились в одно зрение. Он не рассуждал, а смотрел только с восторгом на эти черные, задумчивые глаза, в которых выражалось какое-то спокойное уныние и тихая кротость младенца, на эти алые уста, на это белое, как снег, девственное чело, на эти обворожительные ямочки на щеках и мелкие, ровные зубы, которые блеснули, как чистый жемчуг, когда красавица, взглянув на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будет доволен! У него еще не было такого нарядното ручника». Эти слова были сказаны таким звучным и очаровательным голосом, что в наше время какой-нибудь меломан назвал бы его музыкальным. Девица, полюбовавшись несколько времени своей работой, села за пяльцы. С полчаса Левшин не отходил от перегородки; он не спускал глаз со своей красавицы, следил за каждым ее движением, и когда она встала, чтобы достать кошелек, который лежал на полке, то сердце в нем замерло от испуга. Он подумал, что его соседка хочет уйти. Прошло еще несколько минут, красавица перестала работать, облокотилась на стол и задумалась. По-видимому, эти размышления были не очень приятны, потому что ее светлые очи затуманились и налились слезами.
– Да что это он мне все мерещится, – шепнула она, – и во сне и наяву!.. Ах, зачем я его видела! Прежде мне было только скучно, а теперь!..
Тут снова послышался шорох.
– Это ты, Дарья, – спросила девица тихим и приветливым голосом.
– Я, матушка, – отвечала входившая в светлицу толстая, здоровая девка в крашенинной душегрейке, затрапезной юбке и кожаных чеботках, надетых на босу ногу.
– Батюшка дома?
– Нет, ушел вместе с Антоном… Не с кем словечка перемолвить!.. Я было толкнулась к хозяйке, и та на рынок ушла… вот я, Софья Андреевна, к тебе; все-таки вдвоем повеселее… Да что это?.. Никак, ты плачешь?..
– Нет, Дарья, так…
– Как так!.. Смотри-ка, смотри! Слезы так и льются!..
– Скучно, Дашенька, грустно!
– И, матушка! О чем тебе грустить? – сказала Дарья, садясь на скамью. – Уж тебя ли батюшка не лелеет!.. Чего у тебя нет?.. И платья шелковые, и дорогие монисты, и жемчужные ожерелья…
– Жемчужные ожерелья!.. А на что мне они?..
– Как на что?.. Открой скрынку, да и любуйся?.. Нет, Софья Андреевна, не гневи Господа!.. Коли твое житье не житье, так что же наше?.. Вот ты захотела Москву посмотреть, – батюшка тебя в Москву привез…
– В Москву!.. Так, по-твоему, этот постоялый двор – Москва?
– А как же!.. Разве ты из своей светлицы Ивана Великого не видишь?
– Москва!.. – повторила вполголоса девица. – Да неужели в самом деле я вижу Москву в первый раз?
– Вестимо в первый, матушка.
– Так отчего же мне кажется… Кремль, соборы, Иван Великий… да, да! я уж их когда-то видела… Ах, как мне тяжело!.. Вот так и хочется о чем-то вспомнить… Да нет, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня в голове бывает иногда – ну точь-в-точь как ночью, когда начинает заниматься заря… станет светлеть… светлеть… Вот, смотришь, сейчас и солнышко взойдет… вдруг набегут тучи, все потускнеет, подернется мглою, и опять потемки – опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ехали Москвою, я вдруг вскрикнула?
– Помню, матушка!
– А знаешь ли отчего?
– Да оттого, что к нам в повозку заглянули пьяные стрельцы.
– О нет! Я их не видела.
– Так отчего же?
– А вот отчего: мы проехали мимо большого дома с высоким теремом. Как я на него взглянула, так у меня сердце и забилось!.. Ведь этот дом… Ну вот, ты опять станешь надо мной смеяться…
– Нет, не стану. Ну, что этот дом, Софья Андреевна?
– Да, да! Этот дом, два крыльца с большими навесами, терем с тремя окнами, белая каменная кладовая с железной дверью – все это показалось мне знакомым, родным, вот так бы туда и бросилась… Помнишь, как я заплакала?.. Ты, верно, думала оттого, что меня напугали стрельцы?.. Нет, Дашенька, мне жаль было расставаться с этим домом.
– И, матушка, ты опять за старое! Ведь уж столько раз тебе толковали, что лет пятнадцать тому назад – тебе еще было тогда годка четыре – ты была при смерти больна и как выздоровела, так забыла все прежнее, а помнила только то, что видела в бреду.
– В бреду!.. Ах, как это чудно!.. Я и теперь как будто бы сквозь сон, а помню… Даша! Ведь у меня сестер не было?
– Не было, матушка.
– А мне, помнится, их было много… и маленькая и большая… У меня и матушка была…
– Ну, конечно, была; да только ты ее не помнишь. Батюшка твой сказывал, что тебе и году еще не было, как она умерла.
– Ах, нет, Даша!. Я говорю о другой, – ну вот что я во сне-то видела… Постой! – продолжала девица, приложив руку к голове. – Да, да!.. У меня и отец также был, только совсем не такой, как батюшка… и матушка у меня была, и нянюшка… Погоди, погоди! Кажется, я начинаю вспоминать… Мы все едем, едем!.. А какой-то темный лес… а там… Да помню… мне что-то сделалось очень страшно… со мной никого нет, ни матушки, ни нянюшки… А там я как будто бы заснула. О, долго, долго спала… А что было после – ну, уж этого, Дашенька, я никак не могу вспомнить!..