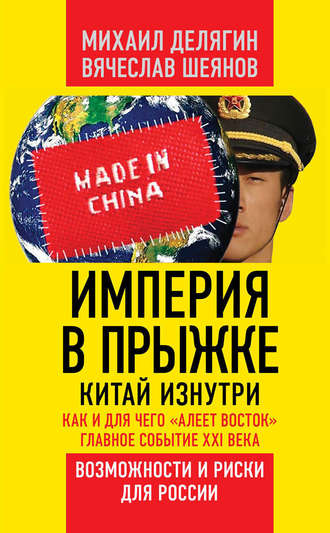
Полная версия
Империя в прыжке. Китай изнутри. Как и для чего «алеет Восток». Главное событие XXI века. Возможности и риски для России
Китайцы искренне не понимают представителей иных цивилизаций, прежде всего западной и российской, которые видят мир разъятым на отдельные элементы и ставят себя в состояние выбора некоторых из них.
Они с непередаваемой иронией говорят про это: «Вы всегда выбираете из двух зол». Ведь ситуация выбора чего-то одного из двух различных вариантов противоестественна для китайца, который инстинктивно стремится овладеть обоими и выжать из них все лучшее и полезное.
В ситуации, когда мы выбираем между черным и белым, китаец начинает искать для себя позицию, позволяющую получить и то, и другое, – и весьма часто вместо грязно-серых разводов, уже нарисовавшихся в воображении некоторых читателей, обретает радугу.
Для европейцев и их наследников мир двоичен, как электричество: есть плюс, есть минус, – и между ними, как электрический ток, течет жизнь, представляющая собой борьбу опять-таки противостоящих друг другу добра и зла.
Между тем мир един, – и странно, что мы готовы признать это только во время безответственных и беспредметных философствований, да еще во время институтских занятий диалектикой.
Ведь даже христианство бегло упоминает, что Сатана отнюдь не равнозначен Богу, но является всего лишь его падшим ангелом. Это, кстати, формальная (наряду, разумеется, с содержательными, моральными) причина того, что манихейство, то есть признание равноправия и равнозначимости добра и зла, считается тяжким грехом.
Однако малейшее размышление на эту тему приводит к крайне неприятным и даже опасным для бытовой и официальной веры заключениям: например, что в таком случае Сатана должен быть подчинен Богу и, соответственно, зло существует в мире не само по себе, а по воле и желанию Бога. Поэтому официальное богословие, уподобляясь подводной лодке, предпочитает стремительно скрыться от остроты насущных вопросов и эмоций в глубину мутных вод заумных рассуждений, периодически выплевывая на поверхность (с сопутствующими обвинениями в ереси) не в меру пытливых, чувствительных или просто честно запутавшихся в этих смертельных глубинах адептов.
Для китайца этот взгляд представляется по-детски примитивным, хотя он и признает его практическую продуктивность и с удовольствием пользуется его плодами, в том числе в виде достижений западной науки.
В отличие от европейского мышления китайское не двоично, а троично: борющиеся противоположности китайское мышление склонно воспринимать с позиции их синтеза на следующем, более высоком витке развития, после соответствующего перехода количества в качество.
Мир есть единство и борьба противоположностей, но, если западное мышление ориентируется в первую очередь на борьбу, китайское воспринимает прежде всего единство. Правда, это представляется общей особенностью восточноазиатских культур, стремящихся в качестве высшей ценности не к индивидуальному успеху, а к достижению гармонии.[10]
С точки зрения физики все сущее представляет собой единство частиц и волн: осязаемой материи и, как правило, неосязаемой энергии, а в перспективе развития науки мы от понимания единства вещества и энергии придем к пониманию единства физической и психической энергии.
Цивилизационные различия Запада и Востока проявились, в частности, в различном характере доминирующих действий, в применении усилий к различным элементам этого находящегося в единстве противоречий: материалистичный Запад занялся изучением вещей, а философствующий (и при этом далеко не всегда «духовный» в нашем понимании этого слова) Китай посвятил себя энергии.
Из этого, в частности, вытекает принципиальное различие западной и восточной медицины. Если рассматривать тему более широко, именно культурно обусловленное стремление к работе с энергией вызвало технологическое отставание Востока от Запада, так как развитие технологий основано в первую очередь именно на работе с предметами, к чему есть склонность у носителей западных, а отнюдь не восточных культур.
Возможно, именно этим объясняется один из парадоксов тысячелетней китайской истории, на протяжении которой высочайшие технологические достижения (компас, порох, ракеты) использовались преимущественно для развлечений.
Тем не менее, целостное восприятие мира, диалектическое восприятие противоположностей в их неразрывном и неразделимом единстве, синтезирующий характер мышления являются важнейшими особенностями китайской культуры и китайского сознания, определяющими в том числе и сугубо бытовую философию повседневной жизни.
1.3. Образность мышления как фактор конкурентоспособности
Китайская письменность, как и письменность других народов Юго-Восточной Азии, основана не на буквах, а на иероглифах. Каждый иероглиф имеет свое значение и звучит как один слог. Поскольку число слогов в языке ограничено и значительно меньше числа используемых понятий, возникает проблема соответствия. В устной речи она решается использованием различных тонов: одни и те же звуки в зависимости от тона, которым они произнесены, означают совершенно разные вещи.
На письме проблема решается увеличением числа иероглифов до крайних пределов: даже чтобы просто читать газету, нужно знать около полутора тысяч иероглифов! В результате степень традиционной образованности в Китае и по сей день определяется, прежде всего, числом иероглифов, которые помнит человек. Тем не менее, для того, чтобы читать (и тем более писать) специализированный текст, посвященный сложным и разнообразным проблемам, еще не так давно часто требовалось несколько человек: один специалист просто не мог знать соответствующее число достаточно сложных иероглифов.
Таким образом, познание было в значительной степени коллективным, а не индивидуальным делом, что существенно усиливало и закрепляло и без того объективно свойственный восточным культурам коллективизм.[11] При этом сложность иероглифического письма стала колоссальной преградой развития технологий, так как люди просто не могли запомнить и затем воспроизвести полученную ими информацию. Это стало одной из наиболее глубоких, культурно-психологических причин технической отсталости Китая, нараставшей как минимум с середины XVIII века и обусловившей трагизм его истории в последующие двести лет, – на протяжении жизни восьми поколений!
Однако сложность и многочисленность иероглифов, даже доведенные почти до абсурда, все равно не могли решить проблему недостаточности слогового письма для обозначения большого количества имеющихся сущностей. Результатом ее нерешенности стала многозначность целого ряда иероглифов, разные значения которых часто весьма слабо связаны друг с другом.
Жизнь в условиях лексической многозначности, то есть, по сути дела, в условиях неопределенности смыслов представляет собой постоянную жесточайшую тренировку сметливости и находчивости, которую вынужденно проходит китайское сознание на протяжении всей жизни. Чтобы понять смысл сказанного, часто недостаточно просто знать значения слогов и даже тонов: надо постоянно и очень быстро сопоставлять различные варианты возможного и выявлять среди них наиболее реальный.
Естественно, подобная повседневная, воспринимающаяся как единственно возможная и само собой разумеющаяся норма, тренировка накладывает весьма существенный отпечаток как на национальную культуру, так и на национальный характер.
Весьма существенный отпечаток на них накладывает и иероглифическое письмо как таковое. Ведь иероглиф, в отличие от привычной нам буквы, представляет собой не абстрактный символ почти «в чистом виде»,[12] а картинку, имеющую самостоятельное значение или, по крайней мере, поддающуюся толкованию в таком качестве.
В результате при чтении иероглифов у достаточно культурного и образованного человека могут возникать (хотя могут, разумеется, и не возникать) три ассоциативные ряда одновременно: связанный с их прямым значением, со звучанием обозначаемых ими слогов и, наконец, – с видом иероглифа как картинки.
Купание в этих ассоциативных рядах способно смертельно утомить неподготовленного человека и вызвать у него глубочайшее отвращение ко всему китайскому как к чудовищно и бессмысленно усложненному. Вместе с тем такая многозначность тренирует интеллект – или, по крайней мере, его некоторые специфические особенности, а также (а насколько можно судить по практическим наблюдениям, в особенности) эстетическое чувство.
Повседневное использование в качестве исходной единицы письменности изображений, имеющих собственное значение, способствует развитию образности мышления, что в сочетании с синтетическим, – троичным, а не дуалистическим, – характером мышления дает китайскому сознанию колоссальные резервы, практически не используемые в настоящее время (как и в прошлом), но способные в будущем, – в том числе, вероятно, и не столь уж отдаленном, – развернуть перед ним колоссальные перспективы.
Дело в том, что одно из магистральных направлений развития компьютерных и в целом информационных технологий является повышение «дружественности интерфейса» и его биологизация, постепенно снимающая для человека смысловые и технические барьеры при обращению к компьютеру. Практически не вызывает сомнений, что через некоторое время мы будем обращаться за советом к компьютеру с такой же простотой и легкостью, что и друг к другу,[13] – и получать надежный, развернутый и проверенный ответ.
Это весьма существенно изменит характер конкуренции как между отдельными индивидуумами, так и между организациями.
Сегодня она ведется в основном на основе формальной логики, – а компьютер, будучи ее вещественным воплощением, по мере биологизации интерфейса сделает нас равными по доступу к ней (примерно так же, как Интернет уже уравнял нас по доступу к непроверенной и неструктурированной информации[14]). Конкуренция же на основе того, к чему ее участники по определению имеют равный доступ, невозможна в принципе, – поэтому конкуренция на основе формальной логики исчезнет так же, как в развитых странах исчезла конкуренция на основе доступа к калорийной еде[15] (хотя в неразвитых странах подобная конкуренция сохраняется и по сей день, – а по мере дегуманизации человечества даже начинает усугубляться).
В результате развития описанных процессов конкуренция на основе формальной логики уже отступает в тень, уступая место конкуренции на основе внелогических форм мышления: творческого и мистического. Это ведет к огромному и далеко еще не полностью понятному комплексу разнообразных последствий, однако бесспорным является рост значимости образного мышления по сравнению с формально-логическим.
Поскольку использование иероглифов поневоле создает предпосылки (а то и прямо способствует) развитию именно образного мышления, цивилизации, использующие иероглифическое письмо, получат уже в обозримом будущем дополнительное конкурентное преимущество перед теми, кто использует обычные буквы.
В этом отношении весьма интересным представляется принципиально различный ответ на вызов индустриализации, данный родственными китайской и японской цивилизациями (именно это родство во многом и обусловило жестокость конкурентной борьбы между ними: на человеческие культуры в полной мере распространяется правило, по которому внутривидовая конкуренция носит значительно более жестокий и ожесточенный характер, чем межвидовая).
Развитие индустриальных технологий и в особенности начало научно-технической революции потребовало кардинального упрощения иероглифического письма. Китай ответил на этот вызов кардинальным упрощением иероглифов, осуществленным при Мао Цзэдуне; Япония – введением в дополнение к иероглифическому письму обычной буквенной азбуки на основе латиницы. Вопреки широко распространенному мнению, это результат не американской оккупации, а развития индустрии, так как реформа эта была проведена в 1937 году; правда, тогда латиница не получила широкого распространения, и в 1946 году была проведена вторая реформа языка, предусматривавшая существенное упрощение используемых знаков, – как иероглифов, так и букв, – а также введение «иероглифического минимума» в 1850 знаков: реформой предписывалось стремиться к ограничению ими всей письменной речи для ее большей понятности.[16]
Тем самым японцы, стремясь к большей технологичности и простоте, неосознанно принесли в жертву не просто собственные культурные особенности, но и возможность использовать в будущем (правда, отдаленном до полной неопределенности) таящиеся в них конкурентные преимущества. В этом еще раз проявилось принципиальное отличие китайской и японской культур: вторая, сформировавшаяся под колоссальным влиянием первой (вплоть до использования китайских иероглифов даже и по сей день), обладает свойствами блистательного, изощренного копииста. Это обуславливает не только тщательность и живучесть разнообразных ритуалов, но и успехи в области общественного управления и технологического прогресса. Ведь рациональное заимствование и приспособление к национальной культуре социальных инструментов и механизмов в сочетании с заимствованием рыночных целей подразумевает достижение высоких технологических успехов как способа достижения заимствованных целей в рамках заимствованной же парадигмы.
Возвращаясь к нетривиальным возможностям, неожиданно открываемым перед Китаем современным этапом технологического прогресса, стоит особо отметить неожиданные последствия его непродуманной демографической политики.
Жесткое (по крайней мере, в городах) проведение в жизнь принципа «одна семья – один ребенок» в условиях традиционного стремления китайцев к наследнику привело к хорошо известному и многократно описанному количественному преобладанию рождающихся живыми мальчиков над девочками, которое сегодня хорошо заметно уже и среди молодежи.
Влияние этого на современное китайское общество (в том числе на рост его агрессивности, что представляется наиболее важным) будет рассмотрено ниже. Здесь мы ограничимся констатацией того самоочевидного факта, что более редкий фактор автоматически становится более ценным, а в человеческом обществе – и более влиятельным.
В результате обостряющаяся нехватка женщин исподволь меняет их место и значение в современном китайском обществе.
«Исподволь» отнюдь не только в силу естественной инерционности социально-психологических процессов (да еще и основанных на демографических изменениях). Важную роль в медленности и скрытом характере происходящих изменений играет и традиционное китайское отношение к женщинам, которое было, без всякого преувеличения, ужасающим, – по крайней мере, для не мусульманской страны.
Чудовищные бедствия, которые переживал китайский народ на протяжении всей своей истории, в первую очередь ложился на плечи женщин. Помимо того, что их в прямом смысле слова не считали за людей, понятное стремление крестьян иметь в первую очередь наследников и работников оборачивалось не только массовой продажей девочек (как «лишних ртов»), но и их прямым убийством в частые времена голода – для экономии пищи.
Однако ужасное положение женщин отнюдь не было следствием одной только беспросветной нужды. Достаточно указать на стандарты красоты, которые предписывали с детства калечить ступни женщин относительно обеспеченной части общества так, что в зрелом возрасте они не могли порой самостоятельно ходить.
В условиях дешевизны красивых девушек из крестьянских семей знатные и просто обеспеченные китайцы имели порой такое количество наложниц, что некоторые из последних вообще ни разу в жизни не видели своего владельца и повелителя. Само собой разумеется, что за «измену» им полагалась по-китайски изощренная и мучительная казнь, а прав у них не было практически никаких.
Шахерезада, несмотря на понятное и широко рекламируемое даже и в наше время отношение к женщинам в мусульманском мире, была просто невозможна в средневековом Китае. Превращение наложницы во всемогущую императрицу Цы Си является не столько исключением, которое лишь подчеркивает правило, сколько одним из проявлений глубины разложения традиционной китайской государственности и, шире, всего китайского общества в конце XIX века.
Это многотысячелетнее наследие, конечно, в принципе не может быть изжито в течение жизни нескольких поколений, – пусть даже и насыщенной разнообразными, в том числе трагическими событиями. Тем не менее, растущий «дефицит женщин» (да простит меня читатель за этот корявый и невежливый канцеляризм, но он наиболее точно отражает ситуацию) объективно способствует росту значения женщины в обществе и усилению ее влияния.
Даже в России мы видим ряд китайских коммерческих структур, эффективно управляемых, а часто и созданных именно женщинами. Успешно занимающиеся бизнесом женщины сплошь и рядом становятся фактически главами семей; их голос часто оказывается решающим во внутрисемейных спорах. В континентальном Китае этот процесс также весьма нагляден по сравнению с серединой 90-х годов, когда традиции еще были живы в своей полноте.
Увеличение общественной роли и влиятельности женщин в современных условиях представляется весьма серьезным фактором конкурентоспособности общества.
Дело в том, что воспетое в бесчисленных анекдотах различие мужского и женского типа сознания существует, несмотря на описания их преимущественно в произведениях «низкого жанра», на самом деле. Афористичное выражение этого различия заключается в том, что мужчина узнает, а женщина знает; научное – в склонности мужского типа сознания к формальной логике, а женского – к интуитивизму.
Развитие компьютерных технологий, которое, как было показано выше, через некоторое ограниченное время уравняет людей в доступе к формальной логике, равно как и оборотная сторона этих же технологий, – снижение познаваемости современного мира,[17] – повышают значение и, соответственно, востребованность в конкурентной борьбе именно женского, интуитивного типа мышления.
Насколько можно судить сейчас, оно в наибольшей степени соответствует надвигающимся временам, в которых конкуренция будет вестись, с одной стороны, в условиях непривычно высокой для нас неопределенности и, одновременно, – равного или почти равного доступа участников конкуренции к формальной логике.
Женский тип мышления, таким образом, имеет вполне реальное и увеличивающееся со временем конкурентное преимущество над традиционным мужским.
Конечно, до нового матриархата еще очень и очень далеко, но массовый выход женщин на политическую арену после начала глобализации (связанного с массовым применением соответствующих технологий), с 90-х годов, – результат не столько торжества оголтелого феминизма и извращенной толерантности,[18] сколько вечного стремления человеческого общества к эффективности и конкурентоспособности.
Просто времена сменились, и на новом технологическом базисе инструменты достижения эффективности – в том числе и в гендерном аспекте управления – стали несколько иными.
И Китай, – как ни парадоксально, на этот раз в силу грубых политических ошибок своего недавнего прошлого, – оказался «на гребне волны» и этого глобального процесса.
1.4. Этническая солидарность
Несмотря на глубочайшую пропасть не только между городом и деревней, но и между различными регионами, доходящую до полного непонимания диалектов друг друга, для китайцев характерна высочайшая степень этнической солидарности. Это стихийные, природные националисты, очень четко различающие свое отношение к другим ханьцам (даже если они могут объясниться с ними только в письменном виде) и представителям всех остальных народов.
Бытовые истории о глубине различий китайских диалектов (из-за которых, например, зачастую плохо понимали даже Мао Цзэдуна, говорившего на хунаньском) отнюдь не являются преувеличением.
Одному из авторов пришлось столкнуться с этим в небольшом ресторанчике в Сычуани, где названия блюд не только не сопровождались иллюстрациями, но и были (что вполне традиционно для туристических мест Китая) избыточно поэтичными, так что меню не позволяло понять о них практически ничего. Молоденькая официантка не говорила на мандарине (официальный китайский язык на основе пекинского диалекта) и не понимала его, а пекинские гости точно так же не понимали сычуанский диалект. В результате диалог через некоторое время приобрел полностью письменный характер.
В Тибете же и вовсе возникла анекдотическая ситуация, когда тибетец-экскурсовод, искренне веривший, что свободно говорит на мандарине, в конце концов был вынужден вести экскурсию на английском (точнее, на «пиджин-инглиш»[19]), русский член группы выступал в роли переводчика для китайских коллег, говоривших по-русски, а те уже переводили услышанное на китайский для остальных экскурсантов.
Этническая солидарность проявляется в мириадах повседневных деталей и, конечно же, находит свое отражение в языке. Так, у нас нет собственно русского слова для обозначения эмигрантов, покинувших нашу страну,[20] но в целом это слово до сих пор имеет отчетливо негативный характер, оставаясь по смыслу довольно близким к «невозвращенцу» еще сталинских времен. Китайское же «хуацяо» дословно означает «мост на Родину» и подчеркивает не отделенность живущего за границей китайца от его страны, но, напротив, его нерушимую связь с ней, даже если он никогда не видел ее и, скорее всего, никогда ее не увидит.
Терпимое отношение к эмигрантам весьма характерно проявилось, когда вскоре после смерти Мао Цзэдуна началось масштабное направление китайских студентов на учебу за границу. Около половины (а периодически – до 70 %) студентов по завершении учебы не возвращалось обратно, но в отношении них, как правило, не возбуждались репрессивные процедуры, а их оставшиеся в Китае семьи не подвергались наказанию, даже если учеба осуществлялась за государственный счет.
Такой подход не только отражал жизненный опыт и традиции народа, длительное время жившего в условиях жестокого перенаселения и, соответственно, вынужденной массовой эмиграции. Представляется, что он был по-китайски прагматичным, нацеленным на создание высокообразованного и потому влиятельного китайского лобби за границей.
Однако не менее важным видится и выражение в этом необычном для нас явлении этнической солидарности: китайцы-руководители просто не хотели карать представителей своего народа без крайней необходимости. Вероятно, сыграла свою роль и усталость от жестокостей времен Мао Цзэдуна, включая не только «культурную революцию», но и чудовищный, изнурительный длительный голод, в который была искусственно погружена значительная часть страны.[21]
* * *По мере успешного развития китайской экономики, повышения благосостояния и благополучия населения вполне естественно росло и самосознание китайского общества. Соответственно, менялось и восприятие китайским государством его роли и значения для китайского народа.
Революционной была, безусловно, формула «одна страна – две системы», введенная Дэн Сяопином в начале 80-х годов, еще в самом начале преобразования Китая и знаменовавшая собой переход от узкоклассового к широкому культурному, цивилизационному подходу.
Конечно, она целиком и полностью была сугубо утилитарной, нацеленной на обеспечение конкретных нужд хозяйственного развития. Ведь на первом этапе реформы развитие Китая осуществлялось за счет капиталов хуацяо, и Тайвань, Гонконг, Аомынь (Макао) и другие анклавы играли роль воронок, через которые иссохшая почва китайской экономики орошалась бурными потоками зарубежного китайского капитала, политкорректно именуемого «иностранными инвестициями».
Но все великие преобразования, отвечавшие историческим потребностям, именно в силу этого были во многом вынужденными. Чтобы общество поддержало перемены (а иначе случается, как с Улугбеком, Павлом I, Людвигом Баварским и бесчисленным множеством других опередивших свое время реформаторов и фантазеров, пусть даже и стремившихся к лучшему), оно должно ощущать их своевременность, их полезность: преобразования только тогда будут и возможны, и полезны, когда они вызрели в ходе естественного общественного развития, когда они соответствуют назревшим потребностям.
А потребности эти обычно бывают самого «низменного», материалистического свойства и связаны с текущими повседневными нуждами: иначе общество просто не примет неизбежно пугающего его риска нового и отвергнет даже самые разумные и привлекательные реформы.
Провозглашая лозунг «одна страна – две системы», китайское руководство вряд ли глубоко размышляло о том, что отказывается тем самым от парадигмы классовой борьбы в пользу логики цивилизационного развития и участия в глобальной конкуренции на основе культурной общности.[22] Оно решало узко практическую задачу: переход к модернизации Китая на качественно новой для него, рыночной основе при сохранении «руководящей и направляющей» роли коммунистической партии.
Однако условия решения задачи оказались таковы, что пришлось от развития «в интересах рабочих и крестьян» (а на деле – в интересах партхозноменклатуры) перейти к развитию в интересах всего народа вне зависимости не только от классовой принадлежности тех или иных его элементов (что и саму коммунистическую партию привело в конечном итоге к перерождению[23] в партию всего народа), но и от границ, разделяющих этот народ в каждый отдельно взятый момент.










