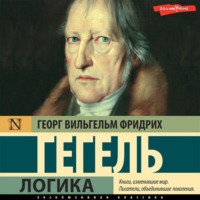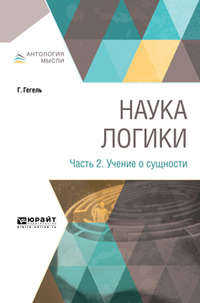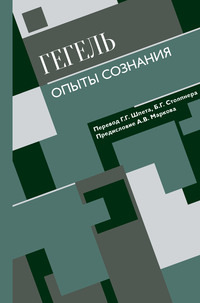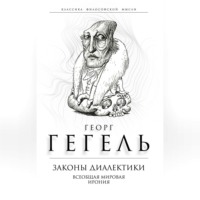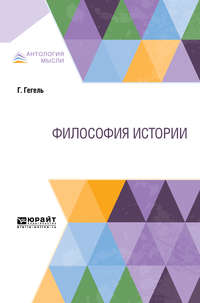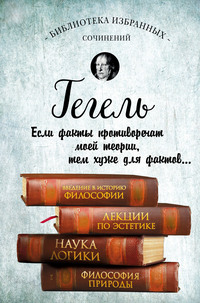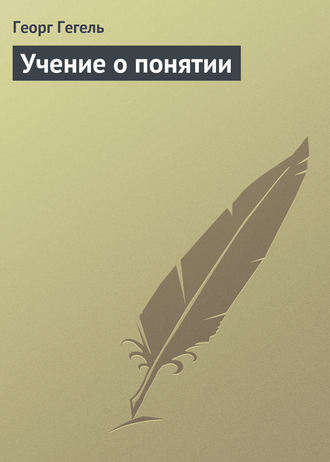 полная версия
полная версияУчение о понятии
О неправильности приложения синтетического метода к строго аналитическим наукам был уже повод говорить выше. Вольф распространил это приложение на всевозможные роды знаний, отнесенных им к философии и математике, – знаний, которые отчасти имеют совершенно аналитическую природу, отчасти же носят характер совершенно случайный и чисто ремесленный. Контраст между таким легко усвояемым, по природе своей неспособным ни к какой строгой и научной обработке материалом и натянутыми научными изворотами по поводу его и его внешнею оболочкою уже сам по себе показал нескладность такого приложения и лишил последнее кредита[9]. Но веры в пригодность и существенность этого метода для придания научной строгости философии это злоупотребление им не могло уничтожить; пример изложения Спинозою его философии еще долго выдавался за образец. Однако в действительности Кант и Якоби опровергли весь способ действия прежней метафизики, а с тем вместе и ее метод. Кант по-своему показал относительно содержания этой метафизики, что через строгое доказательство оно приводит к антиномиям, характер которых был впрочем разъяснен в соответствующем месте; но о самой природе этого доказательства, которое связано с некоторым конечным содержанием, он не рефлектировал; между тем одно должно падать вместе с другим. В своих Начальных основаниях естествознания он сам дал пример обработки некоторой науки, которую он таким путем думал сделать философскою, как науку рефлексии и по ее методу. Если Кант нападал на прежнюю метафизику более с точки зрения ее содержания, то Якоби производил это нападение преимущественно со стороны способа ее доказательств; он самым ясным и глубоким образом выделил пункт, в коем вся суть дела, а именно, что такой метод доказательства связан совершенно с кругом оцепенелой неподвижности конечного, свобода же, т. е. понятие, и тем самым все, что истинно, лежит вне его и для него недостижимо. По выводу Канта своеобразное содержание метафизики приводит к противоречиям, и недостаточность этого познания состоит в его субъективности, по выводу же Якоби метод и вся природа самого этого познания имеют дело лишь со связью условности и зависимости и потому оказываются несоответствующими тому, что есть в себе и для себя и абсолютно истинно. Действительно, так как принцип философии есть бесконечное свободное понятие, и все ее содержание покоится единственно на этом понятии, то к нему неприменим метод чуждой понятию конечности. Синтез и опосредование этого метода приводят только к противоположной свободе необходимости, именно к некоторому тожеству зависимого, которое лишь в себе, все равно, понимается ли оно, как внутреннее или как внешнее, и в котором то, что составляет его реальность, различенное и осуществленное, остается только самостоятельно различным и потому конечным. Таким образом, самое это тожество тут не осуществляется и остается лишь внутренним или иначе лишь внешним, так как его определенное содержание ему дано; с обеих точек зрения оно есть нечто отвлеченное и имеет реальную сторону не в нем самом, а потому не положено, как в себе и для себя определенное тожество; понятие, в котором единственно вся суть дела, и которое есть бесконечное в себе и для себя, исключено тем самым из этого познания.
Таким образом в синтетическом познании идея достигает своей цели лишь в той мере, в какой понятие по своим моментам тожества и по реальным определениям или иначе по общности и частным различениям, – далее также как тожество, которое есть связь и зависимость различного – становится для понятия. Но этот его предмет ему не соответствует, ибо понятие не становится единством себя с самим собою в своем предмете или в своей реальности; в необходимости состоит его тожество для него, но в этом тожестве заключается не сама определенность, а некоторый внешний ей, т. е. не понятием определяемый материал, в коем понятие не познает само себя. Таким образом понятие вообще определено не для себя и не в себе и для себя вместе в своем единстве. Поэтому идея не достигает еще в этом познании истины вследствие несоответствия предмета субъективному понятию. Но сфера необходимости есть высшее обострение бытия и рефлексии; она сама в себе и для себя переходит в свободу понятия, внутреннее тожество переходит в свое обнаружение, которое есть понятие, как понятие. Как совершается этот переход из сферы необходимости в понятие в себе, было указано при рассмотрении сказанной сферы, равно как он был изображен, как генезис понятия, в начале этой книги. Здесь необходимость занимает такое положение, при коем она есть реальность или предмет понятия, равно как и понятие, в которое оно переходит, есть теперь предмет понятия. Но самый переход остается тем же. Он и здесь есть понятие в себе и лежит еще вне познания в нашей рефлексии, т. е. есть еще ее внутренняя необходимость. Лишь результат есть для него. Идея, поскольку понятие теперь определено, как в себе и для себя, для себя есть практическая идея, действие.
В. Идея добра
Поскольку понятие, которое есть свой собственный предмет, определено в себе и для себя, субъект определяет себя, как единичное. Как субъективное, он опять-таки имеет предположение некоторого сущего в себе инобытия; он есть побуждение реализовать себя, цель, которая хочет через себя саму дать себе объективность в объективном мире и выполнить себя. В теоретической идее субъективное понятие, как общее, в себе и для себя лишенное определения, противостоит объективному миру, из коего оно почерпает себе определенное содержание и выполнение. В практической же идее оно, как действительное, противостоит действительному; но уверенность в себе, присущая субъекту в его определенном в себе и для себя бытии, есть уверенность в свой действительности и не-действительности мира; для субъекта уничтожено инобытие мира, не только как отвлеченная общность, но и в его единичности и в определениях его единичности. Объективность присвоивается здесь субъектом самому себе; его определенность внутри себя есть объективное, ибо оно есть общность, которая равным образом совершенно определена; бывший ранее того объективным мир есть, напротив, еще нечто положенное, нечто непосредственно разнообразно определенное, но именно потому что оно непосредственно определено, оно лишено единства понятия внутри себя и для себя уничтожено.
Эта содержащаяся в понятии, равная ему и включающая в себя требование единичной внешней действительности определенность есть добро. Оно выступает с достоинством, как абсолютное, так как оно есть полнота понятия внутри себя, объективное, которому вместе с тем свойственна форма свободного единства и субъективности. Эта идея выше, чем идея вышерассмотренного познания, ибо первая имеет достоинство не только общего, а также и просто действительного. Она есть побуждение, поскольку это действительное еще субъективно, полагает само себя, а не имеет вместе с тем формы непосредственного предположения; ее побуждение к реализации состоит собственно в том, чтобы сообщить себе не объективность, – последнюю она имеет в самой себе, – а лишь эту пустую форму непосредственности. Поэтому деятельность цели направлена не против себя для принятия внутрь себя и усвоения себе некоторого данного определения, но скорее для положения собственного определения и для сообщения себе реальности в форме внешней действительности посредством снятия определений внешнего мира. Идея воли, как самоопределяющая, имеет для себя содержание внутри себя самой. Последнее есть, правда, определенное содержание и тем самым нечто конечное и ограниченное; самоопределение есть по существу частность, так как рефлексия воли в себя, как отрицательное единство, есть вообще также единичность в смысле исключения и предположения некоторого другого. Но частность содержания ближайшим образом бесконечна вследствие формы понятия, собственную определенность которого она составляет, и которое имеет в нем отрицательное тожество себя с самим собою и тем самым есть не только частное, но обладает своею бесконечною единичностью. Вышеупомянутая конечность содержания в практической идее означает тем самым то, что она есть ближайшим образом еще невыполненная идея; понятие для него есть сущее в себе и для себя; оно есть здесь идея в форме для себя самой сущей объективности; с одной стороны субъективное есть потому уже не только нечто положенное, произвольное или случайное, но нечто абсолютное; но с другой стороны эта форма осуществления, бытие для себя, не имеет еще также формы бытия в себе. То, что является по форме, как таковой, как противоположность, является в рефлектированной в простое тожество форме понятия, т. е. в содержании, как его простая определенность; доброе, хотя бы и имеющее значение в себе и для себя, есть в силу того какая-либо частная цель, которая однако не должна приобрести свою истину лишь через реализацию, а есть истинное уже для себя.
Самое умозаключение непосредственной реализации не требует здесь никакого ближайшего изложения; оно есть лишь рассмотренное выше умозаключение внешней целесообразности; различение касается лишь содержания. Во внешней целесообразности, как формальной, последнее было вообще неопределенным конечным содержанием, здесь же оно, хотя также конечно, но, как таковое, считается, вместе с тем, абсолютным. Но по отношению к заключению, выполненной цели, возникает дальнейшее различение. Конечная цель в своей реализации достигает также лишь средства; так как она в своем начале не есть еще цель, определенная в себе и для себя, то она и выполненная остается такою, которая не есть в себе и для себя. Если же доброе опять-таки фиксируется, как нечто конечное и как таковое по существу, то, несмотря на свою внутреннюю бесконечность, оно не может избегнуть судьбы конечного, – судьбы, являющейся во многих формах. Совершаемое добро есть добро в силу того, что оно есть уже в субъективной цели, в своей идее; совершение дает ему некоторое внешнее существование; но так как это существование определено лишь, как в себе и для себя ничтожная внешность, то доброе достигает в нем лишь случайного разрушимого существования, а не соответствующего своей идее совершения. Далее так как доброе по своему содержанию есть нечто ограниченное, то существует также много различного добра; совершаемое добро подвержено разрушению не только через внешнюю случайность и через зло, но и через столкновение и борьбу в самом добре. C стороны предположенного им объективного мира, в предположении коего заключается субъективность и конечность добра, и который, как нечто другое, идет своим собственным путем, самое совершение добра подвержено препятствиям и даже невозможности. Доброе остается, таким образом, некоторым долженствованием; оно есть в себе и для себя, но бытие, как последняя, отвлеченная непосредственность, остается в противоположность добру определенным так же, как некоторое небытие. Идея выполненного добра есть, правда, некоторый абсолютный постулат, но не более, чем постулат, т. е. абсолютное с определением субъективности. Тут встречаются еще два противоположных мира, царство субъективности в чистых областях прозрачной мысли и царство объективности в элементе внешней многообразной действительности, которое есть незамкнутое царство мрака. Полное развитие этого неразрешенного противоречия, этой абсолютной цели, непреодолимо противостоящей ограничению действительности, ближе рассмотрено в Феноменологии духа. Между тем, как идея содержит в себе момент полной определенности, другое понятие, к коему относится понятие в ней, есть в своей субъективности, вместе с тем, момент некоторого объекта; поэтому, идея выступает тут в виде самосознания и с этой стороны совпадает с его изложением.
Но то, чего не достает практической идее, есть момент самого сознания, как такового, именно того, чтобы момент действительности в понятии достиг для себя определения внешнего бытия. Этот недостаток может быть также рассматриваем так, что практическая идея еще лишена момента теоретической. А именно, последней со стороны субъективного, со стороны понятия, ставшего понятием, созерцаемым внутри себя, присуще лишь определение общности; познание знает себя, лишь как усвоение, как неопределенное для себя самого тожество понятия с самим собою; выполнение, т. е. в себе и для себя определенная объективность, есть для теоретической идеи нечто данное, а истинно сущее – независимо от субъективного положения существующая действительность. Напротив, для практической идеи эта действительность, противостоящая первой, вместе с тем, как непреодолимое ограничение, имеет значение в себе и для себя ничтожного, долженствующее получить свое истинное определение и единственную ценность через цели добра. Поэтому, воля сама противостоит достижению своей цели тем, что воля отделяется от познания, и что внешняя действительность не сохраняет для нее (воли) формы истинно сущего; поэтому идея доброго может найти свое восполнение лишь в идее истинного.
Но этот переход идея доброго совершает через саму себя. В умозаключении действия первая посылка есть непосредственное отношение доброй цели к действительности, которою эта цель овладевает и во второй посылке направляет против внешней действительности, как внешнее средство. Добро есть для субъективного понятия объективное; действительность в ее существовании лишь постольку противостоит ему, как непреоборимое ограничение, поскольку она имеет еще определение непосредственного существования, а не объективного в смысле бытия в себе и для себя; она есть скорее или злое, или безразличное, только подлежащее определению, имеющее свою ценность не в себе самом. Но это отвлеченное бытие, противостоящее добру во второй посылке, уже сняло саму практическую идею; первая посылка ее действия есть непосредственная объективность понятия, по которому цель без всякого сопротивления сообщается действительности и находится с нею в простом, тожественном отношении. Таким образом, надлежит лишь сопоставить вместе мысли обеих посылок. К тому, что уже непосредственно исполнено в первой посылке объективным понятием, присоединяется во второй лишь то, что оно положено через опосредование, т. е. для него. Как в отношении цели вообще выполненная цель есть опять также лишь средство, но наоборот средство есть также выполненная цель, так, равным образом, в умозаключении доброго вторая посылка уже непосредственно дана в себе в первой; но эта непосредственность недостаточная, и вторая посылка требуется уже для самой цели; выполнение добра вопреки противостоящей ему другой действительности есть опосредование, которое по существу необходимо для непосредственного отношения и осуществления добра. Ибо выполнение добра есть лишь первое отрицание или инобытие понятия, некоторая объективность, которая была бы погружением понятия во внешность; второе отрицание есть снятие этого инобытия, в силу чего непосредственное выполнение цели только и становится действительностью добра, как сущего для себя понятия, так как последнее тем самым полагается тожественным с самим собою, а не с некоторым другим, и стало быть свободным. Но если бы цель добра через то не должна была быть выполненною, то это было бы возвратом понятия на ту точку зрения, на которой понятие было до своей деятельности, – на точку зрения определенной, как уничтоженной, и однако предположенной, как реальная, действительности; возвратом, который становится прогрессом в ложную бесконечность, но имеет свое основание в том, что в снятии той отвлеченной реальности это снятие также непосредственно забывается, или что забывается то, что эта реальность уже была предположена, как в себе и для себя уничтоженная, необъективная действительность. Это повторение предположения невыполненной цели после действительного выполнения цели определяет себя поэтому так, что субъективная постановка объективного понятия возобновляется и делается перемежающеюся, в силу чего конечность добра является как по своему содержанию, так и по своей форме сохраняющеюся истиною, равно как осуществление добра оказывается всегда лишь единичным актом, а не чем то общим. В действительности эта определенность сняла себя при осуществлении добра; то, что для объективного понятия еще ограничено, есть его собственный взгляд на себя, исчезающий через рефлексию о том, чтó есть осуществление добра в себе; понятие противится через этот взгляд само себе и должно поэтому направиться не против некоторой внешней действительности, а против самого себя.
А именно, деятельность во второй посылке, производящая лишь некоторое одностороннее бытие для себя, вследствие чего продукт является субъективным и единичным, и тем самым в нем повторяется первое предположение, есть в действительности также положение сущего в себе тожества объективного понятия и непосредственной действительности. Определение последней через предположение состоит в том, что есть свойственная ей лишь реальность явления, что она в себе и для себя ничтожна и определима только объективным понятием. Так как через деятельность объективного понятия внешняя действительность изменяется, и ее определение тем самым снимается, то именно потому от нее изъемлются лишь являющаяся реальность, внешняя определимость и ничтожество, она тем самым становится положенною, как сущая в себе и для себя. При этом вообще снимается предположение, именно определение добра, как только субъективной и по своему содержанию ограниченной цели, необходимость реализовать последнюю только через субъективную деятельность и самая эта деятельность. В результате опосредование само себя снимает, оно есть непосредственность, которая есть не восстановление предположения, а скорее его снятие. Тем самым идея в себе и для себя определенного понятия положена уже не только в действующем субъекте, а также как некоторая непосредственная действительность, и наоборот, последняя, как она есть в познании, как по истине сущая объективность. Единичность субъекта, присущая ему через его предположение, исчезла вместе с последним; тем самым он есть свободное, общее тожество с самим собою, для которого (тожества) объективность понятия есть настолько же данная, непосредственно существующая для него, насколько он знает себя, как в себе и для себя определенное понятие. Тем самым в этом результате познание восстановлено и соединено с практическою идеею, преднайденная действительность определена вместе с тем, как выполненная абсолютная цель; но не так, как в ищущем познании, лишь как объективный мир без субъективности понятия, а как такой объективный мир, внутреннее основание и действительное существование которого есть понятие. Это абсолютная идея.
Третья глава
Абсолютная идея
Абсолютная идея есть, как оказалось, тожество теоретической и практической идей, из коих каждая для себя еще одностороння, имеет внутри себя самую идею, лишь как искомую потусторонность и недостигнутую цель; каждая из них есть, поэтому, некоторый синтез стремления, который настолько же имеет, насколько не имеет внутри себя идеи, переходит от одного к другому, но не соединяет обеих мыслей, а остается при их противоречии. Абсолютная идея, как разумное понятие, которое в своей реальности совпадает лишь с самим собою, есть в этой непосредственности в силу своего объективного тожества с одной стороны возврат к жизни; но она, равным образом, сняла внутрь себя эту форму своей непосредственности и высшую противоположность. Понятие есть не только душа, но свободное субъективное понятие, которое есть для себя и потому обладает личностью, – практическое, в себе и для себя определенное, объективное понятие, которое, как лицо, есть непроницаемая, неделимая субъективность; но которое, равным образом, есть не исключающая единичность, а общность и познание для себя, и в своем другом имеет предметом свою собственную объективность. Все прочее есть заблуждение, смутность, мнение, стремление, произвол и преходимость; только абсолютная идея есть бытие, непрекращающаяся жизнь, знающая себя истина и вся истина.
Она есть единственный предмет и содержание философии. Так как она содержит внутри себя всю определенность, и ее сущность состоит в том, чтобы возвращаться к себе через свое самоопределение и порознение, то она имеет различные образы, и задача философии заключается в познании ее в них. Природа и дух суть вообще различные способы изображать ее существование; искусство и религия – ее различные способы понимать себя и сообщать себе некоторое соответственное ей существование; философия имеет с искусством и религиею одинаковое содержание и одинаковую цель, но она есть высший способ понимания абсолютной идеи, так как способ философии есть высший – понятие. Философия охватывает, поэтому, внутри себя эти образы реальной и идеальной конечности, равно как бесконечности и святости, и понимает их и саму себя. Вывод же и познание этих частных способов есть дальнейшая задача частных философских наук. Логическая сторона абсолютной идеи также может быть названа некоторым ее способом; но между тем, как слово «способ» означает некоторый частный вид, некоторую определенность формы, логическое есть, напротив, общий способ, в коем сняты и заключены все частные способы. Логическая идея есть она сама в своей чистой сущности, заключенная в своем понятии в простое тожество и еще не выступившая в видимость в некоторой определенности формы. Поэтому логика изображает самодвижение абсолютной идеи, лишь как первоначальное слово, которое есть обнаружение, но такое, которое, как внешнее, снова непосредственно исчезло, поскольку оно есть; идея есть, таким образом, лишь в этом самоопределении – воспринять себя, она есть в чистой мысли, в которой различение еще не есть инобытие, но есть и остается вполне прозрачным для себя. Логическая идея имеет тем самым своим содержанием себя, как бесконечную форму; форму, которая постольку составляет противоположность содержанию, поскольку последнее, как возвратившееся внутрь себя и снятое в тожестве определение формы, таково, что это конкретное тожество противостоит тожеству, развитому, как форма; содержание имеет вид другого и данного относительно формы, которая, как таковая, стоит просто в отношении, и определенность которой положена вместе с тем, как видимость. Абсолютная идея сама ближайшим образом имеет своим содержанием лишь то, что определение формы есть ее собственная завершенная полнота, чистое понятие. Определенность идеи и все развитие этой определенности и составили предмет науки логики, из какового развития абсолютная идея возникла сама для себя; для себя она оказалась состоящею в том, что определенность имеет вид не некоторого содержания, а есть просто форма, что идея тем самым есть просто общая идея; то что надлежит, следовательно, еще рассмотреть, есть тем самым не некоторое содержание, как таковое, но общность ее формы, – т. е. метод.
Метод может ближайшим образом явиться простым видом и способом познания, и он имеет действительно их природу. Но вид и способ, как метод, положены не только, как в себе и для себя определенная модальность бытия, а и как модальность познания, как определенного через понятие, и как форма, поскольку она есть душа всякой объективности, и всякое какое бы то ни было определенное содержание имеет свою истину единственно в форме. Если содержание опять-таки принять для метода, как данное и своеобразной природы, то метод, как и вообще логическое, есть вообще в таком определении некоторая просто внешняя форма. Но здесь можно сослаться не только на основное понятие логического, а все его развитие, в котором прошли все образования данного содержания и объекты, показало переход и не-истину этого определения; и вместо того, чтобы данный объект мог быть основою, к коей абсолютная форма относилась бы, лишь как внешнее и случайное определение, она напротив оказалась абсолютною основою и окончательною истиною. Метод возник оттуда, как знающее само себя, имеющее своим предметом себя, как абсолютное столь же субъективное, сколь и объективное понятие, а с тем вместе как чистое соответствие понятия и его реальности, как некоторое осуществление, которое есть само понятие.