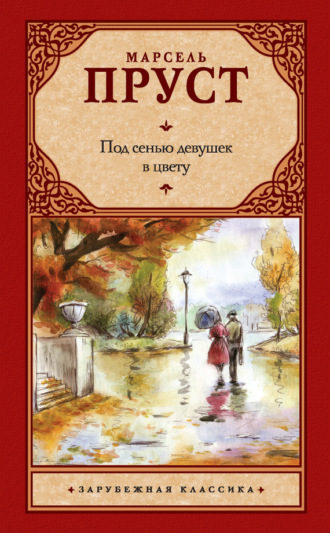
Полная версия
Под сенью девушек в цвету
Между тем уже пошли к столу. Возле своей тарелки я увидел гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Она не так затруднила меня, как конверт, который был передан мне в передней и о котором я совершенно забыл. Гвоздика, хотя и столь же новая для меня, стала более понятной, когда я увидел, что все гости мужчины, которым возле прибора было положено по такой же гвоздике, взяли ее и воткнули в петлицу сюртука. Я сделал то же самое с непринужденностью вольнодумца, который не знает мессы, но, попав в церковь, встает тогда же, когда встают все, и становится на колени чуть позже, чем все прочие. Меньше понравилось мне другое обыкновение, неизвестное мне и не столь эфемерное. Возле моей тарелки стояла с другой стороны тарелочка, наполненная черным веществом, которое было икрой, как я узнал впоследствии. Что с ним делать, я не знал, но решил не есть его.
Бергот сидел недалеко от меня, я прекрасно слышал все, что он говорил. Тут мне стало понятно впечатление г-на де Норпуа. Действительно, у него был странный голос; ничто так не влияет на материальные особенности голоса, как наличие мысли. Звучность дифтонгов, энергичный характер губных зависят от этого. Зависит и дикция. Его дикция показалась мне совершенно непохожей на его манеру писать, и даже то, что он говорил, – непохожим на то, чем полны были его произведения. Но голос принадлежит маске, и он не в силах заставить нас сразу же угадать лицо, открывавшееся нам в стиле. В некоторые моменты разговора, когда Бергот прибегал к той манере, которая не одному лишь господину де Норпуа казалась искусственной и неприятной, я не сразу открывал точное соответствие с теми местами в его книгах, где она принимала столь поэтическую и музыкальную форму. Тогда он обнаруживал в своих словах пластическую красоту, независимую от смысла фраз; а так как человеческое слово связано с душой, но не выражает ее подобно стилю, то казалось, что Бергот говорит почти наперекор смыслу, придавая напевность отдельным словам, а если проводил в них единый образ, – растягивая их, не делая интервалов, как будто это был один и тот же звук, утомительно однообразный. Таким образом вычурность, напыщенность и однообразие речевой манеры характеризовали эстетические качества его суждений и являлись в его беседе следствием той же самой способности, которая в его книгах вызывала последовательность образов и гармонию. Мне сперва тем труднее было заметить это, что в такие моменты слова его не казались словами Бергота, именно потому, что это был подлинный Бергот. Они полны были точных мыслей, не встречавшихся в том «берготовском стиле», который усвоили себе многие хроникеры; и это несходство, – предстающее нам в неясном свете в преломлении разговора, точно образ, видимый сквозь закопченное стекло, – было, вероятно, другим выражением того факта, что страница Бергота никогда не совпадала с тем, что бы мог написать любой из числа этих плоских подражателей, украшавших, однако, свою прозу, и в газетных статьях и в книгах, таким множеством образов и мыслей «под Бергота». Это различие в стиле вызывалось тем, что «берготовское» было прежде всего неким драгоценным и подлинным началом, затаенным в каждой вещи и извлекаемым оттуда даром этого великого писателя, – задача, которую и ставил себе сладостный Певец, не преследовавший цели писать под Бергота. По правде говоря, он делал это невольно, потому что был Бергот, и в этом смысле каждая из новых красот его произведений была частицей Бергота, затаившейся в вещи и им оттуда извлеченной. Но если тем самым каждая из этих красот была связана с другими и могла быть познана, она все же оставалась своеобразной, как то открытие, которое произвело ее на свет; новой, а следовательно, не похожей на то, что называли «берготовским стилем», представлявшим собой смутный синтез всех Берготов, уже им найденных и записанных, которые отнюдь не позволяли бездарным людям предсказывать, что он откроет где-нибудь еще. В таком положении все большие писатели, – красоту их фраз нельзя предугадать, как и красоту женщины, которой еще не знаешь; она результат творчества, потому что относится к предмету внешнего мира, о котором они думают (а вовсе не о себе) и которому еще не нашли выражения. Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае и напишет первую строку портрета Виллара: «То был довольно высокого роста смуглый мужчина с лицом живым, открытым, выпяченным», но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами: «И, право, немного шальным»? Настоящее разнообразие – в этой полноте реальных и неожиданных элементов, в ветке, усеянной синими цветами, которая, совершенно вопреки ожиданию, бросается в глаза на фоне весенней изгороди, уже казавшейся нам сплошным цветением, меж тем как чисто формальное подражание разнообразию (а таким же способом можно рассуждать и применительно ко всем другим особенностям стиля) – лишь пустота и однообразие, то есть полнейшая противоположность разнообразию, и в произведениях подражателей оно может прельстить только того, кому это разнообразие не было понятно в созданиях мастеров, только ему подражатель и может напомнить мастера.
И так же как голос Бергота наверно очаровал бы нас, если бы это был не он, а какой-нибудь любитель, декламирующий поддельного Бергота, тогда как на самом деле с мыслью Бергота, деятельной и настойчивой, голос этот связывали жизненные нити, слухом улавливаемые не сразу, – совершенно так же и в языке Бергота, с точностью применявшего свою мысль к нравившейся ему действительности, было что-то положительное, чрезмерно питательное, разочаровавшее тех, кто ожидал, что он будет говорить лишь о «вечном потоке видимостей» и о «таинственных трепетах красоты». К тому же необычайность и новизна всего, что он писал, сказывались, когда он говорил, в такой хитроумной постановке вопросов, в таком пренебрежении ко всем существовавшим до сих пор решениям, что можно было подумать, будто он затрагивает лишь мелкие частности, впадает в заблуждение, говорит парадоксы, и таким образом мысли его чаще всего казались смутными, – ведь каждый называет ясными мыслями мысли, отличающиеся той же степенью смутности, что и его собственные. Впрочем, предварительным условием всякого новшества является устранение шаблонов, к которым мы привыкли и которые были для нас олицетворением жизненности, так что всякая новизна речи, равно как и всякая оригинальность в живописи, в музыке, всегда будет казаться надуманной и утомительной. Она основывается на тропах, необычных для нас, нам кажется, что собеседник говорит только метафорами, а это надоедает и производит впечатление неискренности. (В сущности, и старые формы речи тоже когда-то являлись трудными для восприятия образами, пока слушателю был еще неведом мир, изображаемый ими. Но уже давно принято считать, что это и есть настоящий мир, и на него полагаться.) Вот почему, когда Бергот говорил про Котара, что это – чертик в банке, старающийся сохранить равновесие, – слова, совершенно простые с нашей теперешней точки зрения, – или про Бришо, что «прическа причиняет ему еще больше забот, чем г-же Сван, так как занятый и профилем своим и репутацией, он должен стараться о такой куафюре, по которой его всегда можно было бы принять и за льва и за философа», – слушатель скоро начинал чувствовать усталость и хотелось найти опору в чем-то более конкретном, то есть попросту говоря, в чем-то более обычном. Хотя неузнаваемые слова, которые произносила маска, бывшая у меня перед глазами, надо было, конечно, связать с писателем, возбуждавшим мое восхищение, все же они не умещались в его книги, наподобие квадратиков головоломки, которые нужно вдвинуть в другие, они лежали в другой плоскости и требовали транспонировки, благодаря которой я однажды, повторяя себе слышанные от Бергота фразы, нашел в них все приемы его литературного стиля, узнал и смог определить различные его элементы в этой устной речи, казавшейся мне такой далекой от него.
В частности, особая, почти преувеличенная тщательность и энергия, с которой он произносил отдельные слова, отдельные прилагательные, чаще встречавшиеся в его речах и не лишенные пафоса, выделяя каждый слог, а последний слог произнося нараспев (как, например в слове «visage», которым он заменял всегда слово «figure»[17]и в котором увеличивал число v, s, g, – как будто выпуская их из разжимаемой в эти минуты ладони), в точности соответствовала тому почетному месту, на которое он в своей прозе ставил эти любимые слова, освещая их, предваряя своего рода полями и связывая с общим составом фразы таким способом, что читателю приходилось, во избежание метрической ошибки, принимать во внимание их «количество». Однако в разговорах Бергота нельзя было встретить того особого освещения, которое в его книгах, как и у других авторов, часто видоизменяет в написанной фразе внешний облик слова. Конечно, этот свет подымается из далеких глубин и лучи его не касаются наших слов в те часы, когда, открывшись другим в беседе, мы в известной степени закрываемся от самих себя. С этой точки зрения в его книгах было больше интонаций, больше ударений, чем в его речах, – ударений, независимых от красоты стиля, которых сам автор, вероятно, не замечал, потому что они неотделимы от всей его личности. В те минуты, когда Бергот в своих книгах становился совершенно естественным, именно эти ударения придавали ритм написанным словам, часто весьма незначительным. Ударения эти не отмечены в тексте, ничто не указывает на них, и все же они сами присоединяются к фразам, нельзя прочитать их иначе, они – самое эфемерное и все-таки самое глубокое в писателе, и они-то и послужат истинным свидетельством об его природе, они скажут, был ли он нежен, несмотря на все то жесткое, что было им высказано, и чувствителен, несмотря на всю свою чувственность.
Некоторые особенности произношения, лишь слабо выраженные в речи Бергота, были свойственны не ему одному, ибо когда позднее я познакомился с его братьями и сестрами, я нашел у них все это в гораздо более резкой форме. В последних словах веселой фразы появлялась какая-то хриплая отрывистость, в конце фразы печальной слышалась слабость, замирание. Сван, знавший Мэтра ребенком, говорил мне, что в то время у него, совершенно так же как у его братьев и сестер, слышались в голосе эти переходы, в известной степени наследственные, сменявшие друг друга крики буйной веселости и рокот вялой меланхолии, и что в комнате, где они играли все вместе, он лучше всех исполнял свою партию в этих концертах, порой оглушительных, порой томных. Как ни своеобразен весь этот шум, производимый людьми, он мимолетен и не переживает их. Но иначе было с произношением семейства Бергот. Ибо, хотя и трудно понять, даже в «Мейстерзингерах», как может композитор сочинять музыку, слушая щебетанье птиц, все же Бергот перенес в свою прозу и закрепил в ней эту манеру задерживаться на словах, которые повторяются, как крики радости, или падают, словно капли, грустными вздохами. В его книгах иные фразы завершаются непрерывным нарастанием звучностей, как в последних аккордах оперной увертюры, которая не может кончить и несколько раз повторяет заключительную каденцию, пока дирижер не положит свою палочку, – нарастанием, в котором впоследствии я узнал музыкальный эквивалент фонетической меди семейства Бергот. Но сам он, с тех пор как перенес ее в свои книги, бессознательно перестал пользоваться ею в своей беседе. С того дня, как он начал писать, а тем более впоследствии, когда я познакомился с ним, она уже не существовала в инструментовке его речи.
Молодые Берготы – будущий писатель и его братья и сестры – наверно стояли не выше, а ниже тех молодых людей, более тонких и более остроумных, которым Берготы казались слишком шумными и даже немного вульгарными, которых они раздражали своими шутками, характерными для «стиля» их дома, не то вычурного, не то придурковатого. Но гений, даже крупный талант, обусловлен не столько своим интеллектуальным превосходством и социальной изысканностью, сколько способностью преобразовывать, транспонировать. Для того чтобы нагреть жидкость с помощью электрической лампы, вовсе не требуется лампа самая мощная, но такая, в которой ток мог бы перестать давать свет, изменил бы свою форму и вместо света мог бы дать тепло. Чтобы двигаться по воздуху, нужен не самый мощный автомобиль, но такой, который, перестав двигаться по земле и пересекши вертикально линию своего движения, мог бы превратить свою горизонтальную скорость в энергию подъема. Точно так же и творцы гениальных произведений – это вовсе не те, кто живет в среде самой утонченной, чья речь отличается наибольшим блеском, кто обладает самым широким образованием, но те, кто обладает даром, перестав жить для самого себя, сделать из своей личности подобие зеркала, так чтобы жизнь их, сколь бы ни была она ничтожна с точки зрения светской, и даже отчасти с точки зрения интеллектуальной, отражалась в нем, ибо гений – это способность отражать, а не качества отраженного зрелища, взятые сами по себе. В день, когда молодой Бергот смог показать миру своих читателей безвкусную гостиную, где протекало его детство, и те не слишком забавные разговоры, которые он вел там с братьями, – в тот день он поднялся выше друзей своей семьи, более остроумных и более изысканных: те в своих прекрасных «роллс-ройсах» могли возвращаться домой, свидетельствуя некоторое презрение к пошлости Берготов, а он, сумев наконец на своем скромном аппарате отделиться от земли, летал над ними.
Другие особенности языка роднили его уже не с членами семьи, а с некоторыми современными ему писателями. Более молодые среди них, начинавшие отрекаться от него и утверждавшие, что у них нет никакого интеллектуального сходства с ним, проявляли его невольно, применяя те же самые наречия, те же самые предлоги, которые повторял и он, так же строя фразы, говоря тем же приглушенным, замедленным тоном, отталкиваясь от красноречия и легкого языка предыдущего поколения. Быть может, эти молодые люди – мы увидим, что такие встречались – не знали Бергота. Но его манера мышления, привитая этим писателям, вызвала у них те изменения синтаксиса и акцентовки, в которых неизбежно сказывается связь с духовной оригинальностью. Связь, которая требует, впрочем, разъяснения. Так, Бергот, если он никому не был обязан своей литературной манерой, то манеру говорить он заимствовал от одного из своих давних товарищей, который замечательно владел искусством разговора и влияние которого он испытал, которому он невольно подражал в беседе, но который, будучи менее одаренным, никогда не написал ни одной по-настоящему значительной книги. Таким образом, если ограничиться оригинальностью устной речи, то Бергота пришлось бы признать учеником, писателем второстепенным, меж тем как, поддаваясь влиянию своего друга в области разговора, он, как писатель, проявил творческую оригинальность. Наверно, для того, чтобы отграничить себя от предыдущего поколения, слишком уж склонного к абстракциям, к эффектным общим местам, Бергот, если благоприятно отзывался о книге, всегда также выделял, приводил в виде примера какую-нибудь сцену, отличавшуюся образностью, какую-нибудь картину, лишенную рационалистического смысла. «О да! – говорил он, – это хорошо! там есть девочка в оранжевом платке, о! это хорошо», или еще: «Ах! там есть место, где полк проходит через город, о да, это хорошо!» Что до стиля, Бергот оказывался не вполне современным (а вообще был исключительно верен своей родине, ненавидел Толстого, Джордж Элиот, Ибсена и Достоевского), ибо всякий раз, когда он хвалил чей-нибудь стиль, он прибегал к слову: «нежный». «Да, я все-таки люблю Шатобриана больше в «Атала», чем в «Рене», по-моему, это более нежно». Он произносил это слово, как врач, который в ответ на уверения пациента, что молоко вызывает у него боли в желудке, говорит: «Но ведь молоко вещь очень нежная». И действительно, в стиле Бергота была особая гармония, подобная той, которая иным ораторам древности снискала похвалы, малопонятные для нас, привыкших к нашим новым языкам, где не ищут этого рода эффектов.
Также, когда кто-нибудь выражал ему свое восхищение по поводу того или иного места из его книги, он с робкой улыбкой говорил: «Мне кажется, это довольно правдиво, довольно точно, это может быть полезно», – но говорил только из скромности, как женщина, которую уверяют, что ее платье или ее дочь очаровательны, отвечает в первом случае: «Оно удобное», во втором: «У нее хороший характер». Но инстинкт зодчего был слишком силен в Берготе, чтобы он мог не знать, что единственное доказательство полезности его построек и их соответствия истине – это радость, ими доставленная, сперва ему, а потом и другим. И только много лет спустя, когда у него уже не было таланта, Бергот, – лишь бы не уничтожить, как она того заслуживала, лишь бы напечатать вещь, которой он был недоволен, – говорил, на этот раз уже самому себе: «Как бы то ни было, это довольно точно, это не бесполезно для моей родины». Так что фразу, которую некогда, хитря по скромности, он шептал своим поклонникам, он теперь твердил тайникам своего сердца, уязвленный уже в своем самолюбии. И те же слова, которые служили Берготу ненужным оправданием ценности его первых произведений, стали для него тщетным утешением в слабости последних.
В особой строгости присущего ему вкуса, в твердом желании писать всегда только такие вещи, о которых он мог бы сказать: «Это – нежно», благодаря чему его столько лет считали мастером бесплодным, жеманным, чеканщиком безделок, – была, напротив, тайна его силы, ибо привычка так же определяет стиль писателя, как и характер человека, и автор, несколько раз испытавший удовлетворение тем, что ему удалось выразить свою мысль с известной приятностью, навсегда кладет границы своему таланту, подобно тому как, делая частые уступки удовольствиям, лени или страху перед болью, мы создаем себе представление о нашей личности, в котором смягчены до неузнаваемости наши пороки и положен предел нашим добродетелям.
Если все же, несмотря на такое сходство между писателем и человеком, обнаруженное мной впоследствии, я в первую минуту г-жи Сван не поверил, что передо мной Бергот, автор стольких божественных книг, я, пожалуй, был не совсем не прав, так как сам он тоже в полном смысле слова в это не «верил». Он не верил в это, раз он так заискивал у людей светских (не будучи, впрочем, снобом), у литераторов, у журналистов, стоявших гораздо ниже его. Правда, теперь, благодаря всеобщему признанию, ему стало известно, что у него талант, в сравнении с которым положение в свете и официальные должности – ничто. Ему стало известно, что у него есть талант, но он не верил в это, поскольку продолжал притворяться почтительным к ничтожным писателям, лишь бы поскорее стать академиком, между тем как Академия или Сен-Жерменское предместье имеет столь же малое отношение к частице Вечного Духа, каковой является автор книг Бергота, как и к принципу причинности или идее Бога. Это он тоже знал, как клептоман без всякой пользы знает, что красть дурно. И человек с бородкой и носом в форме улитки прибегал к хитростям джентльмена, ворующего вилки, стараясь приблизиться к вожделенному академическому креслу, к какой-нибудь герцогине, располагающей в случае избрания несколькими голосами, но приблизиться так, чтобы никто из тех, кто считает преследование подобной цели пороком, не заметил его маневров. Это удавалось ему лишь наполовину, с речами настоящего Бергота перемежались речи Бергота эгоиста, честолюбца, который о таких-то людях, влиятельных, знатных или богатых, говорит только затем, чтобы придать себе вес, – между тем как в своих книгах, когда он действительно становился самим собой, так отчетливо показывал чистое, словно родник, обаяние бедности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
С необходимыми оговорками (лат.).
2
Граду и миру (лат.).
3
Прямым путем (лат.).
4
Нечто умозрительное, существующее только в воображении (лат.).
5
Рабочая комната, кабинет (англ.).
6
Няня (англ.).
7
Легкомысленный, фривольный (англ.).
8
Общество рысистых испытаний (фр.).
9
Область неизведанного (лат.).
10
Члены королевской семьи (англ.).
11
Встреча, собрание (англ.).
12
Предприимчивая, выскочка (англ.).
13
Покровительственно, надменно (англ.).
14
Вошедший в моду, модный (англ.).
15
Двухколесный экипаж, в котором место для кучера располагалось сзади, так что править приходилось через голову седока (англ.).
16
Встретить (англ.).
17
Обличье, облик (фр.).












