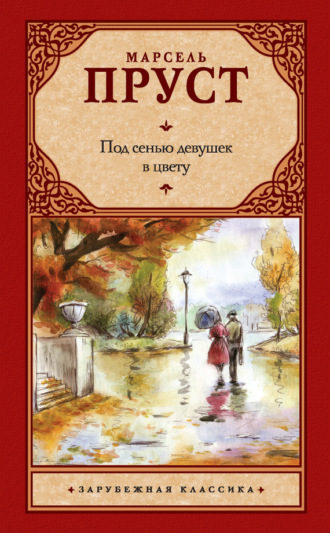
Полная версия
Под сенью девушек в цвету
В те минуты, когда Жильберта уходила переодеться перед прогулкой, Сваны, оставшись со мной в гостиной, с удовольствием рассказывали мне о редкостных добродетелях своей дочери. Все, что я мог наблюдать, казалось, подтверждало их слова: я замечал, что она, как я слышал об этом от ее матери, полна нежной продуманной заботливости не только по отношению к своим подругам, но и к прислуге, к бедным, полна готовности сделать что-нибудь приятное, опасений – как бы не огорчить, сказывавшихся в разных мелочах, которые стоили ей порой большого труда. Она приготовила подарок торговке с Елисейских Полей и, хоть шел снег, сама отправилась отдать его, не желая откладывать на другой день.
– Вы не представляете себе, что за сердце у нее, ведь она это не показывает, – говорил ее отец. Такая юная, она уже казалась рассудительнее своих родителей. Когда Сван говорил, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивала голову и умолкала, но не с видом порицания, а потому, что по отношению к отцу она не допускала и возможности какой бы то ни было критики. Однажды, когда я рассказал ей о мадемуазель Вентейль, она ответила:
– Никогда не познакомлюсь с ней, потому что она нехорошо обращалась со своим отцом, ведь говорят, она очень огорчала его. Вам этого так же не понять, как и мне, ведь вы, наверно, не дольше переживете вашего папу, чем я моего, да это и вполне естественно. Как забыть того, кого мы всегда любили?
А как-то раз, когда она еще больше, чем всегда, ласкалась к Свану, и я заговорил об этом после его ухода, – она сказала: «Да, бедный папа, скоро годовщина смерти его отца. Вы можете понять, что он переживает, вам ведь это понятно, мы с вами одинаково это чувствуем. Так вот, я стараюсь быть не такой скверной, как всегда». – «Но он-то не считает вас скверной, он считает, что вы самая хорошая». – «Бедный папа, это потому, что он слишком добрый».
Родители не только восхваляли мне добродетели Жильберты, той самой Жильберты, которая даже и тогда, когда я еще ни разу не видел ее, представлялась мне на фоне церкви, где-нибудь в Иль-де-Франсе, и которая потом, вызывая во мне уже не мечты, но воспоминания, всегда оставалась за изгородью из розового боярышника рядом с крутой тропинкой, где я проходил, направляясь в сторону Мезеглиза. Когда я, стараясь говорить равнодушным тоном друга семейства, которому хотелось бы знать, к кому привязан ребенок, кого из своих подруг Жильберта любит больше всего, спросил об этом г-жу Сван, она мне ответила:
– Но, вероятно, вам это лучше знать, – вам, главному любимцу, главному crack[14], как говорят англичане.
Разумеется, в случаях столь полного совпадения, когда действительность прилаживается и применяется к тому, о чем мы так давно мечтаем, она совершенно скрывает от нас наши мечты, сливается с ними, как две равные фигуры, образующие, после наложения друг на друга, одну, тогда как нам, для того чтобы придать нашей радости всю полноту ее значения, хотелось бы, напротив, сохранить за всеми элементами нашего желания, даже в ту минуту, когда мы их касаемся, тем самым укрепляя свою уверенность в том, что это именно они, – престиж недосягаемости. И мысль не в силах даже восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с этим новым, потому что у нее нет больше свободы действий: знание, приобретенное нами, воспоминание о первых минутах, казавшихся такими несбыточными, услышанные нами слова заграждают вход в наше сознание и завладевают нашей памятью в гораздо большей мере, чем нашим воображением; на наше прошлое, созерцая которое мы уже не властны отвлечься от них, они оказывают задним числом влияние более сильное, чем на будущее, форма которого остается еще свободной. Я целые годы мог думать, что начать посещать г-жу Сван – смутная греза, никогда для меня не осуществимая; а теперь стоило мне пробыть у нее четверть часа, – и время, когда я не был знаком с ней, казалось мне химерическим и смутным, как возможность, упраздненная осуществлением другой возможности. Разве эта столовая могла еще оставаться для меня местом непостижимым, предметом моих мечтаний, когда при каждом движении моих мыслей я встречался с непреломляющимися лучами, исходившими в бесконечность, вплоть до самого далекого моего прошлого, от омара по-американски, которого я только что поел? Должно быть, и Сван испытывал нечто подобное, ибо эти покои, где он принимал меня, можно было рассматривать как некое место, слившееся воедино, совпавшее не только с той идеальной квартирой, что родилась в моем воображении, но и с другой еще, которую ревнивая любовь Свана, столь же изобретательная, как и мои мечты, часто рисовала ему, – квартирой общей для него с Одеттой, казавшейся ему такой недостижимой в тот вечер, когда она пригласила его вместе с Форшвилем заехать к ней выпить оранжаду; и столовая, где мы завтракали, для него теперь вобрала в себя тот несбыточный рай, где он с легким нетерпением, но также и с некоторой долей удовлетворенного самолюбия мог сказать: «Барыня готова?» – те самые слова, которых, как ему казалось раньше и о чем он не мог без тревоги подумать, ему никогда не придется говорить их дворецкому. Должно быть, и я, в такой же мере как и Сван, не мог познать свое счастье, и если сама Жильберта восклицала: «Кто бы сказал, что та девочка, на которую вы молча смотрели, когда она играла, станет вашим лучшим другом и что вы будете приходить к ней, когда вам захочется!» – она говорила о перемене, которую я, глядя со стороны, конечно, должен был признать, но которой внутренне я не усвоил, ибо она складывалась из двух разных состояний, и мне не удавалось представить их себе одновременно так, чтобы они не утрачивали своего различия.
И все же эта квартира благодаря тому, что воля Свана так страстно стремилась к ней, должно быть, сохранила для него некоторую прелесть, поскольку об этом я мог судить по себе, для которого она не утратила всей своей таинственности. То особое обаяние, которое в моем представлении с таких давних пор окружало жизнь Сванов, я не совсем изгнал из их дома, когда сам проник в него; я только оттеснил его, подчинив себе, чужеземцу, недавнему парии, которому г-жа Сван теперь милостиво подвигала, приглашая сесть, восхитительное, враждебное и скандализованное кресло; но это очарование я еще чувствую вокруг себя, вспоминая о нем. Не оттого ли, что в те дни, когда Сваны приглашали меня завтракать, а потом ехать гулять с ними и с Жильбертой, я, в одиночестве ожидания глядя на ковер, на кресла, на консоли, на ширмы, на картины, оставлял на них печать жившей во мне мысли, что вот войдет г-жа Сван или ее муж или Жильберта? Не оттого ли, что потом все эти вещи жили в моей памяти по соседству со Сванами и под конец в них что-то перешло от Сванов? Не оттого ли, что, как я знал, Сваны проводили свою жизнь среди этих вещей, каждая из них становилась в моих глазах словно эмблемой их особой жизни, их обыкновений, которые слишком долго оставались недоступны для меня, так что и теперь продолжали казаться мне чуждыми, даже когда мне милостиво разрешили принять в них участие? Как бы то ни было, всякий раз, что мне вспоминается эта гостиная, которую Сван (критикуя, без всякого намерения перечить в чем-нибудь вкусам своей жены) находил такой разнородной по составу, – потому что, хотя она и была задумана наполовину как оранжерея, наполовину как ателье, в подражание квартире, где он познакомился с Одеттой, последняя начала уже заменять в этой путанице целый ряд вещей в китайском вкусе, казавшихся ей теперь не совсем «настоящими», очень «не стильными», множеством маленьких стульев, обитых старинным шелком в стиле Людовика XIV (не считая шедевров, перевезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной), – она, эта сборная гостиная, напротив, полна цельности, единства, неповторимого очарования, которых никогда не бывает ни в обстановке, завещанной нам прошлым и сохранившейся в самой полной неприкосновенности, ни в обстановке самой современной, носящей отпечаток живой личности: ибо только мы сами, веря, что вещи, которые мы видим, живут своей особой жизнью, можем в некоторые из них вложить душу, которая сохраняется в них и получает в нас свое развитие. Все же представления, которые я составил себе о часах, проводимых Сванами в этой квартире, являвшейся для будничной стороны их жизни тем же, чем тело для души, и выражавшей своеобразие этой жизни, столь непохожей на времяпрепровождение других, – представления эти, всегда одинаково волнующие и не поддающиеся определению, слились, сплавились с обстановкой, с плотными коврами, с расположением окон, с поведением прислуги. Когда после завтрака мы шли пить кофе в широкий фонарь гостиной на солнце и г-жа Сван спрашивала меня, сколько кусков сахара мне положить, от шелкового пуфа, который она пододвигала мне, веяло не только мучительным очарованием, открывшимся мне когда-то – у ограды из розового боярышника, а потом около лавровых деревьев – в имени Жильберты, но вместе и той враждебностью, с которой отнеслись ко мне ее родители и которая, казалось, так хорошо была известна этому маленькому пуфу, разделявшему ее, что я считал себя недостойным его и находил некоторой подлостью коснуться ногой его беззащитной обивки; – некая затаенная во всей этой обстановке душа связывала его с освещением, свойственным двум часам дня, не таким, как в остальной части этого залива, где у наших ног переливались золотые волны, из которых, словно волшебные острова, всплывали голубоватые диваны и туманные ковры; и не было ни одной вещи, вплоть до картины Рубенса, висевшей над камином, которая не обладала бы таким же, и почти столь же властным, очарованием, как свановские ботинки на шнурках и его пальто с пелериной, подобие которого мне так хотелось иметь и замены которого другим Одетта требовала теперь от мужа, желая, чтоб он был элегантнее, раз я делаю им честь, сопровождая их на прогулке. Она тоже уходила переодеваться, хоть я и уверял ее, что никакое платье для визитов не сравнится с чудесным крепдешиновым или шелковым пеньюаром, бледно-розовым, вишневым, розовым «Тьеполо», белым, лиловым, зеленым, красным, желтым сплошь или с узорами, в котором г-жа Сван завтракала и который собиралась снять. Когда я говорил, что ей следовало бы идти в этом платье, она смеялась – потому ли, что ее забавляло мое невежество или мой комплимент доставлял ей удовольствие. Такое обилие пеньюаров она оправдывала тем, что только в них ей было по себе, и она покидала нас, чтобы надеть одно из тех царственных платьев, которые на всякого производили впечатление и среди которых мне, однако, предлагали порой указать по моему вкусу самое подходящее.
Как я был горд, когда в Акклиматизационном саду, выйдя из экипажа, шел рядом с г-жой Сван! На нее, шествующую небрежной походкой, в развевающемся манто, я бросал восхищенные взгляды, ответом на которые была кокетливая долгая улыбка. Теперь, когда мы встречали кого-нибудь из товарищей Жильберты, мальчика или девочку, кланявшихся издали, я сам в свой черед оказывался в их глазах одним из тех существ, которым завидовали, одним из тех друзей Жильберты, которые знакомы с ее семьей и приобщены к другой части ее жизни, той, что протекала не на Елисейских Полях.
В аллеях Булонского леса или Акклиматизационного сада мы часто встречались с какой-нибудь великосветской дамой – приятельницей Свана, причем ему случалось не замечать, что она с ним здоровается, так что на нее указывала ему жена. «Шарль, вы не видите госпожу де Монморанси?» И Сван, с приветливой улыбкой, которой он был обязан долгим годам дружбы, все же снимал шляпу широким изящным жестом, свойственным лишь ему. Дама иногда останавливалась, довольная, что может сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему не обяжет и которой та, как это было известно, не постарается воспользоваться, настолько Сван приучил ее к сдержанности. Это не помешало ей усвоить вполне светские манеры, и как бы изящна и благородна ни была осанка дамы, г-жа Сван никогда не уступала ей в этом отношении; остановившись на минуту поговорить с приятельницей мужа, она с такой простотой представляла ей Жильберту и меня, в приветствии ее было столько свободы и спокойствия, что трудно было решить, кто из них двух – великосветская дама: жена ли Свана, или встретившаяся нам аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на обратном пути навстречу нам показалась, в сопровождении двух других, как будто составлявших ее свиту, пожилая, но еще красивая дама в темном манто и в маленькой белой шляпке, подвязанной на шее двумя лентами. «А! вот это будет интересно для вас», – сказал мне Сван. Старая дама, от которой нас теперь отделяло несколько шагов, улыбалась ласково и нежно. Сван снял шляпу, г-жа Сван сделала глубокий реверанс и собиралась поцеловать руку этой словно сошедшей с портрета Винтергальтера даме, но та подняла ее и поцеловала. «Ну, наденете ли вы шляпу?» – сказала она Свану голосом грубым и чуть сердитым, как старая приятельница. «Я представлю вас ее императорскому высочеству», – сказала мне г-жа Сван. Сван на минуту отвел меня в сторону, пока г-жа Сван разговаривала с высочеством о хорошей погоде и о зверях, только что полученных Акклиматизационным садом. «Это принцесса Матильда, – сказал он мне. – Знаете, приятельница Флобера, Сент-Бёва, Дюма. Подумайте, племянница Наполеона I! Ее руки просили Наполеон III и русский император. Не правда ли, это интересно? Поговорите с ней. Но я не хотел бы, чтоб она целый час продержала нас стоя. Я встретил Тэна, который мне сказал, что ваше высочество в ссоре с ним», – обратился к ней Сван. «Он вел себя как свинья, – сказала она резко и произнося последнее слово так, точно это было имя какого-нибудь епископа – современника Жанны д’Арк. – После его статьи об императоре я дала ему понять, что мы больше не знакомы». Я испытал то же удивление, какое испытываешь, открывая переписку герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. И действительно, принцесса Матильда, оживленная чувствами столь французскими, переживала их с честной грубостью, свойственной старой Германии и унаследованной ею, вероятно, от матери, принцессы Вюртембергской. Свою несколько шероховатую и почти мужскую прямоту она, улыбаясь, смягчала итальянской томностью. И все это сливалось с туалетом, настолько напоминавшим Вторую империю, что хотя принцесса и носила его, вероятно, только из привязанности к модам, которые были ей милы, все же, казалось, она намеренно стремится избежать исторической ошибки и оправдать ожидания тех, кто ожидал от нее воскрешения иной эпохи. Я шепнул Свану, чтобы он спросил ее, знала ли она Мюссе. «Очень мало, мосье», – ответила она, делая вид, что недовольна, и конечно, Свана она назвала мосье только шутки ради, так как близко знала его. «Он обедал у меня один раз. Я пригласила его к семи часам. Так как в половине восьмого его еще не было, мы сели за стол. Он приходит в восемь, здоровается со мной, садится, рта не раскрывает и уходит сразу после обеда, так что я не слышала и звука его голоса. Он был мертвецки пьян. Это не внушило мне особого желания повторить попытку». Сван и я стояли в стороне. «Надеюсь, этот маленький сеанс не затянется, – сказал он мне, – у меня пятки заболели. Да и не знаю, зачем моя жена поддерживает разговор. И она же ведь потом будет жаловаться, что устала, а я так терпеть не могу этих стоянок». Действительно, г-жа Сван, получившая эти сведения от г-жи Бонтан, как раз сообщала принцессе, что правительство, сознав наконец свою неучтивость, решило послать ей приглашение присутствовать послезавтра на трибуне, при посещении царем Николаем Дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на свое обращение, несмотря на характер окружающей ее среды, которую составляли главным образом художники и писатели, в сущности, всякий раз, когда надо было действовать, оставалась племянницей Наполеона: «Да, мадам, я получила его сегодня утром и отправила назад министру, к которому оно, вероятно, сейчас уже и вернулось. Я написала ему, что не нуждаюсь в приглашениях, чтобы навещать Дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я посетила его, то я буду там, но не на трибуне, а в нашем склепе, где гробница императора. Мне для этого не нужно билетов. У меня ключи. Прихожу, когда хочу. Правительству только остается сообщить мне, желает ли оно или не желает, чтобы я присутствовала. Но если я и буду, то только там, или уж не буду вовсе». В эту минуту г-же Сван и мне поклонился молодой человек, поздоровавшийся с нами на ходу и с которым, я думал, она не была знакома: Блок. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что он был представлен ей г-жой Бонтан, что он прикомандирован к канцелярии министра, – факт, неизвестный мне. Впрочем, она, должно быть, не часто встречалась с ним – или же не хотела называть его имени, находя его, вероятно, недостаточно «шикарным», так как она сказала, что его зовут г-н Морель. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его зовут Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней шлейф, на который г-жа Сван глядела с восхищением. «Это меха, которые прислал мне русский император, – сказала принцесса, – а так как я сейчас была у него, то и надела их, чтобы показать, какое вышло из них манто». – «Говорят, принц Людовик поступил в русскую армию, вашему высочеству, верно, грустно расстаться с ним», – сказала г-жа Сван, не замечавшая нетерпения своего мужа. «Очень ему это нужно! Я говорила ему: если в роду у нас был военный, то это еще не причина», – ответила принцесса, с внезапной простотой намекая на Наполеона I. Свану больше не терпелось: «Ваше высочество, разрешите мне взять на себя вашу роль и просить позволения откланяться, моя жена была серьезно больна, и я не хотел бы, чтоб она оставалась стоять на месте». Г-жа Сван снова сделала реверанс, и принцесса подарила нас всех божественной улыбкой, которая, казалось, была навеяна прошлым, грацией ее молодости, вечерами в Компьене, и скользнула, нежная и неизменная, по ее лицу, еще только что брюзгливому, затем принцесса удалилась в сопровождении двух фрейлин, которые, как подобает толмачам, нянькам или сиделкам, вкрапливали в наш разговор бессодержательные фразы и ненужные объяснения. «Вам надо будет зайти расписаться у нее как-нибудь на этой неделе, – сказала мне г-жа Сван, – у всех этих, как говорят англичане, royalties визитных карточек не загибают, но она пошлет вам приглашение, если вы распишетесь у нее».
Порою в эти последние дни зимы, прежде чем отправиться на прогулку, мы заходили на одну из тех маленьких выставок, которые открывались в то время и где Свана, видного коллекционера, с особой почтительностью приветствовали продавцы картин, устраивавшие эти выставки. И в это еще холодноватое время года мои давние мечты, мечты о путешествии на юг и в Венецию, пробуждались вновь, пробуждались в этих залах, где весна, бывшая уже в разгаре, и жаркое солнце покрывали лиловатыми отблесками розовые отроги Альп и придавали Большому каналу темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы отправлялись в концерт или в театр, а потом куда-нибудь пить чай. Когда г-жа Сван хотела сказать мне что-нибудь такое, что должно было остаться непонятным посетителям, сидевшим за соседними столиками, а то и гарсонам, она обращалась ко мне по-английски, точно это был язык, известный лишь нам двоим. Однако же его знали все, только я один еще не научился ему и был принужден сообщить об этом г-же Сван, чтобы она больше не делала насчет тех, кто пил чай или подавал его, замечаний, которые, как я угадывал, были нелестны и в которых я не понимал ни слова, тогда как они были совершенно понятны тем, к кому относились.
Однажды, когда мы собирались пойти на утренний спектакль, Жильберта повергла меня в глубокое удивление. Это был именно тот день, о котором она задолго мне рассказывала, и на этот день приходилась годовщина смерти ее деда. Мы с ней и ее гувернанткой должны были идти слушать отрывки из оперы, и Жильберта переоделась в ожидании этого концерта, храня тот равнодушный вид, который всегда бывал у нее, когда мы что-нибудь предпринимали; она говорила, что ей все равно, только бы доставить мне удовольствие и сделать приятное родителям. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас в сторону и сказала ей, что ее отец будет недоволен, если мы в такой день отправимся в концерт. Я нашел это вполне естественным. Жильберта осталась безучастна, но побледнела от злости, которую не смогла скрыть, и больше не сказала ни слова. Когда г-н Сван вернулся, жена отвела его в противоположный угол гостиной и что-то сказала ему на ухо. Он подозвал Жильберту и увел ее в соседнюю комнату. Оттуда послышались возбужденные голоса. Все же я не мог поверить, чтобы Жильберта, такая покорная, такая нежная, такая благоразумная, не пожелала исполнить просьбу отца, в такой день и по такой ничтожной причине. Наконец Сван вышел, говоря ей:
– Ты слышала, что я тебе сказал. Теперь делай что хочешь.
Злобное выражение не исчезло с лица Жильберты за все время завтрака, после которого мы пошли в ее комнату. Потом вдруг, без всяких колебаний, как будто бы их у нее и не было вовсе, она воскликнула: «Два часа! Но вы знаете, что концерт начинается в половине третьего». И она стала торопить гувернантку.
– Но разве это не будет неприятно вашему отцу? – сказал я.
– Ничуть.
– Однако он опасался, как бы это не показалось странным из-за этой годовщины.
– Какое мне дело до того, что думают другие. По-моему, смешно считаться с чужим мнением, когда говоришь о чувстве. Чувствуешь для себя, а не для публики. Мадемуазель, у которой мало развлечений, радовалась, что пойдет на этот концерт, и я не стану лишать ее этого удовольствия, чтобы доставить удовольствие публике.
Она взяла шляпу.
– Жильберта, – сказал я, беря ее за руку, – ведь это не для того, чтобы сделать удовольствие публике, а чтоб сделать удовольствие вашему отцу.
– Надеюсь, вы не собираетесь делать мне замечания, – резко крикнула она и вырвала руку.
Оказывая мне милость, еще более драгоценную, нежели прогулки в Акклиматизационный сад или посещение концертов, Сваны приобщили меня даже к своей дружбе с Берготом, явившейся еще до знакомства с Жильбертой источником обаяния, которое я в них находил, когда думал, что благодаря близости с божественным старцем Жильберта могла бы стать для меня самым страстно любимым другом, если бы ее несомненное презрение ко мне не отнимало у меня надежды на то, что когда-нибудь она увезет меня вместе с ним осматривать его любимые города. И вот однажды г-жа Сван пригласила меня на званый завтрак. Я не знал, кто будет в числе гостей. Только что войдя, еще в передней, я был сбит с толку одним смутившим меня обстоятельством. Г-жа Сван редко пропускала случай усвоить одно из тех обыкновений, которые в течение сезона считаются элегантными, но, не будучи в силах удержаться, вскоре же забываются (так, за несколько лет до этого у нее был свой «hansom cab»[15], и она посылала печатные приглашения на завтрак, «to meet»[16]какое-нибудь более или менее замечательное лицо). Иногда в этих обыкновениях не было ничего таинственного, и они не требовали специального посвящения. Так, следуя жалкому новшеству тех годов, вывезенному из Англии, Одетта заказала для своего мужа визитные карточки, где имени Шарля Свана предшествовали буквы: Mr. После того как я сделал ей первый визит, г-жа Сван, пользуясь ее выражением, «загнула» у меня одну из таких карточек. Еще никогда никто не оставлял у меня карточек; я почувствовал такую гордость, такое волнение, такую благодарность, что, собрав все свои деньги, заказал великолепную корзину камелий и послал ее г-же Сван. Я умолял отца завезти ей визитную карточку, но сначала поскорее заказать самому такие карточки, где бы имени его предшествовало: Mr. Он не внял ни той ни другой моей просьбе, несколько дней я был в отчаянии, а потом пришел к заключению, что он, пожалуй, прав. Но эта мода писать Mr. была если и бесцельна, то все же понятна. Иначе обстояло дело с другим новшеством, которое мне было дано узнать в день этого завтрака, но в смысл которого я так и не проник. Когда я проходил из передней в гостиную, дворецкий подал мне маленький и продолговатый конверт, на котором было написано мое имя. Удивленный, я поблагодарил его, а между тем взглянул на конверт. Я не знал, что с ним делать, как иностранец, не умеющий обращаться с теми инструментиками, которые на обедах у китайцев раздаются гостям. Я увидел, что конверт запечатан, побоялся проявить нескромность, открыв его сразу же, и положил в карман, сделав вид, что понимаю. Несколько дней тому назад г-жа Сван написала мне, приглашая завтракать в «небольшой компании». Было, однако, шестнадцать человек, в числе которых, о чем я совершенно не подозревал, находился Бергот. Г-жа Сван, только что представившая меня некоторым из них, вдруг, сразу же вслед за моим именем, тем же тоном, которым она произносила его, произнесла имя нежного седовласого Певца (как будто только мы двое были приглашены на завтрак и были одинаково рады познакомиться друг с другом). Это имя – Бергот – заставило меня содрогнуться, точно выстрел из револьвера, наведенного на меня, но инстинктивно соблюдая приличие, я поклонился; передо мной, подобный тем фокусникам, что выходят, невредимые и одетые в сюртук, из клубов порохового дыма, откуда вылетает голубь, стоял, отвечая на мой поклон, человек молодой, тяжеловесный, маленький, коренастый и близорукий, с красным носом в виде раковины улитки и с черной бородкой. Я был смертельно опечален, ибо в прах распался для меня не только тот мечтательный старец, от которого уже ничего не оставалось, – исчезла красота огромного творения, вместилищем которого могло быть в моих глазах изнемогающее священное тело, словно храм воздвигнутое мной нарочно для него, но для которого совсем не оставалось места в приземистом, состоящем из кровеносных сосудов, костей и мускулов теле стоявшего передо мной человечка с вздернутым носом и черной бородкой. Весь тот Бергот, которого создавал я сам, медленно и осторожно, капля за каплей, словно это был сталактит, вкладывая в него прозрачную красоту его книг, – этот Бергот оказывался вдруг ни на что не годным, раз нельзя было устранить улиткообразный нос и убрать черную бородку, подобно тому как становится ненужным решение задачи, в условие которой мы недостаточно вникли, упустив из виду, что итог должен составить определенную цифру. Нос и бородка были элементы неустранимые и тем более досадные, что, заставляя меня полностью перестроить личность Бергота, они, казалось, все время заключали в себе, создавали, выделяли из себя особый вид ума, деятельного и самодовольного, что было совершенно ни к чему, ибо этот ум ничего общего не имел с умом, который наполнял его книги, так хорошо знакомые мне и проникнутые сладостной и божественной мудростью. Исходя из них, я никогда бы не натолкнулся на улиткообразный нос; но исходя из этого носа, который, казалось, ни о чем не беспокоился, был вполне развязен и «сам себе хозяин», я пустился бы в направлении, совершенно противоположном творчеству Бергота, набрел бы, по-видимому, на интеллект какого-нибудь торопливого инженера из числа тех, которые, когда им кланяются, считают хорошим тоном сказать: «Благодарю вас, а как вы?» – прежде чем их успеют спросить, как они поживают, и которые, когда им кто-нибудь говорит, что очень рад знакомству, отвечают с лаконичностью, уместной, по их мнению, умной и современной, поскольку она помогает сберечь драгоценное время: «взаимно». Конечно, имена – это художники-фантасты, которые рисуют нам столь непохожие изображения людей и стран, что мы испытываем своего рода изумление, когда вместо воображаемого мира нам предстоит мир видимый (впрочем, тоже не являющийся миром истинным, ибо наши чувства не в большей мере, чем воображение, способны схватывать сходство, и те в конце концов приблизительные зарисовки действительности, которых удается достичь, по крайней мере так же отличаются от мира зримого, как он отличается от мира воображаемого). Но что касается Бергота, то смущение, в которое приводило меня имя заранее известное, было ничто в сравнении с замешательством, вызванным его знакомым мне творчеством, к которому я принужден был, словно к воздушному шару, привязать человека с бородкой, не зная, будет ли шар в силах его поднять. По-видимому, все же это он написал книги, которые так нравились мне, потому что, когда г-жа Сван сочла нужным сказать ему о моем пристрастии к одной из них, его ничуть не удивило, что об этом сообщают ему, а не какому-нибудь другому гостю, и он как будто не увидел в этом недоразумения; нет, заполняя надетый им в честь всех этих званых гостей сюртук телом, жадно готовящимся к близкому завтраку, занятый иными существенными реальностями, он – словно дело шло всего лишь о каком-нибудь давнем эпизоде его жизни, словно был сделан намек на костюм герцога Гиза, в который он был одет в таком-то году на костюмированном балу, – улыбнулся при мысли о своих книгах, которые сразу же опустились в моем мнении (увлекая в своем падении всю ценность Прекрасного, вселенной, жизни) – настолько, что оказались лишь жалким развлечением человека с бородкой. Я говорил себе, что он, должно быть, трудился над ними, но если бы ему пришлось жить на острове, окруженном месторождениями жемчуга, он вместо того с успехом занялся бы торговлей жемчугом. Творчество его уже не казалось мне больше таким непреложным. И тогда я спросил себя, действительно ли оригинальность доказывает, что великие писатели – боги, из которых каждый царит над страной, только ему принадлежащей, или же есть во всем этом доля обмана, не являются ли различия между произведениями скорее результатом работы, чем выражением коренного различия в самой сущности разных людей.












