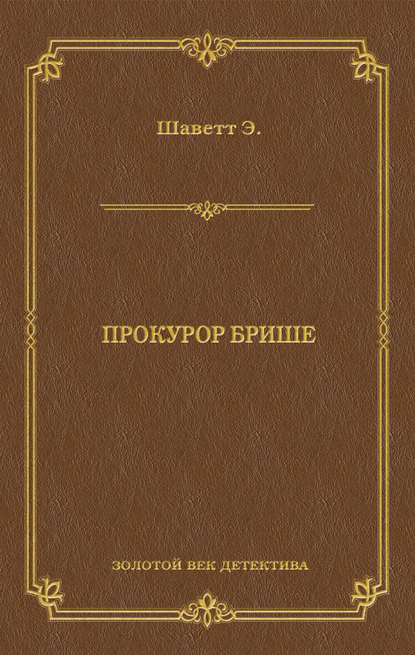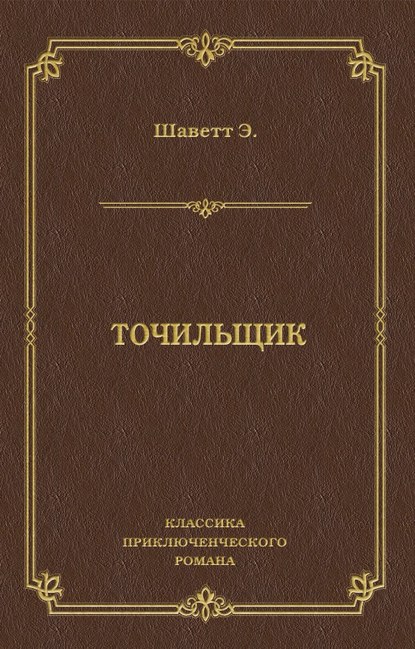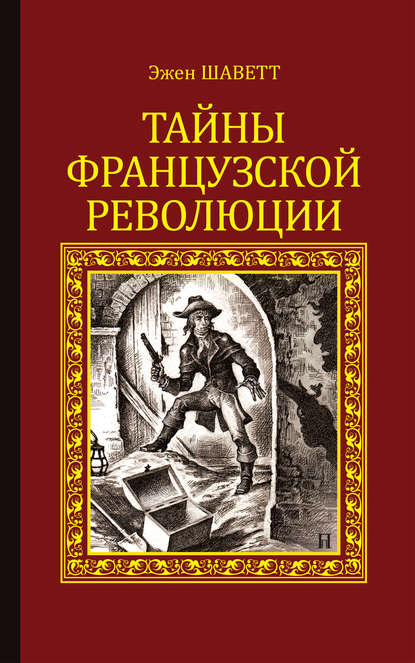
Полная версия
Тайны французской революции
– Откуда бы она ни была, она чрезвычайно красива, – заметила госпожа Рекамье.
– Да, у нее длинные великолепные волосы, которые ей гораздо больше к лицу, чем эти ужасные модные сосиски, – просвистала Паулина Бонапарте, которая, сохранив свою длинную прическу, намекала на завитки «a la tirebouchon» госпожи Талльен, красоте которой она завидовала.
В ответ на нелестное сравнение своих кудрей с сосисками госпожа Талльен кротко возразила:
– Да, вы правы. У этой дамы замечательные волосы, которые она не начесывает на уши.
Удар был меток. Если б паркет будуара не был покрыт ковром, то присутствующие услыхали бы бешеное топанье ножек госпожи Леклерк, уши которой, длинные, тонкие, без ясных очертаний, приводили Паулину в отчаяние.
Баррас, видевший приближение грозы и желавший отвратить ее взрыв, вскричал:
– Прелестные афинянки, пока вы меня здесь преследуете, вы пропустите концерт гражданина Гарата.
– А! Сегодня поет Гарат? Вот приятный сюрприз!.. Браво! – кричала толпа, бредившая этим певцом, который обрел громкую славу в многом благодаря смешной аффектации, прельстившей Чудих.
– Да, дамы, – продолжал Баррас, – и не один Гарат, но и Эллеву, которому Директория разрешила въезд в Париж.
Этот артист, бывший тогда в большой чести у женщин, замешанный в какой-то схватке полиции с «золотой молодежью», одним из лидеров которой он был, должен был бежать в Страсбург, чтоб скрыться от преследования Директоров, решивших послать его в армию, сражавшуюся в Италии.
Едва услышав имена двух обожаемых певцов, Чудихи прицепились к Баррасу.
– Пойдемте же, гражданин Баррас, ведите же нас. Дайте приказ, чтоб концерт начался скорее.
Во время этого разговора кавалер отошел к окну, откуда незаметно наблюдал за всем происходящим. Теперь он счел нужным вмешаться в разговор и, обращаясь к дамам, вскричал:
– Извините, гажданки, но господин Баас должен мне патию, чтоб дать отыгаться, и я ее тебую!
Горя нетерпением присоединиться к любимой женщине, Баррас заговорил с Чудихами о концерте с единственной целью – избавиться от них, но при вызове Ивона он подумал, что игра разгонит этих женщин, а потом он легко может отделаться и от молодого человека. Поэтому он сразу подхватил:
– Это правда, сударь, у меня ваших сто луидоров.
Но Баррас не принял во внимание красоту Ивона, которая в эту эпоху распущенности поразила женщин.
Они спрашивали себя, откуда взялся этот незнакомый кавалер, который носил наряд «щеголя», но которого они, однако, никогда не видали в своей свите.
Не показывая вида, что заметил общее волнение, Ивон сел за стол и бросил кости, говоря:
– Пятьдесят луидоов, гажданин!
– Идет! – отвечал Баррас.
Директор между тем старался под каким-нибудь предлогом проводить дам, обступивших игроков со всех сторон.
– Ну, что ж? Прекрасные богини, вы забываете о Гарате и Эллеву?
Но они и не думали уходить, а смеялись, кокетничали и заигрывали с Баррасом, чтоб привлечь внимание Ивона, который, весь погруженный в игру, не поднимал глаз от карточного стола.
Баррас же, ежеминутно отвлекался, делал ошибку за ошибкой, удваивал, утраивал ставку после каждой проигранной партии.
– Вы мне поигали восемьсот луидоов, гажданин Диекто, – скоро объявил Ивон.
– Ставлю на квит или вдвое.
Партия возобновилась. Но вдруг женская болтовня стихла, и послышались легкие шаги.
«Кто-то вошел», – подумал Ивон. И этот кто-то, должно быть, женщина, судя по тому, что эти болтушки замолчали, увидав ее. Он поднял голову. Глаза всех Чудих устремились на кого-то позади него. Он мог более не сомневаться: вошла женщина и остановилась за его стулом, увидев играющих. «Это она», – подумал Бералек. И, не произнеся ни слова, продолжил игру, как будто не заметил нового соседства. Если бы он еще колебался, то выражение лица его партнера убедило бы Ивона окончательно, что он не ошибался.
Баррас пожирал глазами женщину, стоявшую за спиной кавалера, и мысли Директора были уже далеко от игры. Он торопился выйти из-за стола, но едва заметный знак его любовницы приказывал ему кончать партию.
Он проиграл без борьбы.
– Не хотите ли отыгаться? – предложил Ивон.
– Вы позволите мне отказаться? – отвечал Баррас.
Так как в это время господства ассигнаций тысяча шестьсот луидоров составляли огромный куш, который проигравшему трудно было выплатить тотчас же, так же как и выигравшему неудобно унести с собой, Баррас отстегнул одну из печатей от цепочки своих часов и, подавая ее Ивону, сказал:
– Потрудитесь прислать мне эту вещицу завтра с вашим лакеем.
Ивон принял печать.
– Гажданин Диекто, – отвечал он, – эта вещица стоит тепей так доого, что она достойна быть педложенною в виде подайка. Позвольте отдать ее на память о вас.
И, не дожидаясь ответа Барраса, Ивон встал и повернулся, кланяясь.
Да, женщина стояла позади него.
Склонив голову, кавалер подал печать, говоря:
– Снизойдите, madame, пинять эту вещицу.
Маленькая ручка потянулась к нему.
Тогда Бералек поднял голову.
Глаза их встретились, и Ивон побледнел. Лицо женщины вдруг передернулось от болезненного удивления, она дико вскрикнула и, зашатавшись, упала без чувств.
Не попытавшись даже помочь ей, Ивон, пользуясь переполохом, бросился к двери.
Он наткнулся на группу входивших людей, в числе их был Фуше. Кавалер мимоходом толкнул его локтем и исчез прежде, нежели кто-то вздумал остановить его.
Чудихи толпились около упавшей в обморок женщины, когда Баррас отстранил их и обратился к Фуше:
– Помогите мне перенести ее на софу.
Вдвоем они подняли ее. В это мгновение губы молодой женщины зашевелились.
– Она говорила. Что она сказала? – спросил Баррас, который поддерживал ее ноги.
– Я ничего не понял, – отвечал Фуше.
Она произнесла несколько слов, и Фуше отлично разобрал их.
Воспользовавшись суетой вокруг этой таинственной красавицы, Ивон покинул бал и какое-то время бежал куда глаза глядят. Мало-помалу спокойствие вернулось к нему, он перешел на шаг и осмотрелся.
– Где я? – спрашивал он себя.
Он находился в нижней части улицы Сены, месте мрачном, глухом и небезопасном в эту пору ночи.
Он остановился перевести дух, но вдруг ясно расслышал шум шагов, раздавшихся в ночной тишине.
«Уж не собираются ли напасть на меня?» – подумал Ивон.
И в тот же миг дюжина людей нагнала его и попыталась окружить.
В одну секунду Ивон выхватил пистолеты и прислонился спиной к ставням какой-то лавочки.
– Эй вы! Негодяи! – кричал он. – Берегитесь! Вы имеете дело с человеком, который сумеет постоять за себя.
Не обращая внимания на эти угрозы, Ивона взяли в кольцо и бросились на него по сигналу, данному шепотом:
– Кыш! Кыш! К точильщику!
V
Найдя комнату друга пустой, Пьер Кожоль, сказали мы, тотчас же вспомнил о поручении Ивона Бералека, которое тот дал, уходя из гостиницы «Страус».
– Если я завтра утром не вернусь, отправляйся на поиски – или освободить меня из западни, которую мне могу приготовить, или отмстить за мою смерть.
Граф Кожоль вернулся в свою комнату и быстро переоделся в костюм работника. Он спрятал пистолет под куртку и запасся крепкой дубиной, которой, как всякий бретонец, умел отлично владеть.
– Итак, в поход, Собачий Нос! – сказал он себе.
Страх не давал Жавалю сомкнуть глаз. С самого раннего утра трепещущий трактирщик поместился на стуле в своей передней и, вытянув нос, глазами впившись в ряд колокольчиков от разных комнат, четыре часа терпеливо ожидал звона колокольчика из № 12-го, чтоб вскочить при первом зове своего страшного жильца.
Следя за колокольчиками, трус предавался таким грустным размышлениям:
«Я бы охотно прокричал: „Да здравствует Республика!“ – но если тигр спит, то он может рассвирепеть при неожиданном пробуждении. Вот уж восемь часов… А долго же спять в полиции!.. Остался ли этот палач доволен моим бордосским? Я помню, что разбавил несколько бутылок для иностранных путешественников: лишь бы ему не попалась одна из них! И каково подумать, что у меня нет других постояльцев, кроме этого полицейского шпиона! Все разбежались от моих патриотических криков! Если этот кошмар продолжится, то я разорен в прах!»
Несмотря на свое отчаяние Жаваль имел одно утешение.
«Ба! – рассуждал он. – По-моему, все-таки лучше разориться, чем быть расстрелянным. Да наконец, я укрощу этого свирепого зверя своим усердием, предупредительностью, а особенно дешевизной моего заведения», – прибавил он с глубоким вздохом, при воспоминании о принятом обязательстве отказаться от обдирания путешественников.
Потому читателю понятно волнение Жаваля, когда он увидел сходящего с лестницы постояльца, чье пробуждение он караулил с таким страхом.
– Страус, я, вероятно, не вернусь до вечера, – сказал Пьер.
– Разве господин Бералек выйдет с пустым желудком? Гражданин, должно быть, не знает, что и завтрак включен в цену комнаты?
– Итак, вы меня не будете ждать, – прибавил Кожоль, не обращая внимания на вкрадчивую речь Жаваля.
– В таком случае, вернувшись, гражданин найдет в своей комнате ужин и одну… и даже две бутылки того бордо… которым, надеюсь, господин остался доволен, – сказал хозяин со смутным страхом при мысли о том, что он мог подать своему ужасному постояльцу бутылку, мошеннически разбавленную для иностранцев.
Но, торопясь и беспокоясь, граф Кожоль вышел, не отвечая на предупредительность Жаваля, который, стоя у порога, провожал его глазами, бормоча:
– Куда это он отправляется в костюме работника? О! Эти полицейские шпионы очень искусны в переодевании.
Он внезапно побледнел.
– Да, куда же он?.. Может ли быть, что чудовище отправляется с доносом на меня? Он ушел, мрачный и задумчивый. А я-то забыл крикнуть: «Да здравствует Директория»! Он, конечно, идет заказывать ружья! Ах, Боже мой! Я чувствую, что совсем болен, пойду проглочу своего успокоительного.
Пока Жаваль сокрушался о своей судьбе, Кожоль быстрым шагом шел по улицам Парижа.
Он достиг Люксембурга, размышляя:
– До приезда во дворец никакая опасность не могла угрожать моему храброму Ивону. Неприятель мог подстеречь его или на самом балу, или после того.
Пьер проник в публичный сад, который, как мы сказали раньше, возвышался уступами над оградой приватного. Кожоль оперся на мраморную балюстраду и оттуда увидал внизу работников, убиравших праздничные украшения.
«Если на балу произошел какой-нибудь скандал, в котором замешан Ивон, то эти работники ничего не могут знать о нем; нужно расспросить кого-нибудь из живущих в самом дворце или слугу», – думал Пьер.
Он вернулся назад, повернул на улицу Вожирар и дошел до входа в Люксембург, обращенного на улицу Турнон.
На пороге, гордо вытянувшись, стоял мифический колосс, швейцар этих дверей, одетый в блестящий мундир, весь шитый золотыми галунами.
«Вот кто может дать мне некоторые объяснения», – решил Пьер.
Благодаря своему костюму, придававшему ему сходство с работниками, убиравшими бальный хлам, Кожоль смело вошел во дворец и прошагал мимо вызолоченного швейцара.
Сделав несколько шагов в передней, он вдруг повернулся и, возвратившись к блестящему привратнику, сказал:
– Ах, генерал, скажите мне…
Польщенный званием генерала (данным, по его мнению, за вызолоченный мундир), швейцар стал любезен:
– Что тебе, милый мальчик?
Кожоль принял таинственный вид и наудачу прошептал ему на ухо:
– Гм! Генерал, что вы скажете о вчерашней истории?
– Вот как! Так ты о ней знаешь, малый? – вскричал наивно швейцар.
Сердце графа забилось от радости при этом восклицании, указавшем ему на начало следа. Он покачал головой, говоря:
– О, я о ней знаю, не зная ее. Видите ли, генерал, как послушаешь того, другого, так никогда не доберешься до правды… разве только обратишься к серьезной и высокопоставленной особе… например к вам.
Высокомерный швейцар с удовольствием пил чашу этой грубой лести, которая развязала ему язык.
– Ну, так ты можешь увериться, насколько тебе налгали, потому что я скажу тебе всю правду, я! Истинную правду! – сказал громадный сторож, желавший разоблачить обманщиков из передней, до которой дошли неверные сведения.
– Узнаем истинную правду, генерал.
– Слушай. В то время как директор Баррас обнимал одну даму, вор подкрался к нему и собирался вытащить часы. Но ему удалось сорвать только один из брелоков. Дама хотела помешать бегству вора, но он свалил ее на землю ударом кулака. Жаль, что я вовремя не узнал об этом, а то легко бы схватил этого подлеца на выходе. Я как раз стоял у дверей дворца, когда он быстро проскакал мимо. А я еще подумал: «Вот мальчик, которому ужасно хочется догнать хорошенькую упорхнувшую танцовщицу». Как сейчас вижу его, бегущего, как спущенная стрела, в улицу Турнон.
– И это истинная правда?
– Мой славный друг Баррас сам рассказал мне все, – нагло возразил швейцар.
– Благодарю, привратник.
И Пьер удалился, оставив швейцара в удивлении от такого прощанья, так резко противоречившего приветствию.
Кожоль хорошо понимал, что этот пустоголовый передал ему только ложные, глупые сплетни слуг, не знавших ровно ничего. Но из всего рассказа он обратил внимание на одну фразу швейцара, который в этом случае, конечно, не лгал.
Эта фраза была: «Я еще вижу его, бегущего в улицу Турнон, как стрела, выпущенная из лука».
«Если по неизвестной мне причине, – размышлял Пьер, – мой добрый Бералек бежал к улице Турнон, то я должен следовать той же дорогой».
Шаг за шагом, не торопясь и не оставляя без внимания ни малейшей детали, он спустился к улице Турнон.
«В первые минуты своего бегства Ивон не мог оставить мне путеводных знаков, посмотрим ниже», – заключил Пьер.
Продолжая идти вперед, граф добрался до перекрестка Бюси. Там он остановился в нерешительности. Из трех дорог, открывшихся ему, направо, налево и прямо, которую должен он выбрать?
– Что это такое? – сказал вдруг Кожоль, всмотревшись в глубь улицы Сены и разглядев группу людей, находившихся в шагах тридцати от него.
То были любопытные, которые с испуганными лицами рассматривали лужу крови на мостовой перед фруктовой лавкой и в то же время прислушивались к рассказу человека, стоявшего на пороге своего магазина.
– Я не слыхал начала ссоры, – говорил он. – И уже спал в своей постели, когда меня разбудил выстрел, затем, пять секунд спустя, – паф! последовал другой. Битва продолжалась, раздавались хриплые бешеные крики, но уже без выстрелов, кто-то, должно быть, налетел на ставни, потому что они трещали под натиском. Потом – глухой удар, а за ним – сдавленный крик, и наконец наступила тишина, в которой я различил шепот: «Он умер, совершите над ним обряд одевания». Вы понимаете, каково мне было! Я боялся пикнуть и не выходил из комнаты до тех пор, пока не уверился, что шаги удалились.
– И тогда вы вышли, чтоб помочь жертве, если бы это понадобилось? – спросил Пьер, побледнев от волнения.
– Да, минут через пять я осторожно отворил дверь и увидал в темноте два тела, распростертые перед моей лавочкой… два, это верно. Я собирался уже выйти на улицу, когда услыхал чьи-то глухие шаги. Я поспешил опять захлопнуть дверь и притаился за нею. Незнакомец подошел, остановился на минуту, потом, произнеся «уф» – восклицание, свойственное человеку, поднимающему тяжесть – удалился, как мне показалось, ступая тяжелее, чем прежде.
– Тогда вы вышли второй раз? – снова спросил Кожоль, с лихорадочным нетерпением ожидая конца рассказа.
– Нет. Я боялся, чтоб меня не застал какой-нибудь возвратившийся бандит, я дождался рассвета, чтоб отворить дверь. Но на этот раз нашел только один труп и при виде его понял, что значил приказ, отданный шепотом: «Он умер: совершите над ним обряд одевания». Тело было обнажено, и лицо, с которого срезали нос, буквально изрублено ударами кинжала. Родная мать жертвы не узнала бы этого лица, так оно было изуродовано ранами!
– А куда же девалось тело? – вскричал Кожоль.
– Труп снесли в ожидании освидетельствования полиции, всегда медленной, как черепаха, в одну из нижних комнат Ниверне, в эту национальную собственность, на которую еще не нашелся покупщик.
Услышав это, Кожоль пустился в обратный путь.
Отель «Ниверне», расположенный на улице Турнон, был великолепным зданием, впоследствии купленным Парижем для устройства казарм.
Несмотря на душившее его горе Пьер сохранил присутствие духа.
«Там я найду, конечно, уже бесполезное подтверждение моей догадки, – думал он. – Мой дорогой Ивон умер, и убийцы обезобразили его труп, чтобы жертву не могли узнать».
Он остановился у отеля.
Несколько любопытных, выходивших из комнаты, обращенной во двор, указали ему дорогу, и он вошел. Труп лежал на столе.
Бледный и дрожащий, Кожоль приблизился, чтоб сказать последнее прости дорогому другу, которого больше никогда не увидит.
Чтоб не оставить никаких улик для розысков полиции, с трупа стащили все до последней рубашки, а лицо совершенно обезобразили. Отсутствие носа и глубокие рубцы, испещрявшие лоб и щеки, придавали этой голове что-то ужасное. На левой стороне груди виднелась круглая ранка, переполненная сгустившейся кровью и указывавшая путь, через который пуля прошла прямо в сердце этого человека, поразив его быстро, избавив от страданий и агонии.
Изрезанное лицо мертвеца вряд ли могло бы удивить любопытных, толпившихся в зале, потому что среди трупов, валявшихся на улицах Парижа после ночных кровавых схваток часто случалось находить тела с совершенно обезображенными головами.
Как ни был ужасен вид этого окровавленного лица, граф Кожоль при первом же взгляде на него почувствовал радость в сердце. Двух секунд достаточно было, чтоб убедиться: этот труп не принадлежал его другу – огромные грубые руки мертвеца не имели никакого сходства с нежными белыми руками кавалера.
Не теряя времени на отыскание других доказательств, Пьер вышел на улицу. Но после первой минутной радости страх овладел им.
«Нет, – рассуждал он. – Этот мертвец не Ивон, а я мог бы поклясться, что негодяя отправила на тот свет пуля моего храброго друга. Покойник принадлежал к какой-нибудь шайке, которая, без сомнения, имеет свои причины скрываться и потому обезображивает трупы убитых товарищей».
Горестная мысль заставила его остановиться.
«Но торговец фруктами сказал, что видел два тела, когда в первый раз отворял дверь! Не принадлежало ли второе кавалеру?»
Рыдания душили его, и он прошептал:
– Я слишком рано вздумал радоваться: мой дорогой Бералек погиб.
И тут одно воспоминание поразило его: слова лавочника о том, что кто-то после побоища вернулся на место схватки, охнул, как будто поднимал тяжесть, и медленно удалился, словно нес тяжесть. «Должно быть, он-то и унес другое тело», – подумал граф.
Он опять пустился обратно к фруктовой лавочке, где торговец двадцатый раз уже повторял перед новой группой свой рассказ, который Кожоль прервал вопросом:
– А в какую сторону направился человек, вернувшийся за телом?
– Я уверен, что направо.
Не расспрашивая дальше, Кожоль поспешил по улице направо.
– Да, – рассуждал он. – Туда, непременно туда, логика подсказывает, что все верно. Если этот человек, обремененный ношей, повернул бы налево, то он должен был подняться вверх к улице Турнон и таким образом рисковал привлечь к себе внимание людей, возвращавшихся с бала. Но кто же этот человек? Хороший малый, как видно, но только порядочной трусишка. У него не хватило храбрости, чтоб прийти на помощь Ивону во время самой схватки, которую он должен был видеть из-за угла. Но если он унес моего товарища, то, без сомнения, потому, что тот еще дышал и была надежда спасти его.
И Пьер радостно крикнул, не заботясь о мнении прохожих:
– Ур-ра! Ивон жив и находится в руках друзей.
Но веселость графа вдруг исчезла. Вид места, где он оказался, внушил ему мрачную мысль, которой он и закончил с дрожью в голосе свою речь:
– …Или в руках врагов, которые стащили его в воду.
Это мрачное размышление вызвала в нем близостью реки, у которой он вдруг очутился, спускаясь вниз по улице Сены. При этом ужасном подозрении Пьер почувствовал, что готов упасть от волнения, и поспешил облокотиться на решетку набережной.
Однако простоял так совсем недолго.
Присутствие человека на берегу воскресило в Пьере надежду, и он побежал к нему.
По виду это был добряк, с глуповатой физиономией, один из тех невинных безумцев, которые всю жизнь проводят на берегу реки, если только их не прихлопнет ревматизм.
Казалось, он просидел несколько часов за удочкой, судя по богатой добыче лежавшей возле него на холсте, в который он собирался завернуть ее.
– Эге, – сказал Кожоль, – гражданин снимает осаду?
Просидев столько времени нем как рыба, добряк рад был поболтать.
– О да! – отвечал он. – Солнце уж начинает пригревать; прохлада исчезает в воздухе, и теперь как раз время последовать правилу мудреца, которое гласит: «Довольствуйся малым!»
– Черт побери! – изумился Кожоль. – Вы называете это «довольствоваться малым»! Да у вас хватит рыбы на угощение целого полка. Для такого громадного улова требуется по меньшей мере два часа!
Добряк лукаво усмехнулся и возразил:
– Ага, сейчас видно, что гражданин не смыслит ровно ничего в рыбной ловле, иначе бы он сразу увидал, что мой улов – скромная награда за терпение, по крайней мере шестичасовое!
– Неужели?
– Я пришел сюда до зари, гражданин; да, до зари, – говорил рыбак, делая ударение на последнем слове с некоторою гордостью.
Таким образом граф выудил первую зацепку, которую желал получить, и, ободренный, продолжал свой ловкий допрос:
– До зари? В таком случае вы должны были видеть это место и в темноте?
– О! Нужно сначала нанизать приманку да подождать, пока клюнет рыба, на это одно потребуется час. Ну-с, так я забросил свою первую удочку только на рассвете, в половине четвертого.
– Самое время! Пока еще не мешают суда, волнующие гладь воды, и уличные мальчишки, которые то и дело кричат на берегу или же швыряют камни с мостов.
– Да, это так, – подтвердил рыболов.
– Правда также, – продолжал Пьер, – что вас могут беспокоить и разбойники, сбрасывающие в реку мертвые тела.
– Да, как это случилось в прошлом месяце.
– А потом?
– С меня и этого довольно! Натерпелся же я страху! Этот шум, который слышится от падения в воду тела… пуф!.. ни с чем не спутать! Так мороз нутро и пробирает.
– Так нынешней ночью вы не слыхали этого «пуф!»? – спросил молодой человек с притворным смехом.
– Слава богу, нет. А между тем я уж думал, что он опять повторится.
Кожоль вздрогнул от неожиданности.
– А как же это? – вскричал он.
– Только что я успел сойти на берег, как вдруг мне показалось при свете фонаря, что по набережной к Новому мосту идет человек, таща на плечах другого.
Пьер прекратил расспросы. Он оставил рыболова и поднялся на набережную.
«Человек прошел по Новому мосту, – думал он, – пойдем туда же!»
Он скоро достиг площадки, возвышавшейся у моста, на которой шесть лет тому назад красовалась статуя Генриха IV. В 1792 году Конвент велел переплавить ее и чеканить из ее меди монеты.
Хотя статуя исчезла, но тем не менее часовой сохранил свой пост на площадке.
Известна история одного французского маршала, который, видя часового у разрушенной скамьи, вздумал доискаться до причины этого караула. Оказалось, что пятьдесят лет тому назад эту скамейку выкрасили и приставили к ней сторожа, чтоб не дозволять публике садиться на нее.
С тех пор прошло полвека. Часовые сменялись один за другим, и никто больше не думал о снятии караула, нужда в котором давно отпала.
То же случилось и со статуей Генриха IV. Когда-то у подножия ее поставлен был часовой; с тех пор статуя успела исчезнуть, и вот уже шесть лет, как сторож расхаживал по опустевшей площадке.
Этот сторож принадлежал к драгунскому полку, под командой полковника Себастьяна. В эту эпоху финансового истощения лошади были чрезвычайно редки. Поэтому у кавалерийских полков, не участвующих в войне, они были отняты и отосланы войскам, сражающимся за границей.
Когда Кожоль проходил мимо драгуна, он заметил, что тот рассматривает на каменных плитах площадки большое пятно крови.
– Вот как, драгун! Здесь, надо полагать, убили сторожа нынче ночью? – спросил граф.
– О нет, гражданин. Товарищ, бывший в то время на карауле, рассказал нам, в чем дело. Надо полагать, что один из Щеголей нализался пьяным на балу Люксембурга. Возвращаясь домой, он наскочил с размаху на острые колья ограды, которые пропороли ему голову. И вот один друг взялся дотащить к себе этого молодого полумертвого господина. Добравшись до этого места, провожатый остановился перевести дух и перевязать платком рану на голове своего приятеля, из которой кровь лилась ручьем.