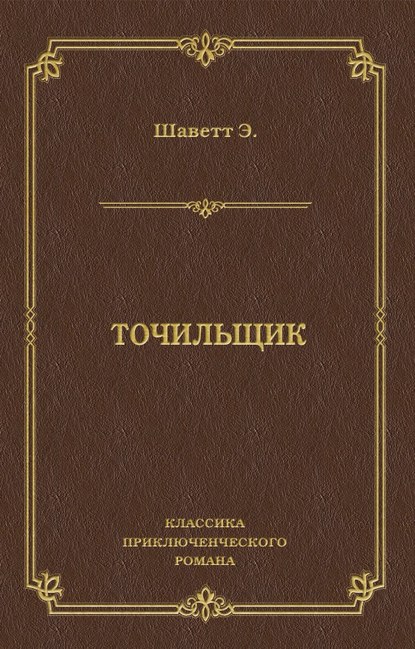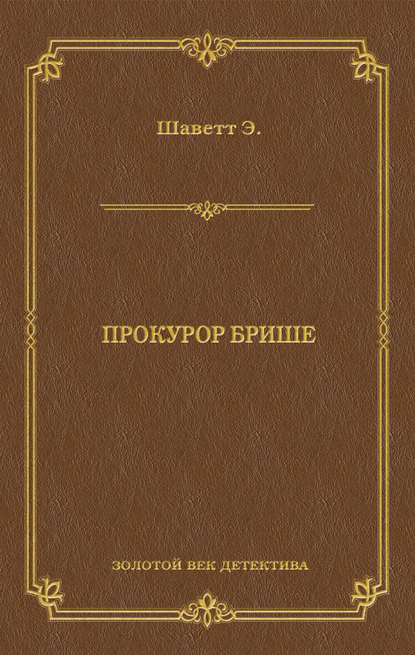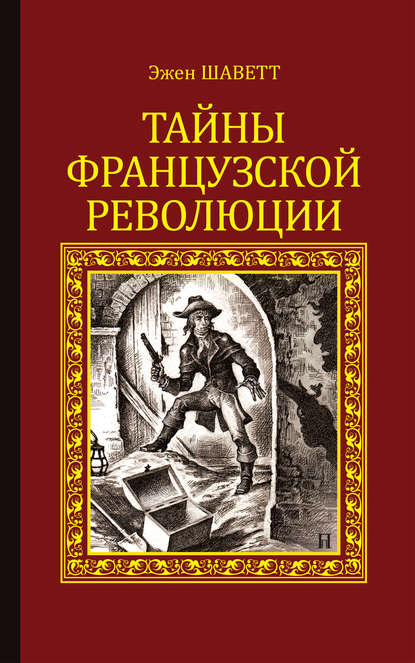
Полная версия
Тайны французской революции
Аббат приискивал нужное выражение.
– Друга, – подсказал Ивон, видя, что слово «любовник» было противно языку духовной особы.
– Да, друга. Тогда Баррас в порыве необузданной страсти, внушенной этим созданием, обратится к нам за деньгами, которые бросит на исполнение ее капризов.
– И это поручение… советника вы даете мне? – спросил Ивон.
– Отказываетесь вы от него? – живо возразил Монтескью, опасавшийся, что его объяснения охладили пыл молодого человека.
– Нет, вы мне сказали, что оно имеет свои опасности.
– Да, опасности, которые я не в состоянии вам указать, потому что не мог их отгадать. Эти люди убили или спровадили куда-то троих из наших. Откуда эта женщина? Кто она? Не знаю. Она вдруг появилась на празднествах сладострастного директора. Вчера еще никто о ней не знал, а сегодня разом стало известно и об ее существовании, и о влиянии на Барраса. Но в одном я уверен твердо: за этой женщиной установлен таинственный надзор, чтобы не подпускать к ней тех, кто попытался бы совратить ее с пути, ею самой однажды выбранного. Я сначала думал, что она действует в интересах Бонапартов, этой толпы честолюбивых родственников, которых генерал оставил в Париже за себя.
– Без сомнения, чтобы пригреть ему местечко, – заключил Ивон.
Аббат усмехнулся и продолжал:
– Нет, Бонапарты ни при чем в этом заговоре, единственная цель которого – перетянуть Барраса. Но Баррас не такой человек, чтобы легко купиться; он продает себя дорого, очень дорого…
И, разразившись смехом, аббат прибавил:
– А у Бонапартов нет ни гроша за душой!
Кавалер Бералек встал, чтоб распрощаться.
– Где найду я эту женщину? – спросил он.
– Она должна быть царицей праздника, который Баррас дает нынешней ночью в Люксембургском саду.
– Сегодня ночью я ей представлюсь, – решил Ивон, протягивая аббату руку на прощанье.
– Где вы остановились в Париже? – спросил тот.
– В гостинице «Страус», улица Ла Луа (бывшая улица Ришелье).
– Хорошо, до вечера вы получите двести луидоров на первые военные расходы.
Прислушиваясь к удаляющимся шагам молодого человека, аббат, оставшись один, прошептал:
– На этот раз сделана последняя ставка, и хорошая! Потому что я все рассчитал.
Увы! Аббат ошибся в расчете, не подозревая о существовании нового врага, которого звали: «Товарищи Точильщика».
II
Наблюдательные люди заметили тот странный факт, что все отрасли промышленности, питающие удовольствия и зрелища, никогда не достигают такого полного расцвета, как во времена всеобщей нищеты и коммерческих и политических кризисов.
Потому ли это, что общество ищет в удовольствиях отсрочки своим страданиям или забвения своих беспокойств? Мы не знаем этого, лишь приводим факт так, как он есть, не объясняя его. Поспешим прибавить, что никогда он не был лучше доказан, нежели в эпоху Директории.
Как сказал Монтескью Ивону Бералеку, нищета и анархия тогдашнего общества были глубоки, вся страна обагрилась кровью от ежедневных убийств, рожденных местью враждующих партий, однако Париж никогда еще не видал столь пышных торжеств.
После господства Террора, который в железном кулаке стиснул волю страны, вдруг вспыхнул пожар всеобщего веселья, начались всюду бешеные вакханалии и такое растление нравов, что эта эпоха не без основания названа вторым «правлением Террора».
– Они рехнулись! – говорил Делиль, глядя на обезумевший народ.
Многие умирали от голода, на улицах убивали друг друга, но везде устраивались пляски. Так как частные лица еще боялись открывать свои гостиные, все классы общества встречались на балах, по подписке или в публичных зданиях, появлявшихся в большом количестве.
Великолепный сад фермера-генерала Буттино, – гильотинированного со всеми своими собратьями, по словам Дюваля, «за прибавление воды в табак народа», – окрещенный подрядчиками Тивольским, первый открыл публике свои врата. Потом был дан бал в елисейских садах и дворцах, где негр Жюльен, Штраус того времени, управлял оркестром. Сад капуцинок, Ранелаг Булоньи, Вокзал Маре, Ганноверский павильон, отель Теллюсон были слишком тесны для всей этой массы народа. Гости переправлялась даже на другую сторону реки для танцев – или на балу Зефиров, происходившем под открытым небом на кладбище Сен-Сюльпис, где буквально отплясывали на могилах, с которых, однако, позаботились снять надгробные камни и свалить их в сторону; или на балу Ночного Собрания в Сите, где два раза за вечер антрепренер Виало угощал своих слушателей «Кошачьим концертом», привлекавшим весь Париж. Его секрет был в том, что двадцать кошек, зрителям которых видны были одни морды, помещались на клавишах клавикордов. Эти клавиши были не что иное, как заостренные пластинки, из которых каждая прикреплялась к хвосту кошки, поднимавшей крик. Звук этого крика, соответствуя музыкальной ноте, производил вместе с ней ужасный шум, заставлявший публику помирать со смеху.
Мы отказываемся исчислять все балы, которые нарочно придумывались, начиная с бала Абонентов, открытого на улице Мон Блан танцевальным учителем Депро, только что женившимся на Гиморе, знаменитости парижской оперы, до большого бала улицы Муффетар, получившего так мало подходящее название «Сельского Бала», тем более что он происходил на пятом этаже.
Довольно сказать, что Париж за два года видел открытие ста шестидесяти балов, которые, однако, не удовлетворили эту ненасытную «эпидемию-пляску», по событиям которой Гардель поставил в Опере свой прелестный балет «Танцомания».
Не будем описывать развращение нравов, которое, естественно, должно было возникнуть от смешения слоев общества, особенно когда супружеские узы ослабли благодаря легкости развода. Казалось, все общество жаждало беспутства и хотело вознаградить себя за вынужденное благоразумие, так долго против воли навязываемое ему республиканским правлением.
Сознаемся, что женщины во многом виноваты в этой нравственной порче. Они бросились очертя голову в эти празднества, на которые являлись почти нагие и где бывали причиной кровавых ссор между республиканцами (известными тогда под общим именем якобинцев) и золотой молодежью, почти сплошь состоявшей из роялистских реакционеров, которые четыре года тому назад помогли низвергнуть Робеспьера, и которую якобинцы презрительно называли Щеголями, Невообразимыми или Чудными.
Тайная история Директории, которая лучше других сочинений того времени описывает нравы эпохи, говорит следующее о тысяче затруднений, причиненных Директории Щеголями, которые, упиваясь кратким мигом удачи, привлекали всеобщее внимание своей смелостью, бесцеремонностью и особенно – оригинальным костюмом. Они вздумали носить волосы, заплетенные в мелкие косички или спадающие наподобие собачьих ушей, пудрить свои маковки и к зеленой одежде с длинными фалдами прибавили еще черные бархатные воротники. Щеголи вооружались узловатой дубиной, с помощью которой на улицах города «встрепывали волоса» якобинцам, ходили с пистолетами в карманах курток и в довершение приняли обыкновение англичан носить сапоги с отворотами.
Этот костюм, не без изящества, при всей своей оригинальности являл странный контраст с одеждой якобинцев, которые еще не отказались от своих коротких курток, гладко причесанных волос и толстых башмаков.
Это различие в одежде служило беспрестанно поводом к ссорам и схваткам на улице. Деятели реакции термидора, Щеголи, пытались сохранить свою власть. Чтобы отплатить за гнусные злодейства, учиненные знаменитыми санкюлотами, они убивали их среди белого дня.
Якобинцы, озлобленные тем, что получили властителей в тех, которые когда-то были угнетенными, упрекали Щеголей в сговоре с иностранцами, в переписке с изгнанными принцами, в ношении под видом своих зеленых курток ливреи графа Артуа, а под видом черных бархатных воротников – траура по Людовику XVI.
Была доля правды в этих обвинениях. Щеголи, с женоподобными манерами, жеманными речами, с приторной нежностью языка, состоявшей в том, что они не произносили «р», были действительно почти все антиреспубликанцами, сыновьями или родственниками жертв Террора, или имели претензию на родство с ними. Они составляли войска аббата Монтескью.
Директория не смела восставать против тех, кто помог государственному перевороту, из которого она сама же вышла после падения Робеспьера. Когда, слишком теснимая жалобами якобинцев, она решалась обуздать Щеголей, на нее набрасывались все женщины, которыми она себя окружала. Они кричали о тирании, о несправедливости; они брали на себя защиту этих «бедных молодых людей, таких интересных», так что волокиты-Директора пугались не на шутку, и Щеголи оставались безнаказанными.
Дамы тем охотнее покровительствовали Щеголям, что сами часто подвергались обвинениям в сумасбродстве своих костюмов, и нужна была рука защитника, чтоб они могли отправиться в театр, в Муссо, Тиволи или… Кобленц (так называлась часть бульвара, известная теперь под именем бульвара Итальянцев).
Здесь-то они и выставляли напоказ те странные наряды «а lа grecque», которые, казалось, заставили их забыть всякий стыд. Красавицы появлялись почти голые, без рубашки (в буквальном смысле), без юбки… ничего, кроме тесно облегающей пеленки телесного цвета и, поверх нее, туники из прозрачной кисеи, которая к тому же не закрывала ни рук, ни ног, ни шеи. Браслеты на манер античных украшали руки и нижнюю часть икр. Вместо башмаков носили сандалии, а каждый палец руки украшался кольцом с камеей или бриллиантом. Золотой или шелковый пояс подхватывал одну сторону туники, открывая взгляду обнаженную ножку.
Легкая и прозрачная ткань туники подходила для посещения театра или праздников под крышей; но выходной наряд, состоявший из цветной шерстяной туники, столь же открытой и короткой, тоже считался совершенно приличным. Однако женщина в таком костюме раздражала народ, преследовавший ее издевками и оскорблениями и часто доходивший до того, что спускал ее в бассейн публичного фонтана.
Зато и дамы эти выходили в город не иначе, как в сопровождении стражи Щеголей, защитников женщин от грубой толпы. Тогда начиналась схватка, в которой пускались в дело палки, ножи и пистолеты, и кровь текла рекой.
Теперь, когда благодаря историкам того времени мы набросали черты парижского народа в 1798 году, возвратимся к нашему рассказу, прося у читателя извинения за длинное, но познавательное отступление.
Так вот для этой-то смеси Щеголей и якобинцев Директория давала в тот вечер бал, и на этом бале Бералек должен был увидеть женщину, которую аббат Монтескью велел ему покорить.
Этот бал служил выражением настоящего национального торжества по случаю взятия Мальты Бонапартом, который завладел островом по дороге в Египет. Директория праздновала этот подвиг оружия с тем большею искренностью, что событие это отдаляло от Франции самого опасного врага нынешнего режима.
Водворившись в Малом Люксембурге, пять Директоров имели в своем распоряжении приватный сад Дворца. Здесь, под открытым небом, в теплую июньскую ночь, празднество ожидало приглашенных.
Приватный сад состоял тогда из так называемого теперь «большого четвероугольника». Разбитый в низине, которую позже соединили, сровняв склоны, с великолепной каштановой аллеей, он был обнесен стенами, образующими террасы, заметные до сих пор.
Публичный сад возвышался над приватным. С высоты этих террас народ мог глазеть на бал, поэтому с наступлением ночи, по приказанию Барраса, из публичного сада выпроводили публику и ворота были заперты. Из сада толпа высыпала ко входу во дворец, расступившись перед Щеголями и Чудихами, которых она принимала со свистом и ругательствами.
Мало-помалу приглашенные съехались, ожили ярко освещенные залы и сад.
Но по всему собранию невольно пробегал трепет любопытства. Все нетерпеливо ожидали появления новой султанши, принадлежавшей, по слухам, сластолюбивому Баррасу.
До этого дня ее видели только завсегдатаи интимных собраний.
В первый раз она собиралась выставить напоказ перед всей публикой свое превосходство, которое давала ей красота.
В ту минуту, когда дворцовые часы пробили десять, шепот пробежал в толпе:
– Вот она! – слышалось со всех сторон.
III
Выйдя из дома на улице Пла-д’Этен, Ивон Бералек вернулся на Ла Луа, где по приезде в Париж он остановился в гостинице «Страус», как он и сказал аббату.
Забавная вывеска этой гостиницы, носившей прежде название «Австрия»[3], обязана была своим происхождением осторожной перемене, которую боязливый хозяин счел за лучшее совершить несколько лет тому назад, во время процесса Марии-Антуанетты, когда народ бегал по улицам с криками: «Смерть Австриячке!».
Гражданин Жаваль, так звали хозяина гостиницы, был воистину олицетворением трусости. Во время Террора он так часто дрожал за свою голову, что ему постоянно чудилось, будто она уже находится в отверстии гильотины, так что даже теперь, когда опасность миновала, он сохранил боль в шейных нервах. Когда его спрашивали о чем бы то ни было, Жаваль сотрясением своей головы, казалось, всегда отвечал: «нет».
А между тем этот же страх сделал его в былые дни весьма изобретательным: тогда же, как он переменял свою вывеску, Жаваль потребовал, чтоб торговка холстом, которой он сдавал под лавочку помещение в первом этаже, тоже сняла свою вывеску, дерзко гласившую в то время, когда было отменено почитание всех святых: «Торговый дом Св. Иоанна-Крестителя» («Maison du Saint-Jean-Baptiste»). Видя отчаяние своей жилицы, очень дорожившей названием магазина, Жаваль возымел гениальную мысль перевернуть надпись, что он сделал и со своей. На вывеске изобразили обезьяну в тонкой рубашке и подписали: «Торговый дом обезьяны в батисте» («Maison du singe en baptiste»)[4].
Судьба назначила этому бедному Жавалю трепетать всю жизнь. После трепета во время Конвента он дрожал под управлением Директории, потому что его трусливый характер поставил его в странное положение. Во время Террора, боясь подозрения в отсутствии патриотизма, он превзошел всякие границы хвастовства перед своими соседями.
– Пусть-ка вторгнется неприятель во Францию, – вскричал он. – Я прыгну до самой пограничной заставы! Там, схватив саблю, возьму свою голову за волосы, отрублю ее и, подавая неприятелю, закричу самым грозным голосом: «Ты видишь, на что способен свободный человек! Теперь осмелься подойти!»
Эта глупая фраза, произнесенная Жавалем из страха перед соседями, ужаснула их:
– Какое свирепое животное! – говорили они шепотом друг другу.
Но теперь, когда страшные дни миновали, соседи мстили за прежнее, посмеиваясь:
– Гражданин Жаваль! Не боитесь ли вы ответить за прежнее рвение, которое вы выказывали когда-то слишком ясно?
Так что трактирщик после опасения не высупить достаточно горячим патриотом теперь дрожал, боясь, чтобы его не приняли за ярого республиканца, и при этой мысли шейная нервная боль у него усиливалась и голова выделывала свое «нет» с неистовым упрямством.
Самая пустая вещь способна была привести в отчаяние нашего человечка, которому все казалось подозрительным. С беднягой, вероятно, случился бы удар, если б он узнал, что его жилец – Ивон Бералек, который прописался под именем Работена, коммивояжера, – был одним из наиболее искусных начальников шуанов, который уже раз двадцать мог быть расстрелян и даже от одной мысли, что на него возможно наложить руку, полиция пришла бы в неописуемый восторг.
Хотя добряк не имел еще никаких подозрений, но одно обстоятельство возбудило его недоверие, и он с нетерпением подстерегал своего жильца.
Итак, возвратясь от аббата, Ивон нашел своего хозяина стоящим в передней на часах.
– Гражданин Работен! Ждали вы сегодня кого-нибудь? – спросил этот достойный человек.
Жизнь в продолжение десяти лет, полная ловушек и неожиданностей, приучила Ивона всегда быть настороже.
При этом неожиданном вопросе он притворился, что припоминает.
– Ждал ли я кого-нибудь?.. – сказал он. – Дайте-ка мне подумать… у меня такая короткая память.
Играя эту комедию, молодой человек в то же время размышлял: «Я никого не знаю в Париже. Разве меня выследили? Уж не явился ли шпион по моим следам?»
Жаваль счел своим долгом прийти ему на помощь, прибавив:
– Да, здесь был молодой человек ваших лет, с длинными волосами и с палкой в руке.
– И он меня спрашивал?
– Да.
– Под моим именем Работена? – спросил Ивон, знавший, что никто, кроме Жаваля, не мог знать этого имени, придуманного при снятии комнаты.
– Под вашим именем… не скажу; когда я его спросил, он мне отвечал, что не запомнил его.
– В таком случае что заставляет вас предполагать, будто он спрашивал меня?
– Он так хорошо обрисовал вас, что из всех моих жильцов, я сейчас узнал вас.
– И он ничего не поручил мне сказать или передать? – спросил Ивон, заинтересовавшись.
– Нет, но он обещал побывать опять, сегодня же.
– Конечно! – вскричал Бералек. – Лучший способ узнать, действительно ли ему нужно меня, – это послать его ко мне, когда он явится.
– Условлено, – сказал Жаваль.
Ивон быстро добежал до своей комнаты, спрашивая себя, кто бы мог его разыскивать. Одно обстоятельство, однако, успокоительно действовало на него: незнакомец не сказал его настоящего имени хозяину гостиницы. «Это, без сомнения, друг, – думал он, – который, зная, что я скрываюсь, догадался о перемене моего имени».
В эту минуту в коридоре, в конце которого находилась комната молодого человека, раздался шум шагов.
«Их двое», – думал Ивон, вынимая из карманов куртки два маленьких пистолета, которые он зарядил.
Снаружи в замочной скважине он оставил ключ, и теперь было поздно вынимать его.
Бералек встал перед самой дверью, держа в руках пистолеты, готовый броситься на врага.
– Если они пришли схватить меня, вот чем можно их встретить, – сказал он самому себе.
Шаги стихли у его порога. Вместо того чтобы резко распахнуть дверь, как ожидал Ивон, кто-то осторожно постучал.
«А! Они предпочитают формальности», – подумал кавалер. Но знакомый голос, голос Жаваля, тотчас прокричал ему:
– Гражданин Работен, я привел к вам особу, приходившую уже сегодня утром.
Ивон опять спрятал пистолеты в карманы, говоря самому себе:
– Если это друг, господин Жаваль уже открыл ему ложное имя, которое я присвоил.
Его соображения были справедливы, потому что тотчас же за дверью другой голос вскричал:
– Работен! Да это Работен… Вот именно это имя просилось у меня с языка.
– Войдите! – крикнул Ивон, успокоенный этим восклицанием.
Дверь отворилась и высокий молодой человек показался на пороге.
Недоверчивый Жаваль оставался позади, подслушивая первые слова, которыми должны были обменяться встретившиеся мужчины.
Молодые люди взглянули друг на друга, словно совершенно незнакомые.
Пришедший шагнул вперед.
– Гражданин Работен! Мне нужно сказать вам пару слов.
– Я к вашим услугам, гражданин, – вежливо отвечал Ивон, подходя к двери, чтоб затворить ее.
Жаваль был еще в коридоре.
– Благодарю, дорогой хозяин, что показали этому посетителю дорогу ко мне.
И он захлопнул дверь перед носом любопытного содержателя гостиницы.
Как только молодые люди остались вдвоем, они бросились в объятия друг другу. Счастливый случай помог тому, что ни одно имя не было произнесено, когда посетитель, смотревший через плечо Ивона, скороговоркой тихо шепнул ему на ухо:
– Тс-с! Посмотри под дверь.
Ивон быстро повернулся.
Коридор освещался окном, находившимся как раз перед комнатой кавалера, так что в щель между порогом и дверью проникали лучи света. Но в эту минуту у входа отчетливо была видна чья-то тень. Это была тень от ног Жаваля, который, припав ухом к двери, не подозревал, что его присутствие уже обнаружено.
– Подожди немного, – прошептал товарищ Ивона.
И он прибавил, возвышая голос:
– Гражданин Работен, ты знаешь, что после доносов, сделанных на содержателя этой гостиницы, Директория, прежде чем расстрелять его в Гренельской долине, желает удостовериться, действительно ли этот человек – изменник, и она поручает тебе втихомолку наблюдать за его поведением. Я пришел за твоим отчетом.
Ивон понял шутку своего гостя и тотчас же ответил ясным голосом, чтобы каждое слово могло коснуться уха Жаваля.
– Этот человек был нам указан как один из самых деятельных агентов роялистской партии. Кажется, он подслушивает все, что говорится между патриотами, чтобы тотчас же передать их разговор врагам Республики. На него донесли как на человека, всегда шпионящего у дверей надежных республиканцев, и, конечно, я скоро накрою его, навострившего уши у чужих дверей.
– Этого доказательства будет довольно, чтобы закатить ему час спустя двенадцать пуль в живот.
Едва были произнесены эти слова, как луч солнца вновь показался под дверью, без малейшей тени. И, позеленев от страха, с волосами, вставшими дыбом, Жаваль побежал, бормоча сквозь зубы, щелкавшие от волнения:
– Я погиб! Директория принимается за меня! Избегнуть гильотины, чтобы быть застреленным!.. Надо их скорее убедить, что я горячий патриот, без чего… вдр-р-руг!.. в долину Гренеля!
Успокоенные успехом своей уловки, молодые люди разразились веселым смехом, как только убедились, что их не подслушивают.
– Как это ты, Пьер, здесь в Париже? – вскричал Ивон.
– А ты сам разве не здесь? Там уж не дерутся; наша Вандея только что заключила мир с Республикой, – неискренний мир, он долго не продержится. Тогда, вместо того чтоб сидеть сложа руки я сказал себе: «Ивон уехал по какому-то поручению, в котором, конечно, ему придется наносить или получать полновесные удары, я отправляюсь к нему, чтобы потребовать и себе их долю». И вот я с тобой! Долго искал я твой след; но недаром же зовут меня «Собачьим Носом», – я кончил тем, что напал на тебя.
И молодой человек, обнимая опять Ивона, заключил свой рассказ, вскричав:
– Посмотрим, любезный собрат по оружию. Так как твой Пьер, друг, который без малого шесть лет не переставал сражаться рядом с тобой плечом к плечу, приехал, я рассчитываю, что ты не будешь так эгоистичен, чтоб присвоить себе все предстоящие опасности. Я требую себе ровную долю.
Ивон засмеялся:
– Но, мой добрый Пьер, вот ты и ошибаешься. Дело, порученное мне, может исполнить только один человек, именно я.
– Не может быть!
– Ну, посуди сам. Мне велено влюбить в себя красивую женщину.
От удивления Пьер округлил глаза.
– Да, – продолжал Ивон. – Ты видишь, что тут дело уже не в жестоких битвах, в которых мы так охотно рубили синих. Я превращаюсь в щеголя, мой милый.
– А она красива? – спросил Пьер.
– Так говорят. Я сам узнаю об этом сегодня вечером в Люксембурге на балу Директории.
– Ты приглашен?
– Мне должны прислать сюда, сегодня же, пригласительное письмо, со вложением…
Ивон не докончил своей фразы. Одна мысль вдруг поразила его.
– Черт возьми! – вскричал он. – Я сделал ошибку, которая может нас погубить. Есть ли еще время ее исправить?
И молодой человек бросился к звонку и сильно дернул сонетку.
– Зачем ты звонишь? – спросил Пьер.
– Слушай. Тот, от кого я получил сегодня утром приказания, должен прислать мне сюда вместе с приглашением на бал сумму в двести луидоров. По непростительной забывчивости я не сказал ему заимствованного имени, под которым я числюсь в этом доме. Любопытный болтун, хозяин, станет удивляться, когда посланный спросить меня под именем Бералека. Нужно сочинить какую-нибудь сказку этому человеку.
– Но зачем все эти предосторожности? – вскричал Пьер. – Мы можем являться всюду без маски. Мир, подписанный Республикой с Вандейцами, сопровождается всеобщей амнистией. Въезд в Париж открыт нам без препятствия и под нашими собственными именами.
– Ба! – воскликнул Ивон. – Можешь ли ты сказать, что нас ожидает в будущем? Осторожность никогда не вредит. Ты сейчас сам говорил, что этот неискренний мир будет недолгим, а впоследствии донос этого трактирщика может навлечь на меня опасность.
Пьер прервал Ивона на полуслове:
– Я кое-что придумал. Предоставь действовать мне, – сказал он.
Только что он закончил, как в коридоре раздался крик: «Да здравствует Директория!» Это было восклицание Жаваля, который, прибежав по звонку, нашел средство доказать свой патриотизм тем людям, которые, думал он, обязаны наблюдать за ним.
Бедняга-трус напрасно старался принять достойную осанку; он дрожал как лист, подходя к комнате и говоря самому себе:
– Подумать только, эти два чудовища могут одним словом отправить меня на расстрел!
– Ну, что? Ваша гостиница неспокойна? – сухо сказал Пьер. – Что это за рев раздался у вас в коридоре, гражданин Страус?
– Это я, гражданин! Это был крик любви и признательности, от которого я не могу удержаться ни минуты. Я бы задохнулся, если б не восклицал: «Да здравствует Директория!» – униженно отвечал Жаваль.