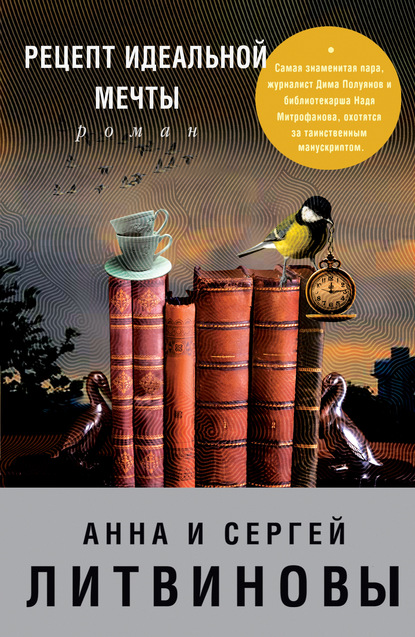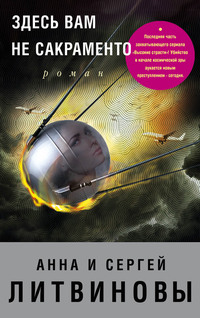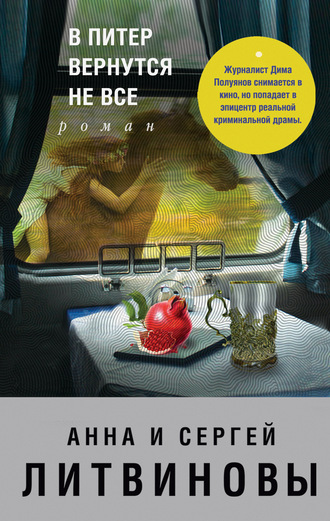
Полная версия
В Питер вернутся не все
– Сейчас все будет.
* * *Поездные стражи порядка на сей раз выглядели менее зловредными. И нотки вежливости в их речах проскакивали, и даже почтительности. Особенно почему-то лично к Полуянову. Может, они прокачали его по своим ментовским каналам и убедились, что он тот, за кого себя выдает: спецкор отдела расследований центральных «Молодежных вестей», пишущий, в том числе, и на криминальные темы. А может, поверили (или проверили), что он в самом деле кадровика-генерала Васильева из центрального аппарата МВД хорошо знает.
Во всяком случае, когда Полуянов тихой сапой просочился вслед за представителями законности и правопорядка в купе убитой, старший по чину лишь покосился в его сторону и ничего не сказал. А младший пробурчал – впрочем, довольно миролюбиво: «А вы зачем здесь?» Полуянов отвечать не стал, лейтенант, старший по званию, тему посторонних на месте происшествия муссировать не начал, и журналист благополучно остался.
Сержант щелкнул выключателем – мертвенный химический свет залил купе и лежащее на полу тело.
Лейтенант наклонился и дотронулся до шеи убитой, глубокомысленно бросил: «Смерть наступила около часа назад». Затем глянул на рану, из которой торчал нож. Присвистнул. Пробормотал:
– А ножик, похоже, аналогичный…
– Что и в первом убийстве? – переспросил сержант.
– Ага.
Полуянов похолодел. Ведь орудие первого убийства он завернул в полиэтилен и спрятал в своих вещах! Неужели преступник рылся в его сумке? И отыскал нож? И снова использовал? Но как такое может быть? Ведь о том, что инструмент смерти – у Димы, знала одна только Волочковская. Она сама сказала убийце, где найти нож, чтобы ее прикончить? Да нет, бред какой-то…
Тут вдруг лейтенант искоса глянул на торчащего в дверях Полуянова и строго вопросил, но не его, а подчиненного:
– Товарищ сержант, почему на месте происшествия находятся посторонние?
– Я не посторонний, – быстро ответил за сержанта журналист, – я понятой.
– Понятых нам не надо. Осмотра места происшествия и других следственных действий сейчас производиться не будет, – изрек лейтеха, – поэтому попрошу вас освободить помещение.
– А когда будут производиться следственные действия? – поинтересовался Дима. Он почувствовал, что, несмотря на напускную строгость, отношение к нему милицейских потеплело и он может позволить себе с ними определенные вольности.
– Как только, так сразу, – буркнул сержант.
– Нас в Москве уже ждут, – ответствовал лейтенант любезнее. – Следователи, криминалисты, опера. Они и протоколы писать будут, и допрашивать – вас и друзей ваших. А наше дело маленькое: обеспечить до прибытия в столицу сохранность места происшествия. И не допустить исчезновения группы лиц, следующих в одном вагоне с убитым… Точнее, теперь уже с двумя убитыми. Потому что данная группа лиц, то есть все вы, представляет собой одновременно и свидетелей, и подозреваемых.
– Знаете, я тут выяснил, что один из будущих свидетелей пропал из вагона.
– Пропал? Ну, далеко он не уйдет, – усмехнулся старший по званию. – На таком ходу даже если вдруг спрыгнул – все равно убился.
– Вы так легко это дело товарищам из Москвы оставляете… – посетовал журналист.
Лейтенант пожал плечами.
– У них своя работа, у нас – своя.
– Неужели вам самим не хочется найти и изобличить убийцу? – воскликнул журналист.
Реакция юного милиционера, Дениса Евграфова, на Димино восклицание оказалась неоднозначной. Он вроде бы и усмехнулся снисходительно – как умудренный опытом человек ухмыляется, слыша явное мальчишество, но, с другой стороны, слегка покраснел – шеей, подбородком… Краснеющий милиционер (именно краснеющий, а не налитый краснотой от неумеренного потребления горячительных напитков и нездорового образа жизни) – вообще какое-то чудо природы, и Полуянов им даже залюбовался. К тому ж смущение стража порядка свидетельствовало: да, конечно, парню хотелось – и совсем не так давно, в своих юношеских мечтах, – быть как Шерлок Холмс или хотя бы менты из телевизора…
Заметив слабину, журналист стал давить:
– К тому же круг подозреваемых явно узок. Три, максимум пять человек. Убийца не профессионал и интеллигент. Всего-то надо: прижать его, допросить и расколоть!
– Да ты не торопись, – ухмыльнувшись, чуть не по-отечески молвил юный милиционер, – и тебя скоро допросят, и всех прочих. Специально обученные люди, по всем правилам, под протокол.
– А я бы, на вашем месте, попробовал раскрыть преступление по горячим следам! – не сдавался Полуянов.
– Ладно, все, журналист, – нахмурился лейтенантик. – И, правда, покинь помещение. Иди в свое купе и ожидай.
Дима почувствовал, что несмотря на внешне негативную реакцию, его уговоры пали на благодатную почву. Может, они дадут всходы? Впрочем, редкий гражданский человек может похвастаться, что имеет на милиционеров влияние.
Полуянов вышел из купе убитой. В коридоре вчетвером, с опрокинутыми лицами, стояли все те, кто остался от некогда сплоченной киношной тусовки: Марьяна, Кряжин, Царева, Старообрядцев. Они о чем-то вполголоса между собой разговаривали. Проводница крутилась у титана, явно пытаясь подслушать, о чем толкуют пассажиры. «А ведь кто-то из них пятерых – убийца, – грустно подумал репортер. – Ах, да, еще же есть Ковтун».
– Дима, я сделала кофе! – выкрикнула со своего места проводница.
– Хорошо, спасибо, – машинально откликнулся Полуянов. – Принеси его, пожалуйста, в мое купе.
* * *Едва Дима отхлебнул принесенного Натальей кофейка, как в его временное обиталище явился лейтенант. Он деловито уселся за стол, достал из нагрудного кармана блокнотик и проговорил:
– Ну, давай, журналист, быстро: что видел, что слышал, что чуял, кого подозреваешь?
Полуянов внутренне улыбнулся: его тактичные уговоры задели-таки служивого!
И, стараясь быть последовательным, кратким и четким в формулировках, он рассказал милиционеру все, что произошло между первым и вторым убийством. Тот, кое-что записав, в конце допроса (или как назвать сей разговор, если уголовное дело еще никто не возбуждал?) проговорил:
– А теперь давай, полезай на верхнюю полку.
– Зачем?!
– Вздремнуть не хочешь?
– Хочу, – удивленно молвил репортер. – Только зачем?
– А я тут внизу собрался с твоими спутниками побалакать.
Наконец, до Полуянова дошло.
– Супер! – восхитился он. – Значит, я там подремлю, послушаю, а потом тебе то, что во сне увижу, расскажу. Так?
– Правильно понимаешь, – одобрил милиционер.
Глава пятая
Ничего опрос свидетелей не дал. Ни-че-го. То ли Денис Евграфов в силу юного возраста и (или) недостатка опыта не сумел их разговорить. А может, актеры и лица, приближенные к их тусовке, оказались умелыми врунами. Но даже Дима, внимательно вслушиваясь в показания (он, правда, лиц не видел, но по словам-то и, главное, по тембру голоса часто заметно, когда человек врет), никого не заподозрил.
Все – и Царева, и Марьяна, и Кряжин, и проводница Наташа – говорили в принципе одно и то же. Не видели, мол, не слышали ничего. Спал (спала), сидела в своем купе. Старообрядцева по поводу убийства Волочковской и допрашивать не стоило. Все время после того, как будущая жертва покинула тамбур, он находился на виду у Димы. Елисея Ковтуна так и не нашли.
Словом, время, проведенное в засаде на верхней полке, Полуянов счел зряшно потерянным. Во всяком случае, для расследования преступлений оно не дало ничего – разве что для понимания психологии подозреваемых. Гости, приходившие в купе, Диму даже и не замечали – только в первый момент, на входе, могли обратить внимание, что наверху кто-то (или что-то) лежит. Однако их взгляды тут же приковывал хорошенький юный милиционерик в форме, сидевший на откидной скамье у стола. И практически сразу лейтенант усаживал очередного киношника на нижнюю полку и начинал опрашивать. Было любопытно, как люди вели себя, оказавшись наедине (как они думали) с представителем закона. Царева держалась уважительно-величественно, Никола Кряжин – слегка развязно, Старообрядцев – спокойно и отчасти подобострастно. Голос Марьяны звучал естественно, однако она не производила впечатления особенно умной персоны, а свое тайное оружие – безудержное, бьющее наповал кокетство – не применяла. Проводница Наташа суетилась, плохо слушала вопросы и отвечала невпопад.
В итоге, когда лейтенант закончил свои беседы и отправился восвояси, журналист вздохнул с облегчением. Изнутри его жгло чувство, что время неумолимо уходит, а он ничего не успевает. Поезд то бодро молотил колесами, то слегка притормаживал, но с каждой минутой, с каждой секундой приближался к Москве. А там уж расследование возьмут в свои руки другие… Первый раз в жизни фортуна дала Диме шанс проявить себя не как журналисту, а в роли сыщика по уголовному делу. Однако он миссию, подаренную ему судьбой, похоже, блистательно проваливал. И времени, чтобы что-то обнаружить, выявить, доказать, у Полуянова оставалось все меньше. И он очень хорошо ощущал, как минуты утекают. Неприятное это чувство жгло его изнутри, язвило.
Однако, несмотря на очевидный цейтнот, Дима все равно отправился в тамбур покурить. Во-первых – просто хотелось (пора вообще-то бросать дурацкую привычку к никотину: мало того, что здоровье гробит, еще и сколько времени драгоценного тратится!). Но, главное, он просто не знал, что ему делать дальше. Чтобы хоть отчасти оправдать свою слабость, журналист захватил с собой блокнот: может, за сигаретой удастся систематизировать впечатления нынешней ночи.
Но доставать блокнот не пришлось. Едва он зашел в тамбур, сразу почуял неладное – отчетливо пахло горелым. Нет, несло не папиросным дымом и не сожженными спичками (если кому-то в вагоне люкс вздумалось вдруг прикуривать не от зажигалки, а от спички). Меж вагонами вонялоинойгарью. Запах напомнил ему, как пахнет костер (время от времени Полуянов разводил его на задах своей дачки), если жжешь в нем старые рукописи. Да, ощутимо несло сгоревшей бумагой. Но кому понадобилось сжигать в тамбуре скорого поезда рукописи? В вагоне, где только что произошло два убийства?
Диме сразу показалось, что запах связан с преступлениями (может, и зря). «Не осталось ли от сожженного каких следов?» – спросил он себя. Однако исследование пепельницы ничего не могло дать: она, представляла собой не железный ящичек, притороченный к стене (как в старых поездах), а, по новому вагонному фасону, являлась просто щелью в железной стенке вагона. И внутрь ее не залезть. Можно, конечно, отправиться за помощью к проводнице – у той наверняка имелся ключ, чтобы резервуар с бычками опорожнять. Но кто знает, может, железнодорожница (несмотря на все ее благостные рассказы) и есть убийца?
На всякий случай Дима тщательно осмотрел пол тамбура. Ничего, кроме сигаретного пепла, особенно сгущавшегося близ пепельницы-щели, да пары окурков, которые кто-то из нерях швырнул себе прямо под ноги, не обнаружил.
Дверь, ведущая к сцепке, опять была не заперта. Полуянов распахнул ее, стал внимательно обозревать межвагонное пространство, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Внутри все клацало, грохотало, моталось. В щелях видна была стремительно уносящаяся земля, гравий и шпалы, сливающиеся в сплошную серую полосу. И тут Диму ждала удача.
На сцепке белело крохотное пятнышко. Какой-то плоский предмет пристал к грязной железяке. С великой осторожностью журналист, болтаемый во всех плоскостях, нагнулся к нему, присмотрелся.
То был край сгоревшей фотографии. Крохотный. По размерам не больше почтовой марки. Журналист, стараясь, не дай бог, не уронить находку на пути и не оставить своих отпечатков, подхватил фото двумя пальцами за края и поднял.
Вернулся в тамбур, вгляделся в крошечный уцелевший фрагмент. Видимо, то была нижняя центральная часть карточки. Потому что с одной стороны крючок был ограничен ровным белым краем, а с противоположной – зигзагообразной пригоревшей линией, и на обрывке удалось рассмотреть лишь мужские ноги в серых, хорошо выглаженных брюках. И на заднем плане, – кусок пейзажа: часть дерева или куста. Серые брюки, зеленый куст – вот и все. Вся информация.
Дима перевернул обрывок. Оборотная сторона оказалась девственно-белой. Ни подписей, ни пометок.
Фотобумага выглядит довольно старой. Но и оказаться слишком уж древней карточка не может. По одной простой причине: она – цветная. «Когда у нас в России появились первые «мыльницы» и киоски «кодак», а искусство фотографии начало постепенно становиться массовым? Году в девяносто третьем, девяносто четвертом, не раньше… – припомнил журналист. – Впрочем, если карточка принадлежала, допустим, режиссеру или кому-то другому из числа богемы – может, она более ранняя. Сделана где-нибудь за границей…»
Полуянов достал блокнот и аккуратнейшим образом положил обрывок фотографии между страниц. Несмотря на то, что вряд ли на нем кому-то когда-то удастся разглядеть нечто более информативное, нежели тщательно отутюженные брюки, сердце его забилось чаще. Дима не сомневался: обрывок карточки имеет отношение к убийству. И, возможно, именно убийца спешно сжигал фотографию.
Понять бы теперь – почему? Что такого криминального могло быть изображено на старой карточке?
Только теперь журналист, с чувством довольства от неожиданно привалившей удачи, закурил.
Флешбэк-3. Николай (Никола) Кряжин«Жизнь – как зебра. Черная полоса, белая, черная, белая… Черная, белая… А потом – ж…а».
Так один мой герой говаривал. Мощный мужик, умный. В сериале. Лет десять назад. Я уж и забыл, как его звали. Да и непонятно, хороший он был или плохой. Или, как режиссеры и кинокритики выражаются, положительный или отрицательный. Какой-то он был… как это они любят говорить… Не, неполоцательный… И не отрижительный…Другое слово, на амебу похоже… Во, ам-би-валент-ный… Короче, бандитом я был – но добрым. Девушку спас. Бедным денег давал. Старушке дров наколол. В общем, как героя звали, забылось, а фразочка в мозгах осталась. Тем более что тот персонаж вообще говорил мало. В половине эпизодов занят, а текста в сценарии было учить с гулькин хрен – три страницы. Он в основном там зверское лицо делал. Или, пореже, умилительное. И пару раз – страдающее. (Демонстрирует, довольно смешно, физиономии.)
Мне, вообще, со временем повезло. (Вот она, белая полоса!) Или повезло с собственной фактурой. Короче, фактура моя очень хорошо с нашим временем совпала. Наложилась на него. Оказалась, как говорил наш мастер, востребованной моя психо-физио-логия. А проще говоря – рожа.(Смеется.)
Ведь роли, после того, как я немногословного Робин Гуда сыграл, пошли косяком: то бандиты, то менты. Причем бандюганы, в основном, не чистые злодеи, а такие… с добрыми струями… И менты тоже – с этой… с харизмой и конкретные. Не как в кино «Петровка, 38» были, а такие, что и попрессовать подозреваемого могут, и начальнику в глаз засветить, и улики невиновному подбросить.
Я уж сам иногда путался, кого играю сейчас – мента или бандита. А может, мента, который вот-вот бандитом станет? Или я – авторитет, который на самом деле чекист под прикрытием?.. Да они, по-моему, и в жизни сами не всегда понимают, кто они есть на самом деле…(Смеется.)
Короче, стал я, если честно, даже бояться: заштампуюсь. Будут мне режиссеры-продюсеры теперь до конца жизни одних крутых давать играть. Мне и мастер мой – умнейший был человек, и добрейший, и бескорыстнейший – мир праху его, пусть земля ему будет пухом – в ту пору так сказал,(размашисто крестится).Мы тогда с ним как раз в ресторане мосфильмовском столкнулись, он на «Мосфильме» чего-то тоже халтурил, мультик, что ли, озвучивал. «Смотри, – грит, – Никола! Берегись! Одно и то ж играешь! И главная беда не то, что заштампуешься, а что у тебя не сорок три штампа получится, как у великого Гриценко, а три! Молод ты еще: одно и то же из года в год играть!»
Но и тут повезло. Мне Лихачев – в ножки бы ему упал, по гроб жизни не забуду! – вдруг роль монаха православного предложил. Вот молодец-то, а?.. Прикинь, Дим, во мне, протокольной роже, – монаха увидел! Ну, глаз-алмаз! Ох, я и мандражил перед той ролью… В Оптину Пустынь в паломничество ездил, у самого митрополита благословение просил! Сценарий сразу заучил… И пока снимали – а снимали долго, шесть месяцев – я не то, что прям как монах жил, но как очень верующий. Из книжек одно только Евангелие читал и Молитвослов. На премьерах да на тусовках в то время не бывал, и даже в рестораны не ходил, все посты держал и причащался дважды в месяц. Потому, наверное, Господь мне помог и тот монах у меня получился…
А потом – опять не иначе мои молитвы роль сыграли! – возник режиссер Чуйко и предложил мне сыграть… ну, ты помнишь, кого… Да, правильно, Базарова. В своем восьмисерийнике. И без проб меня взял, тут же утвердил – чудо, правда? Да и не только чудо, что Базаров, что главная роль, а еще в том, с кем мне играть довелось. Не каждому так повезет, да еще на одном фильме – и Басилашвили, и Ахеджакова, и Ильин… Великие старики! Да и Волочковская, чего уж там говорить, хоть и стерва порядочная, проститутка, а актриса милостью Божьей…
Поэтому теперь я не то чтобы считаю, что передышку заслужил, – просто я благодаря монаху Даниилу и Базарову как бы от прошлых ролей своих отошел, очистился. Теперь снова можно в «стрелялке» сыграть. Тем более есть тут что играть. Характер ведь интересный у меня получается, правда? И я в него, по-моему, проник (голос на мгновение становится тревожным).Как ты думаешь?
Говоришь, я тебе только про одни свои белые полосы рассказываю, а о темных – ни-ни? Как не было их? Были, да еще какие! Просто зачем черноту вспоминать. Чернота – она и есть чернота… Все у меня в жизни было…
Начнем с того, где я родился. И когда. Про город Каменец-на-Урале слышал? Вот именно, никто его не знает, потому что ничего там интересного нет. Один металлургический завод и три оборонных. И никакого даже памятника приличного нет – кроме дяди лысого в кепке. У нас знаешь какая традиция была? Куда молодожены в день свадьбы ездили? Покататься же надо, все ж куда-то ездят… Вот и ездили к дорожному столбу, откуда город начинается. Ну знаешь, на трассе, по дороге на Е-бург, стоит такой гаишный знак, черное на белом: «КАМЕНЕЦ». Ему свадьбы и поклонялись. Приедут, выпьют шампанского и водчонки из пластиковых стаканчиков, бутылки о железные столбы, которые знак держат, побьют – это уж обязательно, бутылки о столбы бить – и в ресторан. Я еще мальцом был, меня на чью-то свадьбу родители взяли, и я тогда твердо решил: не женюсь никогда. А если уж, в крайнем случае, женюсь, то не здесь, не в Каменце, без битья бутылок… И, как видишь, слово свое держу: женат был дважды, а в Каменец бутылки бить не ездил…(Смеется.)
Короче, мне опять же со временем повезло. В кавычках, конечно. Я ведь единственный из всего выпуска в Москву поступать поехал. Еще трое – в Е-кат, а один – в Оренбург. А я к тому же в артисты пойти решил. Надо мной – за глаза, конечно, – смеялись. Пальцем у виска крутили за спиной: дескать, малохольный.
Ну в открытую-то никто ничего говорил – боялись. У нас на Урале народ простой: чуть что не так – сразу в глаз. А я уже тогда крепким был. Засветил бы так, мало б не показалось. Кому угодно, кроме женщин. Директриса наша выступила, да еще на выпускном, когда диплом мне вручала, сказала: «Ты, Кузовков, всегда был клоуном, поэтому тебе в артисты прямая дорога». Выдра стриженая… Да простил я ее!
Кузовков – моя родовая фамилия. Настоящая. Николай Кузовков. Но я сразу понял, что с такой фамилией артиста, да с моей фактурой, не бывает. И взял себе псевдоним. Никола Кряжин – другое дело.
В общем, я так думаю: то, что я все-таки в Москву тогда поперся да поступил, – меня спасло. Я ведь год назад на родине-то был, когда маманю свою в Белокаменную перетаскивал. И с парнями поговорил. Из нашего выпуска, девяносто третьего года, едва половина в живых осталась. Двое по пьянке умерли, один – от наркотиков, двое – в автокатастрофе погибли, один при пожаре угорел… Ну, последние трое тоже, наверное, по пьянке… Еще один повесился, двое – от несчастного случая на производстве откинулись. А шестеро – сидят. Кто по хулиганке, а кто и за убийство.
Получается, спасли меня Москва златоглавая да еще раньше, в детстве, двое людей. Была у нас, во-первых, в Каменце секция по боксу. И вел ее Осипов – Валерий Валерьянович, чемпион СССР. Не слыхал? Он у нас, пацанов, в большом авторитете был. И то, что я сызмальства клея не нюхал, алкоголя не пил – за то ему спасибо. В секции ведь как было заведено: кого застукали с сигаретой или бутылкой или, там, хотя бы с запашком табака или вина (или хотя бы даже родители пожаловались), то – пожалте бриться! – надевай перчатки и на ринг. А против тебя сам Валерий Валерьяныч выходит. И давай тебя мутузить… Главное, не больно он бил, а как-то обидно. Будто издевался. Все вокруг глядят – и ржут над тобой… Я один раз, в седьмом классе, с пацанами портвешка с «примой» принял – им ничего, а меня поймали. Одного раунда с Осиповым мне надо-олго хватило…
А второй человек был – тоже чудак, или скорее по-шукшински – чудик. Иван Степаныч Аверин у нас детский театр при Дворце культуры организовал. «Глобус» назывался. Каково? Вот замах, а? Именем шекспировского театра школьную самодеятельность назвать!
И ставил он в основном, между прочим, пьесы Шекспира. Поэтому моя самая первая в жизни роль – в «Ромео и Джульетте». Я – двенадцать лет мне было – Меркуцио играл. Представляешь? Ну, сначала-то я третьим стражником был, а потом случай: Меркуцио наш (как раз тот, что потом при пожаре угорел) руку сломал. И тут выяснилось, что я все его реплики знаю. И фехтовать у меня получилось – сказалась боксерская школа. Осипов меня и ввел на Меркуцио. А что оставалось? До премьеры – неделя.
Вот тогда я как раз лицедейством и заболел. Конечно, перед спектаклем трясло, у меня даже чуть медвежья болезнь не случилась, но когда вышел из-за кулис – песня! Совсем не чувствовал себя на сцене неловко или там скованно. Наоборот, я как в эйфории был. Просто летал! Не играл – жил! И почти сразу заметил, с четвертой-пятой реплики: а в зале-то меня слушают. Так, как меня, ни Ромео не слушают, ни Джульетту, ни даже кормилицу-хохмачку, а как я реплику подаю, прям тишина наступает… Я как будто зал, это стоглавое чудовище с тысячью глаз, с ладони кормлю… Собой – кормлю, ты меня понимаешь?
Короче, про себя, и про актерство, и про успех я сразу все понял. С первого раза. И как хлопали мне. Думаешь, двенадцатилетний мальчишка не заметил? Все я заметил! Больше, дольше и громче хлопали, чем тем, кто заглавные роли исполнил. И даже кто-то из взрослых «браво!» мне кричал. Причем не мои родители – их на премьере не было. Отца вообще не было, он уж третий год как в Тюменскую область, типа, на заработки уехал (а потом там другую семью завел), а маманя как раз в день премьеры напилась, да так, что до ДК даже дойти не смогла…
Вот, а ты спрашиваешь, где черные полосы? А они у меня туточки, рядом. За белыми не просто следом идут, а с ними перемешаны. С одной стороны – радость божественная, неземная, когда весь зал тебе аплодирует, а с другой – обида ужасная, потому что ищешь, ищешь глазами, где там в зале моя маманя радуется? А ее-то и нет…
А на будущий год я уже «Гамлета» играл. Можешь себе представить, тринадцатилетний парень! Мало что понимал, но что Аверин мне сумел объяснить, то и играл.
Как я во ВГИК поступил – отдельная песня. Во-первых, опять повезло. Говорят, в тот год, в девяносто третий, блатные туда не особо перли. Решили, что кино в России капец, накрылось оно окончательно и навсегда медным тазом. А раз так – значит, какой смысл своих отпрысков в заведомо бесперспективную отрасль посылать. Но все равно конкурс был сумасшедший. А какая разница, сколько конкретно: сто или двести человек на место? Все равно много! И я, как поступил, – ох, какой же я тогда был счастливый! Вторая моя, после премьеры «Ромео и Джульетты», радость…
Так вот, поступив, я списки-то внимательно посмотрел. Глядь, а там половина фамилий знакомая. Дети кинематографистов и других работников литературы и искусства. А потом, когда учиться стали, понял, что на самом деле не половина, гораздо больше. Просто я такой темный был, что вторую половину тогда еще по фамилиям не знал. Каким чудом меня приняли – ума не приложу. Наверное, мастера нашего еще на первом туре сразил, когда захотел монолог короля Лира читать – до меня, по-моему, среди абитуриентов таких сумасшедших не было. И ведь прочитал! И комиссия – вся! – не шушукалась, бумажками не шелестела, а слушала меня, слушала внимательно…
Но когда эйфория улеглась, надо было как-то учиться, и жить, и выживать в Москве. Мать-то моя мне ни копейки не высылала, ей бы самой в Каменце было ноги не протянуть. Вот тогда я точно думал: наступила ж…а. Я ведь, бывало, по неделям нормально не ел – в сессию особенно, когда нет времени на подработки. Грыз сухари черные и кипяченую воду пил. И все. Ну, еще иногда моршанскую «приму» смолил, когда совсем подсасывало… В итоге, пока на третьем курсе свою первую роль в сериале не получил, я в столице буквально нигде не был. В метро ни разу не ездил. До Красной площади только один раз дошел пешком. А вот мне в одном из самых первых российских сериалов роль дали – ту самую, где анекдот про зебру. Кстати, в сценарии его не было, я сам придумал рассказать, и эпизод остался, а теперь только его многие и помнят. Тогда мне мой гонорар – сто «гринов» за съемочный день – казался фантастическим, огромным. Я себя олигархом настоящим ощущал!