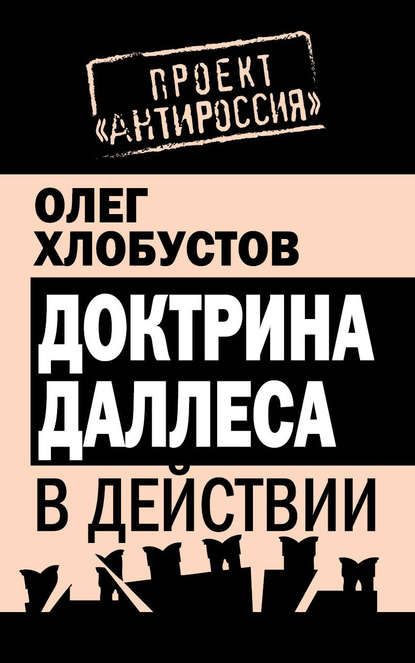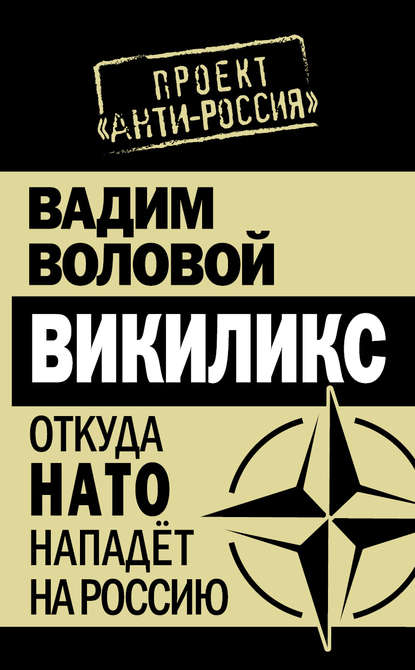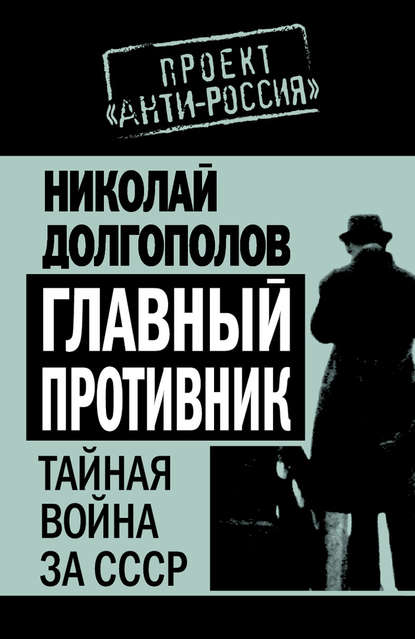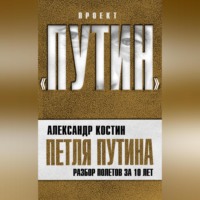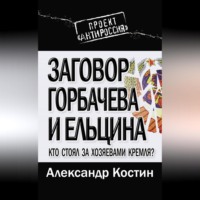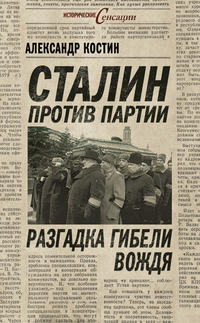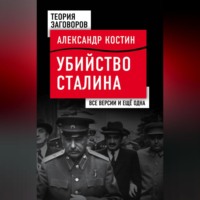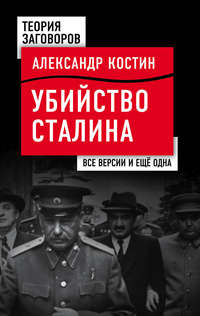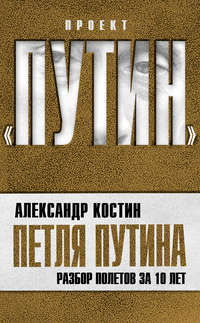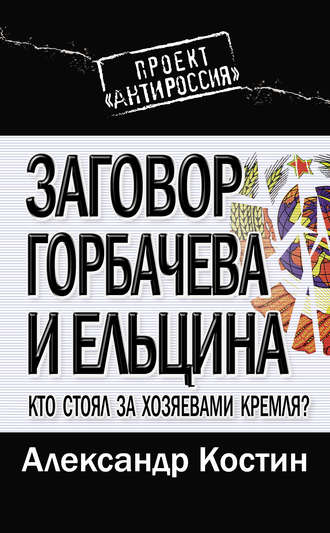
Полная версия
Заговор Горбачева и Ельцина. Кто стоял за хозяевами Кремля?
Но для того, чтобы убедиться во всем этом, нужно время и поэтому Ельцин держит Наину на дистанции, продолжая при этом тщательно отслеживать любой ее взгляд, жест, фразу, поступок, – делал умышленно пренебрежительный вид, давал понять, что пироги – пирогами, спорт – спортом, а Ная для него всего лишь одна из многих красивых девушек, которые пытаются завоевать его сердце. А он – главный приз в этом соревновании. Завоюй, кто сможет!
Спрашивается, как же скромной, застенчивой Наине удалось обойти всех своих умных и привлекательных сокурсниц, влюбленных в красивого спортивного лидера факультета? Как удалось именно ей стать избранницей будущего президента России? До конца этого она, скорей всего, не осознает и сама. Тем более, что и особых-то усилий никаких к тому не прикладывала. Просто была сама собой.
А. Гранатова, хорошо изучившая биографические тонкости семейного клана Ельциных, пишет:
«Можно с большей вероятностью предположить, что Борис увидел в Нае материнскую заботливость, хозяйственность и чистоплотность. И все же главным отличием от всех ее «конкуренток» был невероятно терпеливый и выносливый характер. Психологическая гибкость, готовность к компромиссам. Он был – как ледокол, идущий напролом, с треском крушащий и ломающий на своем пути льдины, никогда не отклоняющийся от взятого курса. А она – как вода в океане, тоже сильная и энергичная, но способная гибко принять любую форму… Они – жесткий металл и мягкая вода – две стихии, два человека, очень даже подходили друг другу»[32].
Сказано, на наш взгляд, ключевое слово, определившее судьбу этих двух совершенно разных в психологическом плане личностей, как это у поэта:
Они сошлись – вода и камень.Стихи и проза, лед и пламень…И слово это «материнская заботливость». Наина Иосифовна стала для Ельцина на всю оставшуюся жизнь – «женой-матерью». Из трех категорий женщин – будущих жен («жена-любовница», «жена-мать», «жена-дочь») для такой неуемной натуры, как Б. Ельцин, только «жена-мать», какой и была Наина Иосифовна, могла стать незаменимой половиной строптивого супруга. Будучи всегда в тени своего мужа, спокойная и рассудительная, беспрекословно снося его всевозможные срывы и выходки, она ненавязчиво, плавно помогала ему раскрываться. Именно Наина Иосифовна сыграла решающую роль в становлении Ельцина таким, каким знает его вся страна. Без нее он бы просто спился, о чем примеры еще впереди.
Да и сам Ельцин хорошо понимал это, если в своих воспоминаниях нашел несколько теплых слов в адрес своей половины, «снизошел», так сказать:
«Вся дальнейшая жизнь показала, что это была судьба. Это был именно тот выбор – один из тысячи. Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, – упрямым, колючим и, конечно, ей было со мной не так просто. Ну, а про себя я не говорю – полюбил ее, мягкую, нежную. Добрую, – на всю жизнь»[33].
Таким образом, выбор в качестве спутницы жизни «жены – матери» не случаен, он тоже родом из детства. Жестокость отца, к которому у сына должна бы быть естественная привязанность, подтолкнула его к матери, которая была заступницей за любимого сына при пьяных выходках отца. У ребенка медленно, но верно развивался «эдипов комплекс» – неестественная любовь к матери и естественная отзывчивость к женским проблемам. Например, в институте он был тренером женской волейбольной команды, а на руководящих должностях в Свердловске он всегда находил общий язык с женскими бригадами и лично занимался благоустройством женских бытовок. Вообще в женской аудитории он чувствовал себя намного увереннее, чем в мужской, с одной стороны, и быстрее находил у них понимание, с другой[34].
Отношения Ельцина с отцом привели к развитию и других комплексов, таких, как завышенные требования к себе – быть лидером в любой обстановке, с одной стороны, и страх перед одиночным существованием, с другой. Учась и работая на всех должностях, Ельцин так планировал свой рабочий день, чтобы как можно большее время находиться «на людях». Например, по некоторым данным, он исключил субботу из своих выходных дней и всегда работал, чтобы быть на виду. Ельцин тяготился обязательными воскресными обедами, которые устраивала Наина Иосифовна, считая время отдыха напрасно потерянным временем. Отдых у него всегда был коллективным, о чем он с восторгом пишет в «Исповеди…», что и после окончания института будут отдыхать вместе, всем «колхозом», невзирая ни на какие жизненные перипетии:
«И после 1955 года, когда мы закончили институт, прошло 34 года (год написания «Исповеди» – 1989-й. – А. К.), и мной эта традиция ни разу не нарушалась! А один раз мы собрались даже с детьми, На эту встречу приехали уже 87 человек. Ни в коем случае не в санатории, а только диким образом: мы прошли по тайге, по Уралу, по Золотому Кольцу, однажды купили путевки на пароход – и проехались по Каме, Волге. Другой раз жили в Геленджике, на берегу моря в палаточном городке, однажды плавали по Енисею до острова Диксон. Все время придумывали новые варианты, и всегда они были интересные и веселые»[35].
Эта черта характера позволила некоторым исследователям говорить о имеющем место «недоразвитии Ельцина, крайнем примитиве чувств и неразработанности интимной стороны жизни»[36]. Недостаток в интимном плане он компенсировал «трудовым максимализмом», который, в результате, привел к формированию комплекса «селф-мэйд-мэн», «сделавшего себя» человека. Такому человеку искренне кажется, что ему все под силу и нет таких вещей, которые он не смог бы понять и сделать. Такой человек живет совсем в другой системе координат, где нет места эмоциям, и все должно крутиться вокруг одного человека, то есть вокруг его, любимого.
А. Хинштейн не стал скрупулезно анализировать эти психоэмоциональные тонкости своего «героя» и рубанул по рабоче-крестьянски: «Такое чувство, что женщины Ельцина вообще не интересовали. Или интересовали постольку-поскольку. Черт его знает, может от спорта и трудовых подвигов удовлетворения он получал больше, чем от секса?»[37] И в заключении приводит медицинский диагноз:
«Сексуальные расстройства, не обусловленные органическими нарушениями, появляются при фактическом отклонении от возрастных и конституциональных норм. Они могут выражаться в форме полного или относительного безразличия и представителям противоположного пола и в проявлении явной сексуальной инфантильности»[38].
Наина Иосифовна прошла рядом с мужем-самодуром весь его непростой жизненный путь. Видимо он по-своему любил свою половину, но слишком занят был карьерой. Наталья Константиновна, бывший работник пресс-службы Кремля вспоминает: «Возможно все эти сорок с лишним лет (фактически они прожили 51 год. – А. К.) ей не хватало тепла и заботы, хотя какая женщина признается об этом вслух. Только однажды вырвалось в разговоре с младшей дочерью Татьяной о семейном житье-бытье: «Если бы меня мой муж каждую минуту так целовал, как твой Леша…»[39]
Борис Николаевич бывал с ней грубоват, мог прикрикнуть, при этом сам признавал за собой этот недостаток: «Я человек жестковатый, не отрицаю. Наине со мной трудновато приходится»[40].
Как-то Александр Шохин наблюдал и впоследствии описал характерную сцену. Кто-то из приближенных наполняет Ельцину рюмку. Наина Иосифовна пытается его остановить:
– Борь, ну не пей!
– Цыц, женщина!
Приносят борщ. Ельцин берет солонку. Наина Иосифовна предостерегает:
– Борь, ты попробуй сначала. Борщ соленый.
Не обращая внимания на ее слова, начинает трясти солонку..»[41]
Пройдут годы, и первая леди России будет неловко улыбаться, не зная, что сказать людям по поводу своих синяков на руках. Она же не сможет в высшем обществе признаться в том, что именно так проявляет себя в гневе ее любящий муж, президент России.
«Видимо, зная о том, что он всегда останется неукротимым бунтарем, и адреналин в его крови будет всегда зашкаливать, чувствуя, что ему не раз в жизни придется идти не только напролом, но и по лезвию бритвы, а в этой экстремальной ситуации важна страховка, и в том числе, психологическая поддержка со стороны семьи, – Борис Ельцин искал жену, обладающую безграничным терпением», – пишет А. Гранатова[42].
И он, как показала их долгая совместная жизнь, в своем выборе не ошибся. Упомянутая выше Наталья Константиновна свидетельствует: «Наина Иосифовна – волевая, сильная женщина, иначе она не смогла бы жить с человеком такого трудного характера. Она была бесконечно предана ему. Когда он стал болеть, повсюду с ним ездила, ухаживала за мужем. Никогда не жаловалась и не рассказывала о семейных проблемах. Говорила журналистам: «Мы никогда с Борисом Николаевичем всерьез не ссорились. Наши дети никогда не слышали ссор. Да и повода не было всерьез поссориться. Мы с ним были как одно целое»[43].
По некоторым данным Ельцина всегда отличал утилитарный подход к людям. В этой связи интересен такой эпизод из его прошлого. На одном из собраний после эмоционального выступления Ельцина начальника домостроительного комбината А. Л. Микуниса хватил удар и он умер. Его место занял не кто-нибудь, а Ельцин[44].
Кульминационным по эмоциональности моментом в его жизни были 20 и 21 марта 1993 года, когда он фактически осуществил государственный переворот, а на следующий день скончалась его мать, Клавдия Васильевна. Сам Ельцин рассматривал ее уход из жизни как «жертву» трагических обстоятельств, которые он сам и создал. Интересно также, что брат Бориса Ельцина Михаил, который жил в Екатеринбурге и работал простым рабочим, уклонялся всячески от встреч с Президентом России, считая, видимо, его виновным в смерти матери. Впрочем Борис Ельцин вряд ли от этого страдал, поскольку напрочь забыл о существовании как брата, так и сестры. Никто из его домочадцев, не говоря уже о самом Ельцине, не поздравил Михаила с 60-летием со дня рождения.
В обиде на своего земляка и жители деревни Бутка, где он родился. В 2001 году, после того, как он не поздравил односельчан с 325-летним юбилеем села, они во всеуслышание объявили, что не будут более посылать ему поздравлений с днями рождения и праздниками.
Вернемся, однако, к заключительному этапу студенческой жизни Б. Ельцина. Учебу в институте он заканчивал все в том же бешеном темпе, которым жил все эти годы. Из пяти месяцев, выделенных на разработку дипломного проекта, фактически он использовал только один месяц, а все остальное время потратил на разъезды по стране с волейбольной командой, поскольку в это время шло первенство страны, самый его разгар, и команда переезжала из города в город:
«Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы «Телевизионная башня». Тогда их почти не было, поэтому до всего нужно доходить самому. До сих пор не представляю, как мне это удалось. Столько умственных, физических сил я потратил, это было невероятно. Причем тут и особо помочь-то никто не может, тема новая, никому не известная – чертишь сам, расчеты делаешь сам, все от начала до конца – сам. И все-таки сдал диплом, защитился на «отлично»»[45].
Защитившись, уже через час, едва забежав в общежитие, он поехал в Тбилиси на игры первенства страны: «Так получилось, что все лето 1955 года после окончания института я проездил по соревнованиям: то первенство страны, то вузовский турнир в Ленинграде, то кубок страны в Риге… уехал на игры не поинтересовавшись даже, куда меня распределят…»[46]
Зато этим вопросом живо интересовалась Наина и была очень огорчена, когда узнала, что их распределяют в разные города Урала. Ее – домой, в Оренбург, а его – в Верхнюю Исеть Свердловской области. Правда Борис Николаевич, как всегда, страдает некоторыми провалами в памяти, и о Верхней Исети начисто забывает:
«Вернулся (из многодневного турне по всему Советскому Союзу. – А. К.) 6 сентября и пошел оформляться на работу, куда меня направили по распределению, в трест Уралтяжтрубстрой… узнал, что меня оставили здесь, в Свердловске, а ее отправили в Оренбург. Обычно в один город молодых распределяли только тогда, когда у них были свидетельства о регистрации брака. А у нас имелось в наличии только объяснение в любви. И решили мы проверить нашу любовь – крепка ли она, глубока ли»[47].
Кто это решал? Так ли было дело? Воспитанная в старообрядческих традициях, а также на поэзии Э. Асадова и С. Шипачева, Наина никогда не снизошла бы до объяснений, и не могла потребовать дачи соответствующих обязательств от своего экспрессивного ухажера, а лишь плакала по ночам в подушку и упорно ждала, когда же он попросит ее руки. И узнав о распределении в разные города, не дождавшись предложения от Ельцина, который завихрился на несколько месяцев в турне по стране, она, грустная и обманутая в своих мечтах и светлых чувствах, уехала в Оренбург, свято веря, что никогда больше не увидит Бориса Николаевича.
А Б. Ельцин продолжает витийствовать: «Договорились так: она уезжает в Оренбург, я остаюсь работать в Свердловске, но ровно через год мы встречаемся на нейтральной территории – не в Оренбурге или Свердловске, а в городе Куйбышеве. (Ну детектив какой-то! Почему именно в Куйбышеве, это выяснится несколько ниже. В силу специфики своей памяти, склонной к провалам, он просто перенес один эпизод своей жизни из будущего в настоящее. – А. К.).
Там, решили мы, окончательно и поймем, остыли за это время наши чувства или, наоборот, – сохранились, выросли. Так оно и случилось»[48].
А случиться это ровно через год, а пока молодой специалист с головой окунулся в работу. Отбыв некую «трудовую повинность» на строительстве в Верхней Исети, он возвращается в Свердловск, где ему, как выпускнику профильного вуза, руководство треста «Уралтяжтрубстрой» предложило должность мастера строительного участка. Однако от должности мастера Ельцин отказался и решил испробовать себя в качестве простого рабочего.
Сам он этот свой экстравагантный шаг объяснил следующим образом: «…сразу руководить стройкой, людьми, не пощупав все своими руками, – я считал большой ошибкой. По крайней мере, точно знал, что мне будет очень трудно, если любой бригадир, с умыслом или без, сможет обвести меня вокруг пальца, поскольку знания его непосредственно связаны с производством. Поэтому я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей. Каждый месяц – по одной»[49].
Диво дивное, освоить и сдать на разряд в течение года двенадцать рабочих профессий, да каких: каменщик, плотник, столяр, стекольщик, штукатур, маляр, бетонщик, водитель грузового автомобиля, машинист башенного крана, что еще? Зарапортовавшийся новый Мюнхгаузен забыл указать еще три профессии, ну, например (добавим от себя), плиточник-мозаичник, электрик и паркетчик, на освоение каждой из них в профтехучилищах соответствующего профиля отводится от года до трех лет, каково? Послушаем этот лихой рассказ и усомнимся во всем сказанном, разве что кроме нескольких эпизодов. Во-первых, о реакции рабочих, то есть истинных специалистов своего дела на это шапкозакидательство: «Рабочие хоть и посмеивались над жаждой молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее, помогали мне, подбадривали, в общем, внутренне поддерживали меня»[50].
Конечно, посмеивались только, конечно, подбадривали – а как же иначе, ведь этот горе-стахановец через год станет их непосредственным начальником. Хохотали-то они уже в своих курилках, да делились своими наблюдениями за новым Дон Кихотом в семейном кругу. Верится также, что освоил он профессию «бетонщика» в том объеме, о котором всем нам и поведал, – это, во-вторых:
«Вскоре я получил профессию… бетонщика. Кстати, очень тяжело мне давалась именно работа бетонщика, хотя физически вроде крепкий, но по очень узким и высоким лесам быстро бежать с тачкой жидкого бетона было очень сложно. Если ее накренить, то сразу центр тяжести перемещается, и несколько раз я вместе с тачкой летел метра три вниз; к счастью, все кончалось благополучно. Потом все-таки я и это дело освоил»[51].
Слава богу, что освоил. Только причем здесь профессия бетонщика. Тачки возить и бетонировать, это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Да и зачем надрываться и по лесам (видно не одноэтажный же дом строился) с тачками бегать, – а кран-то подъемный на что? Ведь уже на следующей странице «Исповеди…» он живописует о том, как «освоил» профессию крановщика, да к тому же чуть не угробил эту дорогостоящую технику. Так что, не профессию бетонщика освоил наш «многостаночник», а всего лишь навык разнорабочего на стройке – «поди туда – прикати на тачке то» – не больше.
С профессией водителя самосвала ЗИС-585, на котором он целый месяц возил бетон – вообще скандал. Это как он мог возить бетон не имея прав водителя? В институте на права не сдавал, – некогда было, все было посвящено волейболу, тогда спрашивается – когда успел научиться водить машину: может по вечерам, когда осваивал профессию каменщика и бетонщика, окончил курсы водителя? Если это даже и так, то надо было посмотреть в глаза тому начальнику автослужбы (гаража), который выпускал на линию «водителя», не имеющего ни водительских прав, ни дня опыта практического вождения автомобиля? А о том, что машины глохнут на железнодорожном переезде за секунды до прохождения поезда – это уж такой застарелый штамп, что с головой выдает зарапортовавшего лгунишку. Лучше послушаем А. Коржакова, который не понаслышке знает, каким водителем был ППР.
«Насчет того, что спасал он якобы застрявшую на переезде машину с бетоном – вранье. Это Ельцин придумал специально для книжки. Он машину не научился водить до сих пор. Я его лично экзаменовал по вождению: чуть всех нас не угробил. А тем более бетономешалка. Там лишнее движение-то делать опасно; не дай Бог, резче на газ нажмешь.
Помню, году в 1994-м был случай: с «АвтоВАЗа» пригнали в Кремль новую модель «Жигулей» – «десятку» – еще опытный образец. Борис Николаевич решил на ней прокатиться. Поскольку он уже с обеда был «хорош», то ездил исключительно зигзагами: от столба – к столбу. Нам пришлось даже экстренно закрывать Кремль для посетителей: спасать людей от президента»[52].
И уж совсем зарапортовался наш «многостаночник», когда красочно описывал эпизод с едва не случившейся аварией башенного крана, на котором он как раз осваивал очередную рабочую профессию – машиниста башенного крана. С замиранием сердца следишь за нашим героем, который ночью, в грозу в одних трусах стремительно взбирается по лестнице в кабину крана, чтобы прекратить его самопроизвольное движение. Не успей он за какие-то секунды проделать необходимые манипуляции со стрелой и грохнулся бы кран вместе с будущим президентом страны. Кто знает, по какому пути пошла бы многострадальная Россия, случись такое «несчастье» в ту грозовую ночь?
Позвольте, спросит дотошный читатель, а в чем же зарапортовался наш герой, ничего не скажешь именно герой и без всяких кавычек? А послушайте и догадайтесь сами, в чем, как ныне говорят, фишка:
«Заскочил в кабину, а там тоже темно, ничего не видно, стал лихорадочно думать и правильно сообразил, что надо отпустить с тормоза стрелу. И она сразу повернулась по ветру, перестала парусить, скорость (движения крана. – А. К.) несколько снизилась. Но тем не менее кран все-таки продолжал двигаться. Тогда я включил движение крана в обратную сторону и на полную скорость. И, смотрю, кран начал потихоньку снижать скорость и остановился в нескольких сантиметрах от конца путей. Это был, конечно, жуткий момент – внимание уважаемый читатель! – За мной выскочила жена, кричит: «слезай, упадет, погибнешь, а я нет – решил все-таки спасать кран. Остановил эту махину, спустился вниз, установил зацепы. Ну конечно, уснуть этой ночью мы уже не смогли, успокоиться было трудно. Долго мне еще снились сны, как я лезу по башенному крану вверх и падаю вместе с ним»[53].
Это еще что за жена? Наина в Оренбурге, испытательный год еще не закончился – не все рабочие профессии освоены, – а тут жена! Уж не ППЖ (походно-полевая жена) ли, да не может такого быть, он избегал женщин по вышеприведенным причинам. Тогда как объяснить этот казус? Кроме как с медицинской точки зрения, никак:
«Основными чертами пациентов с истерической психопатией является отсутствие объективной правды как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Стремление постоянно находиться в центре внимания побуждает этих субъектов играть какую-нибудь роль: яркого талантливого человека, неотразимого гения, выдающегося специалиста во всех областях»[54].
Таким образом, к концу года наш «многостаночник», по его рассказу, успешно освоил двенадцать рабочих специальностей, получив двенадцать профессиональных разрядов, и был готов к выполнению любых задач уже в качестве руководителя, пускай даже мастера строительного участка. Было ли это так на самом деле – трудно сказать, хотя два эпизода, связанных с предаварийными ситуациями на железнодорожном переезде и на башенном кране, явно созрели в момент написания «Исповеди». Трудно себе представить хотя бы одного здравомыслящего человека, который бы поверил, что не имеющего водительских прав человека посадили за руль автобетономешалки, а затем пересадили на башенный кран без прохождения специального обучения и стажировки под руководством опытных специалистов.
А. Коржаков неоднократно отмечал, что: «Борис Николаевич, действительно, уделял слишком много внимания форме, а не содержанию. Он ставил сам себе какие-то абсурдные цели, а потом с гордостью их «достигал». Несколько раз, например, он хвалился мне, что прочитал все собрание сочинений Ленина, все 53 тома. Причем – дважды.
Я ему говорю: «Борис Николаевич, зачем целиком-то читать? Всякую переписку с Каутским? Вам это в жизни точно не пригодиться».
– Ты не понимаешь. Я должен знать все»[55].
Или другой пример:
«То, что он был активным руководителем, ничего не скажешь. Но зачастую эта активность граничила с глупостями и кампанейщиной.
Он все время хвалился, например, что единственный из всех первых секретарей посетил в Свердловске (наверное, все-таки в Свердловской области? – А. К.) двести птицефабрик. «Зачем? – спрашиваю. – Проблемы-то у всех хозяйств одинаковые. Достаточно съездить на две-три». «Нет, я себе дал такой зарок: объехать все до единой». А сколько при этом горючего было сожжено, сколько людей понапрасну от работы отвлекли – это его не волновало. «Я решил и все!»[56]
А вот к чему за этот беспокойный год пристрастился наш герой, так это к пьянству. Тяга к алкоголю была у него заложена в генах.
В роду Ельциных (Елцыных) склонность к выпивке переходила из поколения в поколение. И вполне возможно, что пьянство засосало бы начинающего строителя, окончательно поставив крест на его карьере. Без бутылки в стройуправлении не решался ни один вопрос. Пили все – от начальника СУ до простого рабочего, каждый день начинался и заканчивался стандартно: со стакана. Сколь ни крепок физически был Б. Ельцин, сколь ни удивлял он сослуживцев своими недюжинными способностями к питию и рекордами выносливости, рано или поздно он скатился бы на самое дно социального бытия, а вершиной карьеры стала бы должность пьющего строительного начальника средней руки.
«Бытовой алкоголизм – начальная стадия алкогольной зависимости, при которой еще не так сильны признаки опьянения, когда напитки только поднимают настроение, жизненный тонус и двигательную активность. Хотя подъем жизненной активности может периодически сменяться длительными периодами раздражительности и конфликтности»[57].
Остановить грозящую жизненную катастрофу мог только один человек – Наина! Недаром он пристально изучал ее несколько лет и, расставаясь после окончания института, твердо пообещал жениться на ней через год, назначив якобы место встречи в г. Куйбышеве. Так совпало, что ровно через год проходили зональные соревнования по волейболу именно… в Куйбышеве! Что первично, что вторично в этой истории с Куйбышевым – пойди разберись. Однако слово самому жениху:
«И вот зональные соревнования по волейболу, у меня – матч в Куйбышеве. Сначала я позвонил ей, а потом решил – вдруг не приедет? – дам телеграмму. Долго мучился, что писать. Решил отстучать такое, чтобы была полая гарантия – не то что приедет, прилетит. Посылаю: «Приезжай, у Бориса плохо с сердцем». И без подписи. Конечно, телеграмма та еще… Но вполне в духе наших студенческих розыгрышей.
И хотя она мой характер знала, но действительно – примчалась сломя голову, нашла нашу гостиницу и тут же увидела меня…»[58]
«…выйдя из гостиницы, я увидел ее на площади. Сердце готово было вырваться от нахлынувших чувств, я поглядел на нее, и мне все стало ясно – мы будем теперь вместе всю жизнь. Провели мы весь вечер и всю ночь гуляя, говорили друг другу о многом-многом. Вспоминали и студенческие времена, и то, что произошло за год (наверное и историю с башенным краном «припомнили». – А. К.). Хотелось слушать и слушать любимого человека, смотреть на него день и ночь, просто молчать, потому что и так, без слов, все было понятно»[59].
Свадьбу играли «комсомольскую» – трезвую и веселую. Многие друзья Бориса, приехавшие из разных городов страны, куда они были распределены по окончании института, были очень удивлены его выбором, поскольку во время учебы ничто не предвещало такого исхода. Вот секретная парочка! «Мы думали, что между вами ничего нет. Вы так отстраненно, так формально… на такой большой дистанции общались друг с другом в вузе… – разинув от изумления рты, признавались однокурсники. – Ну что ж, горько!»[60]