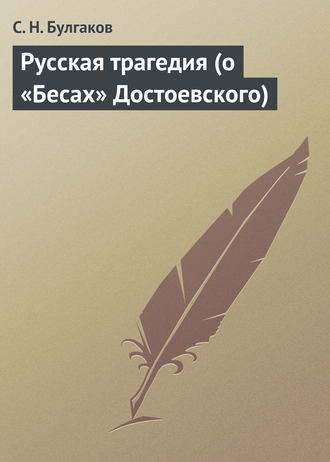 полная версия
полная версияРусская трагедия (о «Бесах» Достоевского)
Из всех женщин, окружающих Ставрогина, наиболее сродна ему Лиза. В отличие от целого ряда лиц, в отношении к которым Ставрогин выступает в роли интеллектуального искусителя, в данном случае совершенно нет места идейному соблазну. В отношениях Лизы к Ставрогину наблюдается скорее какая-то зачарованность воли, магический гипноз, которым удав парализует обреченную на съедение птичку. Между Ставрогиным и Лизой существует музыкальное соответствие душ, Wahlverwandschaft{12}, но это есть сродство в одержимость, ибо и Лиза принадлежит не себе, и она влечется слепой и злой силой. В ней пробужден какой-то иррациональный авантюризм, сладострастие гибели, стремление в бездну. Ставрогин обронил однажды Лебядкину мысль, произведшую на него большое впечатление (ибо ведь и на него распространяется обаяние Ставрогина): «Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла». Лиза делает вызов не только здравому смыслу, но и гораздо более почтенным чувствам, когда, не помня о матери и Маврикии Николаевиче, бросается в карету Ставрогина. Она не обманывает себя относительно Ставрогина, и, когда отдается ему, она ищет не его, но гибели, она ищет той неведомой свободы, которую сулит переход за последние грани, но, обманутая бесовским маревом, находит отчаяние и пустоту, недаром, уже вступая в Скворешники, она рекомендуется «трупом». «Мне всегда казалось, – говорит она Ставрогину в это роковое утро в Скворешниках, – что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь». И воистину так, она не обманывает себя, не впадает в иллюзии. Ну, а если так, то какая же злая сила бросила ее в объятия Ставрогина? Любовь ли? Но ведь не любовь это говорит ее языком в скворешниковское утро, это – не тот божественный дар, который в эротическом осиянии показует вечный образ любимого. То не крылья, которыми душа взмывает в вечную синеву неба, это-оковы, демонские чары, это-любовь наизнанку, любовь-ненависть, тоже обладающая ясновидением, только не добра, но зла, видящая в любимом и вместе ненавидимом человеке не создание Божественной любви, но добычу ада, злого паука или «золотушного бесенка с насморком из неудавшихся», это не эрос, но анти-эрос, какая-то черная любовь. Вот какой любовью любит Лиза Ставрогина, и едва ли не такою же и он ей отвечает.
Ставрогин играет исключительную роль в жизни не одних только женщин, но не менее, если не более, и мужчин. «Вспомните, как много значили вы в моей жизни», – в один голос говорят ему и Кириллов, и Шатов, и Петр Верховенский, даже Лебядкин. Кириллов и Шатов в романе сгорают в огне пожара, зажженного в их душах Ставрогиным. Своей плотью и кровью одели они отвлеченные, как бы бесхозяйные идеи, которые, как искры из костра, вылетают, фосфорически светящиеся и холодные, из неживущего Ставрогина, утратившего личное бытие и превратившегося в личину, в медиум. Поэтому-то он и становится духовным провокатором, он зажигает других тем, чем сам не горит и заведомо неспособен загореться, – льдистое отражение чужого огня и света. Он – актер, но не на сцене, не в искусстве, а в жизни. Ведь и актер есть тоже медиум и тоже провокатор, – его как живого лица нет в его роли, он отдает себя, свой психический механизм, как средство, как материал для медиумического воспроизведения чужого содержания, которое, однако, должно отразиться подлинным переживанием в душе его зрителей. Такова природа актера, и в этом граница сцены: последняя предполагает, так сказать, законный, признанный медиумизм, иллюзионизм, зеркальность. Этим медиумическим, провокаторским характером сцены именно и установляется грань между сценическим представлением и теургическим искусством, как оно мыслится в современных чаяниях: грань эту полагает подлинное перерождение, одинаково распространяющееся и на исполнителей, перестающих быть пустыми личинами, и на зрителей, перестающих тоже быть пустыми или праздными, пассивными созерцателями. Различие между сценическим искусством и мистериальным действом определяется, таким образом, зеркальной призрачностью достижений первого и жизненной реальностью второго.
Эта грань ощущается совершенно явственно и теперь в различии между богослужением, литургическим обрядом, который всегда представляет собой и некое действо, реален одинаково и для клира, и для народа, и между сценическим представлением, которое, как бы ни было оно совершенно, всегда только зеркально, обманчиво и притворно. Сцена есть область дурного идеализма зеркальности и призрачности, в противоположность реальности литургического обряда. Медиумичность, провокация, зеркальность является самой основой сценического искусства, в этом его сила, ибо им раздвигаются грани эмпирически ограниченной индивидуальности: в одной человеческой коже вмещается несколько тел, на одно лицо можно накладывать много различных гримов, но в этом и его ограниченность. Соответственно своей природе, актер может быть медиумом одинаково и добра, и зла, хотя в служении красоте и он имеет во всяком случае оздоровляющее начало, перед которым никнет сила зла. Напротив, актерство, перенесенное в жизнь, неизбежно становится провокацией. Таков Ставрогин, этот актер в жизни, личина личин, провокатор. Ставрогин, по меткому определению Кириллова, «ищет бремя», чтобы осилить свою внутреннюю распрю, справиться с распадом личности, родиться к жизни, ощутить непризрачную ее реальность, но остается побежденным в этой борьбе. И в последнем письме к Даше читаем горькое признание: «Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и без всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло». И небытие поглощает свою жертву, мертвую ранее смерти. A в этого мертвого человека верило столько людей, с ним связывалось столько надежд: марево и наваждение![3]
Сказанным определяется и роль Ставрогина в судьбе Шатова и Кириллова, в которых он обострил заложенную в них душевную драму, чем нарушил их душевное равновесие. Оба они не в силах выносить зачатый в душе и преждевременно родившийся плод, и оба влекутся к гибели. Шатов говорит Ставрогину: «В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним… несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни вы отравили сердце этого несчастного, этого маниака, Кириллова, ядом. Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления». И Ставрогин подтверждает: «Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно, ну и что же из всего этого? Я вас ни того, ни другого не обманывал», – искренний и типичный ответ. Иначе сказать, по определению Кириллова, «Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует». Конечно, ни Бога, ни родины не насаждал и не мог насаждать Ставрогин одинаково как в душе Шатова, так и в душе Кириллова. Он явился для обоих искусителем, соблазняя их призрачной истиной и призрачным добром. Искушение всегда имеет дело с полуистиною, выдаваемой за целостную истину, причем следствие в нем подставляется в качестве самостоятельной цели, так что получается погоня вместо причины за следствием. Искушение обманывает, нарушая лад и строй целого, ниспровергая мудрость цельности – целомудрие, и такое именно разрушительное действие оказывает на души Кириллова и Шатова Ставрогин, обольщая одного идеей божественности всякого индивидуального человека, а другого-божественности народа. Кириллов представляет собой одно из самых глубоких и поразительных порождений мистического гения Достоевского, в нем раскрываются религиозные бездны человеческого духа. Инженер по образованию, Кириллов живет только религиозными интересами. «Меня всю жизнь Бог мучил». Характерно еще, что при всех его сомнениях и отрицаниях у него в сердце остается нетронутой вера в Христа, точнее, совершенно исключительная, никакими доводами не оправданная, но в них и не нуждающаяся любовь к Нему. Надо думать, что так же это было и с самим Достоевским. В последнем разговоре с Петром Верховенским Кириллов неожиданно ссылается на слова Спасителя: «вот Он сказал». «И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, перед которым горела лампада». И дальше следуют безумные и великие слова неверующей любви.
«Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа. – В кого? в Него? Слушай, – остановился Кириллов, неподвижным, исступленным взглядом смотря перед собой. – Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста… Слушай. Этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда». С этой исступленной любовью ко Христу пришлось встретиться в Кириллове и Ставрогину, и в отношении последнего интересна в особенности следующая черта. В разговоре Шатова с Ставрогиным имеется такое упоминание: «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?»
В этой альтернативе, которая, очевидно, еще более, чем для Шатова, предназначается для Кириллова, под личиной любви и восторженности заключена тонкая хула и неверие{13}: «Не лобзанием ли предаешь Сына Человеческого?» Это противопоставление Христа, который для верующего есть Путь, Истина и Жизнь, какой-то отвлеченной истине есть замаскированное кощунство, предназначенное для обмана простодушных сердец. Христос-Истина здесь подменивается кумиром, избранным прихотью, капризом вкуса, субъективной привязанностью, т. е. в конце концов тоже… своеволием.
Сердце Кириллова с этой стороны осталось, по-видимому, недоступно соблазнам Ставрогина: при нем сохранилась нетронутою и его любовь к Христу, и даже непосредственное чувство Бога, его общее религиозное мирочувствие. «Я всему молюсь, – вырывается признание у этого „атеиста“, – видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что он ползет». Вероятно, творя эту непрерывно струящуюся из него молитву Спинозы{14}, он и зажигает лампаду пред ликом того, Кому, помимо ведома, молится его душа. Он и в Федьке-каторжнике, с которым читает Апокалипсис, воскрешает религиозную веру. И однако Ставрогин отравил его сознание, сделал его маниаком одной глубокой и важной идеи, которая, завладев им всецело, получила богоборческий и бредовой характер. Это-идея человеческой свободы и человеческой божественности,-«будете как боги, знающие добро и зло». Есть два пути человеческой свободы: «да будет воля Твоя», путь, указанный Сыном Человеческим, пришедшим не во имя Свое, но во имя Отца, и творивший волю не Свою, но Пославшего Его, и «да будет воля моя», путь своеволия, богопротивления, опирающегося, однако, на чувство своей мощи, на сознание своей божественности. Есть два пути человеческой божественности: путь Сына Божия, который «не хищением считал» быть равен Богу, но, себя умалив, принял «зрак раба», послушен был до смерти крестной, истощив Себя и свое Божество, – и путь того, который хочет быть противобогом, соперником Бога, хищением стяжав и присвоив себе не свое. Простодушный, наивно отрицающий атеизм остается бесконечно ниже мистических запросов Кириллова: последний не отвергает Бога, но Его не хочет, это не атеизм, но антитеизм, причем антитеос и есть тот, кто себя хочет поставить вместо Бога. И для этого второго бога, бога‑самозванца, бунтовщика, узурпатора, плагиатора бунт и своеволие неизбежно оказываются атрибутами божества, самоудостоверением в божественности, ее пробой и осуществлением. «Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и страшную свободу мою».
Как сатана есть карикатура Бога, так и своеволие есть карикатура свободы, так и религиозный бунт есть пародия мощи.
Божественная свобода есть Любовь и потому есть Смирение. Св. Троица есть предвечно осуществляемый акт Любви‑Смирения, в котором каждая ипостась истощает себя в смирении-любви, чтобы найти себя в другой, потому для Троичности, этой свободы в смирении, нет места в царстве раздора и своеволия: сатана есть унитарист, космически выпячивающий свое я. И самое творение мира как акт божественной любви, обеспечивающий миру и мирочеловеку всю свободу и отказывающийся ради этой свободы от неограниченности божественного всемогущества, есть акт смирения, самоотвержения: в «да будет» первого дня творения уже предначертаны Голгофа и последнее божественное самоистощание: «Боже мой, Боже мой, вскую Меня оставил?» Сатана несовместим с свободным миром, он может хотеть мира лишь как вещь, как игрушку, а человечество – как рабов, которыми можно помыкать, Он есть всегда притязание и претензия, воплощенное υπερ или Über: Überwelt, Übermensch, Übergott{15}, он весь – усилие, зависть, соревнование. Ему всегда нужно уверять себя и доказывать себе эту призрачную и ложную свою божественность. И если атрибут Божества в том, чтобы животворить и воскрешать, – «воскресение – документ истинного Бога» (В. Соловьев{16}), – то атрибут противобога есть своевольное разрушение без силы созидания. И наиболее радикальным доказательством этого самозванного божества становится разрушение самого себя, собственной жизни, самоубийство по религиозным мотивам. Вот общая схема искушения Кириллова, которая усложняется и обрастает в его психологии, тема эта звучит переливаясь в мистической музыке его души. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно жить или не жить. Вот всему цель». «Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог»… «Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог». Самоубийство как религиозный эксперимент, как доказательство своеволия, с которого начнется новая эра в истории человечества, – такова идея Кириллова. Но этот новый бог или противобог, искушающий Кириллова, есть обманщик и самозванец, ибо он может только разрушать. Он не лжет в том, что человек должен знать и сознать и свою свободу, и свою мощь, чтобы в смирении самоотречения отдать их Богу. Ибо и Бог хочет в сынах своих иметь не пасынков, не рабов и не манекенов. Ему нужна не наша пассивность и лень, а наша активность, свобода и мощь. Но когда мы их в себе утверждаем, то находимся на острие ножа, подвергаемся величайшей опасности подменов, в которых в качестве свободы появляется своеволие, в качестве дерзновения – дерзость, вместо мощи-разрушительный вандализм. Так и Кириллов пьян почувствованной свободой и сознанной мощью своей, но он и раб ее, ибо не знает и не ощущает ее действительных границ и подлинной природы, раб, ибо утратил смирение, действительный «атрибут» Бога-Любви, раб потому, что видит мощь в вандализме, самоистреблении. Украсть жизнь у Бога, объявив ее своей собственностью, между тем как она нам лишь вверена, это есть дело самозванца, а не истинного человекобога: «если нет Бога, то я бог», говорит мессия человекобожия, «потому что вся воля моя», но вне Бога она есть нуль, небытие, бессильная, неутолимая жажда. Таков остов религиозной драмы Кириллова, подобной которой нет в мировой литературе.
Кириллов неизбежно утрачивает при этом чувство реальности и Бога, и мира и впадает в идеалистический субъективизм. Если Бог лишь идея, которая, подобно времени, может погаснуть в человеческом уме, то и человек в своем духовном мире окутан призрачной майей, которая может меняться по желанию. «Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет не хорошо… Они не хороши, потому что не знают, что они хороши… надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого».
Рядом с Кирилловым в окружении Ставрогина стоит Шатов. Как будто с амвона, слышатся заветные, бесконечно волнующие слова его о народе – теле Божием, о народе богоносце. Здесь мы имеем одно из ранних выражений самых сокровенных верований и самого Достоевского, полнее раскрывающихся в «Братьях Карамазовых» и в «Дневнике писателя». Что такое народ? Какова его религиозная природа? И что представляет собой русский народ? Достоевский отвечает устами Шатова на эти вопросы вполне определенно, рассматривая эти ответы как аксиомы религиозного миросозерцания. Народ есть в основе своей религиозное единство, «тело Божие», народы создаются их религиями, и углубленное и обостренное национальное самосознание неизбежно приводит к убеждению о богоносности народа. Всякий народ потенциально богоносен, поскольку он вынашивает в себе свою религиозную идею, дает в себе место раскрытию божества. Народы живут верою, ею они слагаются и с утратой ее разлагаются. Конкретность, индивидуальная напряженность национально-религиозного самосознания не позволяет ограничиться лишь отвлеченно резонирующими утверждениями о равенстве и равноценности всех народов перед Богом, ибо это не делает их равноценными перед человеком. С отказом от своего лица не мирится живое чувство своего собственного национального призвания. Выраженное же от имени первого лица, оно неизбежно получает еще дополнительный обертон, именно сознание исключительности, единственности своего призвания и значения. Такова горячая, живая, не резонирующая вера. Приблизительно такой порядок идей с потрясающей силой выражен в речах Шатова, причем самые эти идеи были заронены в нем в момент духовного кризиса, года за два-три перед тем, Ставрогиным. Шатов в известном смысле тоже есть одно из реальных отображений Ставрогина, его вампирных двойников, которых он напустил кругом себя, а они присасывались к сердцу и пили кровь своих пленников-Шатова, как и Кириллова. Насколько последний стал маниаком человекобожия, настолько же первый становится маниаком национальной идеи. Если присмотреться ближе, то все пламенные утверждения Шатова, как будто содержащие истинные, а в некотором роде даже аксиоматические положения, страдают, однако, религиозной двусмысленностью, представляют ряд искажений, подобно тому, как в слегка искривленном зеркале путем малозаметных удлинений и расширений получается, при большом сходстве, и именно в силу такого сходства, обидная карикатура. Такое кривое зеркало представляет собой, конечно, не Шатов, но Ставрогин, обостривший в нем до такой степени именно эту проблему. Мы знаем из романа, что Шатов загорелся религиозной идеей национальности в такое время, когда он еще не имел веры в Бога, хотя и страстно хотел ее иметь; в народ-богоносец он поверил раньше, чем поверил в Бога, и этот призрак, за которым он погнался, и эта мечта, на которую он затратил хотя и несложные и небогатые, но сосредоточенные силы своего духа, исказили его духовную личность. Он тоже сделался жертвой провокации и обмана, – неверующий проповедник идеи народа богоносца. Отсюда понятна столь жгучая его потребность опереться на Ставрогина, оттого Бог у него действительно становится атрибутом национальности. Делая столь чрезмерное ударение на идее особности, национальности религии, Шатов впадает в явный конфликт с христианством, проповедь которого обращена ко всем языкам. Шатов стоит поэтому на ветхозаветной или даже политеистической точке зрения, допускающей множество равноправных, борющихся между собою национальных богов. «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Чем сильнее народ, тем особливее бог». Ясно, что, исходя из этих положений, нельзя подойти к христианству как религии языков, а следовательно, нельзя приблизиться и к вопросу о «русском Христе». В Шатове нарушено религиозное равновесие, то, что должно быть лишь производным, заняло место основного, – произошло смещение религиозного центра. Религиозное искушение состоит здесь в этом нарушении духовных пропорций, благодаря которому частичная истина, получая не принадлежащее ей место, из полу-истины становится ложью. В христианстве идее национальности бесспорно принадлежит свое определенное место, но если самое христианство понимается и истолковывается лишь из идеи национальности, а не из Христа как единого, живого и пребывающего центра, то, очевидно, мы имеем подмен: уже не народ – тело Божие, но сама вера делается телом народа. Шатов поистине оказывается идеологическим предшественником того болезненного течения в русской жизни, в котором национализм становится выше религии, а православие нередко оказывается средством для политики. Этот уклон был и в Достоевском, который знал его в себе и художественно объективировал в образе Шатова этот соблазн беса национализма, прикрывающегося религиозным облачением. Этот соблазн подстерегает всякого, чье сердце бьется любовью к родине, ибо национальное чувство неизбежно раздирается этой антиномией – исключительности и универсализма, – и, по совести говоря, кто из тех, в ком оно живо, не знает в тайниках души Шатова? Это тот самый старинный соблазн, каким все время искушался народ Божий, возомнивший о себе, что не он избран Иеговой, но Иегова избран им. Что касается Ставрогина, то для него Шатов – не лихорадочный, маниакальный, фанатический, но здоровый, уравновешенный, верующий Шатов-есть то, в чем он сам видит спасение от демона небытия, чем бы он сам хотел стать, но, однако, не может.
«Не шутил я с вами тогда, – говорит Шатову Ставрогин, – убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас». «Если бы я веровал, – прибавляет он позже, – то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий». Ставрогин головой отлично знает, где спасение, но она отделена у него от сердца, и от этого знания не родится духовного плода. Так бесы узнавали мимоходящего Христа и кричали через бесноватых: «Ты Христос, сын Бога Живого», но Он запрещал им эти бесплодные признания. В душе Шатова Ставрогин мог лишь вызвать бурю, поразив его воображение и помешав ему дорасти, созреть до своей идеи. Делом Ставрогина и здесь оказалась духовная провокация.
Надломленный своим прошлым и отравленный чарами Ставрогина, Шатов, однако, принадлежит к уже исцеляющимся, он судорожно припал к «ногам Иисусовым», и его коснулась исцеляющая рука: он выпрямляется и вырастает на глазах, – тому свидетельством раздирающая душу повесть о возвращении жены, рождение ребенка и смерть Шатова, – эта потрясающая Ночь{17}, Светозарная молния разрезает тьму, в душе Шатова звенит гимн любви, радости, всепрощения, – он исцелен. Но в эту минуту злобная и мстительная рука направляет на него пистолет простоватого Эркеля… Не суждено было Шатову поведать людям о своем исцелении.
Около Ставрогина, как кругом великого светила малое, обращается и Петр Верховенский. Его можно назвать провокатором политическим. При этом он отнюдь не есть предатель из-за корысти, не трус, он даже энтузиаст, по компетентному определению Ставрогина, он способен на жертвы и все время в сущности играет с опасностью. И, однако, в то же время он циник, который откровенно презирает и водит за нос свои «пятерки», рассматривая их как пушечное мясо. Потому он так хладнокровно перешагивает через убийства и при этом вовсе не ощущает каких-нибудь «проблем» или сомнений, укоров совести. Как будто у него кем-то выедено нравственное нутро, а в мозгу засела одна лишь фанатическая и фантастическая идейка. Под маской демократа, эгалитариста и социалиста он совершенно откровенно третирует всех, рассматривая людей как шашки в шахматном ходе. Над всем царит у него одна холодная, насмешливая презрительная воля. Но при этом и трезвый, расчетливый в злодействе Верховенский в действительности есть маниак и одержимый. И он ощущает себя сверхчеловеком и человекобогом отнюдь не менее Кириллова, и это самочувствие создает из него органического противника демократической идеи, которая годится ему лишь для официального политического ханжества. Он готов разрешить для человеческого стада демократию, его осчастливить, он позволяет ему устраиваться в своем муравейнике, при условии повиновения его диктатуре. Образ Великого Инквизитора просвечивает в Верховенском. Это впечатление еще восполняется от социальных построений Шигалева, уже вполне определенно содержащих основную мелодию «Легенды о великом инквизиторе». Вот как излагает идеи Шигалева хромой. «Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Шигалевские же речи в самозабвении повторяет и сам Верховенский в сцене со Ставрогиным. Именно это человекобожеское самосознание и ставит Верховенского «по ту сторону добра и зла», он считает, что для него все позволено, всякие, хотя бы самые рискованные и необычные средства, а это-то самочувствие и делает из него провокатора и в политическом смысле. Провокатор-предатель, «сотрудник», за деньги выдающий тайны партии, есть вырождение этого типа, его оборотная сторона, или его осложнение и загрязнение, впрочем, вероятно, и неизбежное. Но мотивами одной низости и мелкой корысти его никоим образом не объяснить, и в его основе должно лежать сверхчеловеческое самобожеское самочувствие Верховенского, для которого нет преград на пути к облагодетельствованию человеческого стада, насмешливо ведомого к «земному раю».









