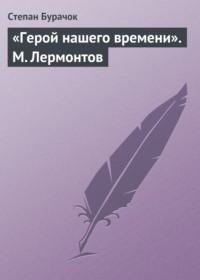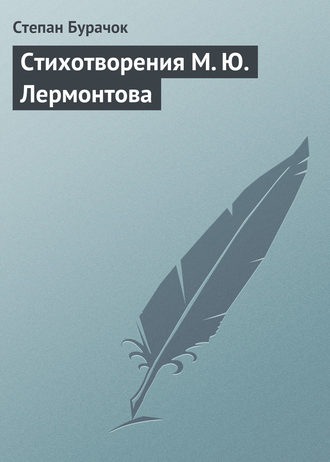 полная версия
полная версияСтихотворения М. Ю. Лермонтова
Все это голос Я.
Мечты поэзии, создания искусстваВосторгом сладостным наш ум не шевелят,[4]Мы жадно бережем в груди остаток чувства –Зарытый скупостью и бесполезный клад;И ненавидим мы[5] и любим мы случайно,Ни чем не жертвуя ни злобе, ни любви,И царствует в душе какой-то холод тайный[6]Когда огонь кипит в крови.Все это портрет того Я, – о котором здесь речь идет.
И предков скучны нам роскошные забавыИх добросовестный, ребяческий разврат;И к гробу мы спешим без счастья и без славы,Глядя насмешливо назад.Толпой угрюмою и скоро позабытойНад миром мы пройдем без шума и следа,Не бросивши векам ни мысли плодовитой,Ни гением начатого труда.И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,Потомок оскорбит презрительным стихом,Насмешкой горькою обманутого сынаНад промотавшимся отцом.Видите, любезный поэт, вы начали прозревать пустоту и ничтожность Я и его дел в человеке и его мороченья над человеком. Вы указали две-три раны, а их миллионы, и в тысячу крат более смертельных, но где же бальзам и для двух-трех ран? – Или вы не врач, а только прохожий, который тросточкою тычет в гниющие члены человечества? Или вы боитесь, веря своим недозрелым учителям, которым и вы давеча прочли такой поучительный урок, вы боитесь, что давать бальзам и читать нравоучения – одно и то же; посмотрите, в какой прекрасной одежде пустили вы мрачные, отрицательно-истинные сентенции, мысли свои; оденьте хоть так светлые, положительно-истинные мысли, и они произведут общий восторг, потому что в сущности их есть уже сила, свет, и жизнь, и красота, которые невольно движут, озаряют, живят и радуют сердце сами по себе, независимо от художественной одежды, которая то же самое производит в Я – и через Я опять в сердце.
Чтоб окончательно убедить вас, честный и умный поэт, что вы только начали прозирать в безумие, пустоту Я и еще не прозрели окончательно, еще не отложились от служения ему, что вы еще не поэт, а только художник, подающий огромные надежды, могущие и не сбыться, – осмотрите вкратце другие ваши статьи. Только, Бога ради! понимайте меня так, как я говорю, не придавайте – как делают другие – моим словам того значения, которого в них нет и быть не может. И если вы не поставили себе в труд прочесть прежние критические статьи «Маяка», с которыми и эта статья имеет тесную и неразрывную связь, то, надеюсь, вы вполне если не согласитесь со мной, то отдадите справедливость чистоте моих побуждений: т. е. что я хотел только передать вам мое убеждение, а не чернить и оскорблять вас.
1-е января
Как часто, пестрою толпою окружен,Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,При шуме музыки и пляски,При диком шепоте затверженных речей,Мелькают образы бездушные людей,Приличьем стянутые маски,Когда касаются холодных рук моихС небрежной смелостью красавиц городскихДавно бестрепетные руки, –Наружно погрузясь в их блеск и суету,Ласкаю я в душе старинную мечтуПогибших лет святые звуки.Опять ряд «сентенций»! – Резкое обличение Я с другой точки зрения: посмотрим же, что это за старинная мечта? Что за святые звуки погибших ваших лет, которые вы, поэт, «ласкаете в душе»?
И если как-нибудь на миг удастся мнеЗабыться, – памятью к недавней старинеЛечу я вольной, вольной птицей;И вижу я себя ребенком, и кругомРодные все места: высокий барский домИ сад с разрушенной теплицей;Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,А за прудом село дымится – и встаютВдали туманы над полями.В аллею темную вхожу я; сквозь кустыГлядит вечерний луч, и желтые листыШумят под робкими шагами.И страшная тоска теснит уж грудь мою[7]:Я думаю об ней, я плачу и люблю,Люблю мечты моей (детской?) созданьеС глазами, полными лазурного огня,С улыбкой розовой, как молодого дняЗа рощей первое сиянье.Так царства дивного всесильный господин –Я долгие часы просиживал (ребенком?) один,И память их жива понынеПод бурей тягостных сомнений и страстей,Как свежий островок безвредно средь морейЦветет на влажной их пустыне.Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,И шум толпы людской спугнет мечту мою,На праздник незванную гостью,О, как мне хочется смутить веселость ихИ дерзко бросить им в глаза железный стих,Облитый горечью и злостью!Жаль! Напрасно! С больными не так поступают. Они, и вы, и все – подданные того же Я. Сперва спасите себя от власти его, тогда увидите, что и с ними надо делать. Заметьте, поэт, какие бесподобные описания у вас, – но все это лишь пластика, художественность[8], принесенная в жертву Я, выглянувшего, как в три окна, в три последние стиха. Идем далее.
И скучно и грустно
И скучно и грустно, и некому руку податьВ минуту душевной невзгоды…Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..А годы проходят – все лучшие годы!Любить?.. но кого же. на время – не стоит труда,А вечно любить невозможно.В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:И радость, и муки, и все там ничтожно…Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недугИсчезнет при слове рассудка.И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –Такая пустая и глупая шутка!Нет, мой поэт, я не согласен с вами: жизнь совсем не шутка, и уж вовсе не такая, как вы говорите. Из всех тайн мироздания тайна жизни человеческой – высочайшая тайна Божией премудрости; и эта тайна полураскрыта человеку откровением; и воображение гаснет, и ум исчезает в беспредельной глубине и красоте этой великой тайны.
Но если вы говорите о жизни Я и в Я – дело другое! я согласен с вами. Жизнь в пустом Я – удивительное противоречие с нашим кичливым разумом, который хвалится, будто все знает и во всем избирает лучшее, а между тем пресмыкается в погибельном раболепстве этому Я. Жизнь в Я, конечно, и пустая, и глупая, но не шутка, а разве плачевная шутка, оканчивающаяся погибелью Я и всего его царства, и всех его подданных.
В себя ли заглянешь?..И радость, и муки, и все там ничтожно.Не все там ничтожно. Есть там чудный образ Божий или, лучше, следы разбитого образа. Но и самые эти следы в духе – удивительны! Ежели вы, поэт, видели, что там все ничтожно, значит, опять вы сталкивались только с Я, а об нем мало сказать – ничтожно.
Не хотел бы я видеть в ваших прекрасных стихах вот таких выражений:
Любить… на время – не стоит труда!Мало! Любить на время – просто порок. В поэзии таким вещам и места нет: разве как тень может художник употребить их в своей картине. Но в таком виде, как тут, нельзя.
А вечно любить невозможно.Не все то невозможно, что кажется таким. Для Я, конечно, это невозможно. Переменчивость, измена – в числе непременных атрибутов Я.
Прекрасная вещь у вас, поэт, «Бородино». Но Бородино – такая колоссальная поэма, что простому усачу даже не понять колоссальных ее элементов. Об этой вещи надо писать огневым пером Ф. Н. Глинки. Вы сделали большую ошибку, что не взяли труда на себя, а поручили усачу. Это произведение было бы в тысячу крат выше и «Песни про царя Ивана Васильевича» и «Мцыри» – двух серьезных поэм, где вы вполне показали себя и которые мы с вами повнимательнее пересмотрим; только наперед позвольте заметить вам: статьи, в которых вы особенно слабы, это «Русалка», «Еврейская мелодия»; вовсе не хотел бы я видеть ни в чьем собрании стихотворений таких вещей, как «Расстались мы…», «Ребенку», «Благодарность», особенно же «Дары Терека». Скажите, какая поэзия может быть в тех картинах, где вы представляете, что Терек несет с собой и дарит Каспию – что же? – два трупа утопленников: кабардинца и казачки, разбухшие, посинелые, обрюзглые, безобразные трупы, – и будто Каспий с жадностью хватает труп казачки:
И старик во блеске властиВстал, могучий, как гроза,И оделись влагой страстиТемно-синие глаза.Он взыграл, веселья полный, –И в обятия своиНабегающие волныПринял с ропотом любви.Воля ваша, эта картина столько же эстетически верна и красива, как и сия:
Борей наш дует,Борей наш плюет,И сильно под бока прохожего он сует.«Олицетворения» природы надо делать с выбором и осторожно. Всю природу нельзя олицетворять страстями человеческими. На это есть скоты и звери: и посмотрите, как славно Крылов этим воспользовался. Его олицетворения нигде не бьют по эстетическому вкусу и чувству.
Молитва
В минуту жизни труднуюТеснится ль в сердце грусть:Одну молитву чуднуюТвержу я наизусть.Есть сила благодатнаяВ созвучье слов живых,И дышит непонятная,Святая прелесть в них.С души как бремя скатится,Сомненье далеко –И верится, и плачется,И так легко, легко…Как живой родник в пустыне, так эти двенадцать строк в вашей книге. Душа сладко отдыхает за ними от бурь, от ужасов, тревог, заполонивших остальные статьи. Нет, виноват, еще есть две: другая «Молитва» и «Ветка Палестины». Автор, неоспоримо, мог бы первенствовать в этом роде, но дух времени требует, как выразился Гете, поэзии лазаретной, и автор видимо позволяет ей увлекать себя: как бы хорошо ему пригодился его же собственный совет:
Не верь себе
Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,Как язвы, бойся вдохновенья…Оно – тяжелый бред души твоей больнойИль пленной мысли раздраженье.В нем признака небес напрасно не ищи:То кровь кипит, то сил избыток!Скорее жизнь свою в заботах истощи,Разлей отравленный напиток!………………..Закрадется ль печаль в тайник души твоей,Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой,Не выходи тогда на шумный пир людейС своею бешеной подругой;Не унижай себя. Стыдися торговатьТо гневом, то тоской послушнойИ гной душевных ран надменно выставлятьНа диво черни простодушной.Какое дело нам, страдал ты или нет?На что нам знать твои волненья,Надежды глупые первоначальных лет,Рассудка злые сожаленья?Взгляни: перед тобой играючи идетТолпа дорогою привычной;На лицах праздничных чуть виден след забот,Слезы не встретишь неприличной.А между тем из них едва ли есть один,Тяжелой пыткой не измятый,До преждевременных добравшийся морщинБез преступленья иль утраты!..Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,С своим напевом заученным,Как разрумяненный трагический актер,Махающий мечом картонным!Оборотите, поэт, такой совет прекрасный к самому себе! Вам он потому более необходим, что дар истинной поэзии, право же, не так легкомысленно дается, как легкомысленно иногда он употребляется для добычи горсточки удивления толпы и рукоплескания журналистов. Смотрите, здесь вы гоните в людях Я своим презрением, которого он точно заслуживает. Но верьте, это не лучший способ лечить гной душевных ран человечества. Надобно бояться, чтоб и самому не попасть в разрумяненные трагические актеры с мечом картонным. Почувствовав отравленный напиток – лучше разлейте его. Кипяток крови не есть вдохновение; раздражение мысли, плененной какою-нибудь страстью, не есть вдохновение; тяжелый бред души больной не считайте за вдохновение, потому что Я принимает вид искусителя, но у одного – дыхание холода, бури, смерти, разрушенья, у другого – дыхание тепла, мира, жизни и назидания. Только по этому дыханию можно различать Я от не-Я. Прекрасный совет подаете вы всем современным поэтам:
Случится ли тебе в заветный, чудный мигОткрыть в душе давно безмолвнойЕще неведомый и девственный родник,Простых и сладких звуков полный, –Не вслушивайся в них; не предавайся им,Набрось на них покров забвенья:Стихом размеренным и словом ледянымНе передашь ты их значенья.Да, что на сердце, то и на словах; а сердце наше там, где наше сокровище – предмет любви. Коль скоро Я – наше сокровище, то стих размеренный и слово ледяное способны выражать лишь мрачные дела Я. Пробивается иногда в душе, одержимой Я,
…неведомый и девственный родник,Простых и сладких звуков полный.Но вы, поэт, велите:
Не вслушивайся в них, не предавайся им,Набрось на них покров забвенья.Боже вас сохрани! Этот чудный родник – дыхание Духа жизни: и вы еще велите задушать его покровом забвенья.
Печально я гляжу на наше поколенье!Его грядущее – иль пусто, иль темно… –невольно повторишь с автором.
В «Песни про царя Ивана Васильевича» русская жизнь, русский молодецкий говор. Вот содержание:
У царя пир, застольный ковш разгуливает, все веселятся, один только любимый опричник Кирибеевич, мрачен и молчалив. Царь спрашивает, что это значит? не желает ли он какой милости царской? – «ничего мне не надо!» отвечает опричник. Он тоскует от любви к Алене Дмитриевне.
– Как увяжу ее, я и сам не свой!Опускаются руки сильные,Помрачаются очи бойкие,Скучно, грустно мне, православный царь,Одному по свету маяться.Царь говорит ему: возьми что надо из казны царской и пошли своей Алене Дмитриевне:
Как полюбишься – празднуй свадебку,Не полюбишься – не прогневайся.Опричник отвечает ему:
Обманул тебя твои лукавый раб,Не сказал тебе правды истинной,Не поведал тебе, что красавицаВ церкви Божией перевенчана,Перевенчана с молодым купцомПо закону нашему христианскому.Автор умолчал о том, что присудил царь, но из последующего видно его решение.
Купец Калашников, добрый и смирный семьянин, сидит в своей богатой лавке; день оканчивается, он запирает лавку, идет домой. «Где жена, Алена Дмитриевна?»
– Она ушла к вечерне, отвечает няня, – вот уж давно вечерни отошли.
Калашников беспокоится, не знает как объяснить.
Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,Потом слышит шаги торопливые,Обернулся, глядит – сила крестная!Перед ним стоит молода жена, –Сама бледная, простоволосая,Косы русые расплетенные,Снегом инеем пересыпаны.– Что это значит? где ты разгуливала? – спрашивает муж.
Жена рассказывает ему, что опричник Кирибеевич, догнал ее, когда она шла от вечерни, и посереди улицы стал с нею бесчинничать, она оборонялась, оттого и прибежала растрепанная и оборванная.
Муж решился отомстить опричнику. На завтра он идет на кулачный бой на Москве реке. Приехал царь с дружиною, боярами и опричниками. Кирибеевич вышел первый на ристалище, и вызывает на бой. Является Калашников, они сцепились Калашников ударил Кирибеича в висок, тот повалился за мертво.
– За что ты убил моего любимого опричника? – спрашивает царь.
– Я убил его вольной волею,А за что, про что – не скажу тебе,Скажу только Богу единому.Прикажи меня казнить… –отвечал Калашников царю. Отвечает ему царь:
…ступай, детинушка,На высокое место лобноеСложи свою буйную головушку.Я топор велю наточить-навострить,Палача велю надеть-нарядить,В большой колокол прикажу звонить,Чтобы знали все люди московские,Что и ты не оставлен моею милостью…Как на площади народ сбирается,Заунывный гудит-воет колокол,Разглашает всюду весть недобрую.По высокому месту лобному,Во рубахе красной с яркой запонкой,С большим топором навостренныим,Руки голые потираючи,Палач весело похаживает,Удалого бойца дожидается.…………..И казнили Степана КалашниковаСмертью лютою, позорною;И головушка бесталаннаяВ крови на плаху покатилася!Такие страницы, сказал Сегюр, не достойны даже истории, не только поэзии. Но вы не виноваты: дух времени требует своих картин. Гении, которых вы изучали, которым, по порядку вещей, вы подражаете, сами предпочтительно воспевали подобные сцены кровавого, бурного молодечества. Говоря от души:
– о чем писать?
вы живо чувствовали, что подобные сюжеты недостойны поэзии, но в то же время чувствовали, что такая поэзия будет доступнее для современного поколения,
Чье грядущее – иль пусто, иль темно;для тех людей, которые
К добру и злу постыдно равнодушны,хотя все-таки предпочитают живописание картин зла. Вы чувствовали это все – и, по долгу подражателя и по праву каждого автора – желать, чтоб он «читался и нравился» современникам, – вы уступили непобедимой силе.
По этой же самой уступке вы написали: «Дума», «Русалка», где есть утопленник, «Не верь себе», «Еврейская мелодия», где есть «дикая песнь… я слез хочу… разорвется грудь от муки… кубок смерти, яда полный»; «Три пальмы», где караван срубил и сжег единственные три благодетельные пальмы, в песчаной пустыне закрывавшие колодец с водой; «Дары Терека», где есть два утопленника, «1-е января», «Казачья колыбельная песнь», где мать напевает будущему казаку про его будущий разгул и удальство. «Журналист, читатель и писатель», где все есть. «Воздушный корабль», где есть молодец из молодцов – Наполеон. – «И скучно и грустно», где все есть. «Ребенку», «Отчего». «Благодарность». «Из Гете». После всех этих песней во славу Я как отрадно прочесть следующее одинокое, как пальма в пустыне:
Когда волнуется желтеющая нива,И свежий лес шумит при звуке ветерка,И прячется в саду малиновая сливаПод тенью сладостной зеленого листка;Когда, росой обрызганный душистой,Румяным вечером иль утра в час златой,Из-под куста мне ландыш серебристыйПриветливо кивает головой;Когда студеный ключ играет по оврагуИ, погружая мысль в какой-то смутный сон,Лепечет мне таинственную сагуПро мирный край, откуда мчится он, –Тогда смиряется души моей тревога,Тогда расходятся морщины на челе, –И счастье я могу постигнуть на земле,И в небесах я вижу Бога.Скажите же, кто вам мешает усердною молитвою, вечною враждой и отвержением Я призвать навсегда в душу свою дух мира, счастье? Кто мешает всегда видеть в небесах Бога – и мирить своих собратий с Богом, с жизнию, с людьми? – Скажите, кто вам мешает следовать истинному призванию поэта: быть оракулом и благодетелем современников и благословением потомства? Вы сами видите, что можете, – почему же не хотите? Вы скажете, нельзя же писать картин все одним светом? – И я вам скажу, и невозможно: куда мы денемся с своим тенистым Я, оно вечно с нами. Нет, пишите не картину для теней, а тени для картины, сколько ей нужно. Перестаньте ребят удивлять ребячеством, которое вы же лучше всех оцениваете! Предоставьте эту честь дюжинным певцам, которым недостает сил разорвать паутинные оковы подражания.
Займемтесь теперь самым капитальным вашим произведением, поэмой «Мцыри»[9].
Вступление – очерк разрушенного грузинского монастыря – хорош; происшествие, случившееся некогда в этом монастыре, составило поэму.
Однажды русский генералИз гор к Тифлису подезжал;Ребенка пленного он вез.Тот занемог, не перенесТрудов далекого пути;Он был, казалось, лет шести;Как серна гор, пуглив и дикИ слаб и гибок, как тростник.Но в нем мучительный недугРазвил тогда могучий духЕго отцов.Надоел этот могучий дух! Воспевания о нем поэтов и мудрования о нем философов – удивительно жалки и приторны. Что такое могучий дух? – Это дикие движения дикой натуры человека, не вышедшего еще из состояния животного, в котором Я свирепствует необузданно.
Могучий дух в медведе, барсе, василиске, Ваньке Каине, Картуше, Робеспьере, Пугачеве, в диком горце, в Александре Македонском, в Цесаре, Наполеоне – один и тот же род: дикая, необузданная воля, естественная в звере, преступная в человеке, тем более преступная, чем он просвещеннее, – в человеке, которому на каждом шагу положен зарок и урок покорности, смирения! И если он добровольно не смиряется, так его смирят и выбьют-таки из него этот «могучий дух» Я.
В чем состоит истинная сила, истинная могучесть воли? В том, чтоб она была полный господин в своем царстве, чтоб она самодержавно управляла, по закону правды, своим я – своими слабостями, привычками, пороками, страстями, – управляла в полной зависимости от воли Божией, вполне нам известной. Вот истинная могучесть духа! То ли вы разумеете под этим словом? Нет, вы разумеете совсем противное: вы разумеете не подобие могущества человеческого могуществу Божию, а разумеете подобие могущества человеческого могуществу зверя. Между могуществами Божиим и зверским разность неизмеримая, и заблуждение ваших учителей и ваше – неизмеримое. Необузданность духа и могущество смиренного духа – вещи неизмеримо разные.
Знаю, вас восхищают картины и рассказы про молодечество, удалые подвиги, но восхищаться этим я, гордость и бессилие которого находит свою пищу и утешение в призраках могущества животной натуры, преобладающей над духом. Простительно было язычникам каждого удальца, сорви голову прославлять как полубога; они не могли понимать истинного величия, истинного назначения человека, истинной его могучести, так, как понимаем мы. Но не пора ли же нам смотреть на вещи повыше, по чище, повернее? А кому начинать, как не поэтам и мыслителям?
Вы мне упрекнете, что уничижая ваше могущество духа, и предлагая в замен его смирение духа, я убиваю тысячу великих дел, красу истории? Нет, господа, с историей надо еще порядком порасчитаться, и повыключить лишних «героев» из ее списков. Эта речь впереди. А теперь вместо ответа представлю вам истинных героев, явивших чудеса могущества в смирении духа. Ной, Авраам, Иосиф, Моисей, Навин, Давид, Макавеи. Посмотрите на могучий дух без численных мучеников христианства. Христиане первых веков составляли истинную силу легионов Римских. Покажу вам Владимиров, Александров Невских, покажу вам могучего смиренного Петра, смиренного Александра, победителя «могучего» Наполеона.
Воля очищенная, смиренная – всесильна в Боге: ей сама природа покорна! Убедитесь, господа, что истинная могучесть не состоит в необузданности Я, гарцующего на коне через рытвины и пропасти, где того и гляди – на славу сломит шею; не в погромке всего мира; а состоит – В ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Такой человек, где долг требует, не пощадит и жизни и всего, потому что он уже обладает жизнью вечною, и временная жизнь ему дорога лишь, как тоже исполнение долга; и вне этого долга – ни почем. Вот как Господь повелел нам разуметь могучесть духа. Извините, уж я скорее послушаюсь Бога чем вас!
Итак, умный автор, позвольте мне видеть в вашем пленном мальчике-горце не могучего духа, а дикого зверенка с необузданною волей. Зачем после вопроса – о чем писать! – выбрали вы этого зверенка в герои своей искусной поэмы? Сказать ли вам? – Затем, что этот характер представлял вам случай блеснуть своим мастерством писать ужасные, дикие, разительные картины свирепого молодечества во всех родах: и надо отдать вам справедливость, за какую картину (дикую) вы ни брались, вы их славно написали. Но все это лишь орнаменты, которые и вместе-то взятые составляют лишь коллекцию орнаментов, а не целое здание, даже не домик, не шалаш, в котором можно бы пожить душой. И весь-то герой ваш не больше как орнамент в диком вкусе. В приличном здании он был бы и хорош, у места. Но сам по себе, отбитый, он орнамент – и только! Поглядят, полюбуются, да и спросят: для чего же он? Будь вы, просто, скульптор, дело другое: вам заказан орнамент, вы его слепили – вашему искусству удивляются, любуются им. Но поэт не только скульптор, он, и прежде всего, зодчий, музыкант и живописец[10] – все вместе. О, тогда требования с вас становятся обширнее, и вы – безответнее. Вы написали, в полной уверенности что это пойдет за новое, оригинальное? – не так ли? Смею вас уверить, что со стороны формы и местности это не новое: – Кавказский пленник, Мулла Нур и Цыгане написаны прежде вас. Со стороны содержания эта статья избита как нельзя больше: – современная литература всея Европы, по бедности, только и пробивается, что на таких героях. Разберите сами хладнокровно и внимательно.
И так. Генерал вез в Тифлис пленного больного мальчика горца, в котором
Мучительный недугРазвил тогда могучий духЕго отцов. Без жалоб онТомился, даже слабый стонИз детских губ не вылетал,Он знаком пищу отвергалИ тихо, гордо умирал.Из жалости один монахБольного призрел, и в стенахХранительных остался онИскусством дружеским спасен.Но, чужд ребяческих утех,Сначала бегал он от всех,Бродил безмолвен, одинок,Смотрел вздыхая на восток,Томим неясною тоскойПо стороне своей родной.Но после к плену он привык,Стал понимать чужой язык.Был окрещен святым отцем,[11]И, с шумным светом незнаком,Уже хотел во цвете летИзречь монашеский обет,Как вдруг однажды он исчезОсенней ночью. Темный лесТянулся по горам кругом.Три дня все поиски по немНапрасны были; но потомЕго в степи без чувств нашлиИ вновь в обитель принесли.Вот содержание всей поэмы. Больной горец приведенный в чувство, но слабый и чуть дышущий – собрал остаток сил, и не переводя духу, проговорил 33 страницы стихов, да каких стихов! хоть бы и не горцу выражаться в таких отборных, нарядных, огненных, риторических, Виргилиевских стихах. Право, и сам бы Лермонтов, Пушкин, Бейрон, случись с ними подобное, не высказали бы лучше этого. Ну, точно как будто сам Лермонтов наперед написал те стихи на бумаге, а, горец, без церемонии прочел, по писанному, простился с монахом и тут же умер. Не подумайте, что он умер он болезни: о, горская натура живуча! Нет он умер именно от надсады – от стихов: 33 страницы! – где была ваша жалость, умный автор, к такому слабому больному, для которого и десяток стихов было бы впору.