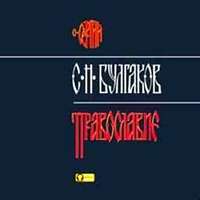полная версия
полная версияСвет невечерний. Созерцания и умозрения
II. Плотин (III в. по Р. X.)[296]
Плотин, глава неоплатонической школы, представляющий собой вершину метафизической спекуляции Греции, в основу своего сложного и далеко неясного в подробностях мировоззрения полагает учение об абсолютном Первоначале, которое чаще всего называет Единым (Εν), иногда Благом (Αγαθόν). Эта божественная Первооснова мира и бытия есть и общая субстанция мира, ибо все обосновывается в Едином, имеет в нем и причину, и цель, существует только его животворящей силой. Мир не создается актом творения, он происходит из Единого, как бы изливаясь из божественной полноты подобно свету из солнца; он есть эманация[297] божества, подчиненная «закону убывающего совершенства» (Целлер). Так как все представляет собой энергию Единого абсолютного лишь на разных ступенях совершенства, то по отношению к миру эта система, по справедливой характеристике Целлера[298], должна быть определена как «динамический пантеизм». В системе Плотина посредствующую роль между Единым и миром играет νους[299], образующий второе и не столь уже чистое единство – мышления и бытия, а непосредственным восприемником влияний νους служит Мировая Душа, имеющая высший и низший аспект, и она изливается уже в не имеющую подлинного бытия, мэоническую (μη δν) и потому злую материю. Единое – Ум – Мировая Душа составляют трехступенную градацию сущего (но эта трехступенность не есть триипостасность, как иногда ошибочно думают[300], смешивая неоплатонизм с христианством).
Единое у Плотина неизбежно получает двойственную характеристику: будучи первоосновой, имманентной всякому бытию, оно в то же время остается выше всякого бытия, как трансцендентное миру и простое Единое. Это единство имеет значение, конечно, не нумерического единства, определяющегося в противоположность множественности, но простого единства, вернее, сверхъединства и сверх-числа. Можно справедливо сомневаться в том, насколько трансцендентный лик Единого у Плотина соединим с всеобщим первоначалом, всему имманентным. В этом роковая двойственность динамического пантеизма, благодаря которой система Плотина расседается изнутри. Но нас интересует здесь не эта особенность мировоззрения Плотина, о которой нам еще предстоит речь впереди, а та характеристика Единого как трансцендентного, которая ставит Плотина в ряды представителей отрицательного богословия.
Приведем эту характеристику в словах самого Плотина (Enneadis VI, Lib. IX, 5–6): переход к безусловному единству, стоящему выше ума, является для Плотина непостижимым, как бы «чудом» (θαύμα το εν). «Это чудо есть единое, которое есть не существующее (μη öv), чтобы не получить определения от другого, ибо для него поистине не существует соответствующего имени; если же нужно его наименовать, обычно именуется Единым… оно трудно познаваемо, оно познается преимущественно чрез порождаемую им сущность (ουσία); ум ведет к сущности, и его природа такова, что она есть источник наилучшего и сила, породившая сущее, но пребывающая в себе и не уменьшающаяся и не сущая в происходящем от нее; по отношению к таковому мы по необходимости называем его единым, чтобы обозначить для себя неделимую его природу и желая привести к единству (ένοΰν) душу, но употребляем выражение: «единое и неделимое» не так, как мы говорим о символе и единице, ибо единица в этом смысле есть начало количества (ποσού άρχαί), какового не существовало бы, если бы вперед не существовала сущность и то, что предшествует сущности. Поэтому мы не должны устремлять свое размышление в эту сторону, но должны трактовать его по аналогии с простым, избегая отношения к множественности и делению».
«Как же говорим мы об едином? и как можно приспособить его к мысли? тем, что во все большей степени полагаем его единым, подобно тому как полагается единым (ένίζεται) единица или точка. Именно здесь душа, уменьшая количество и величину, постепенно останавливается на наименьшем и таким образом остается на чем-то таком, что хотя и неделимо, но было в делимом и существует в другом. И само единое не остается ни в другом, ни в делимом, ни неделимо как наименьшее. Оно является наибольшим другого не величиною, но силою (δυνάμει), так что и не имеющее величины существует силою, также и по нему существующее неделимо и нераздельно как сила, а не величина. Его нужно считать бесконечным не как неизмеримое величиной или числом, но как необъятное по силе. Ибо если ты станешь мыслить его как Бога или ум, то оно больше; если ты в своем мышлении приводишь его к единству, оно и в этом отношении более; оно более едино (το ένικώτερον), в отношении к твоему мышлению, чем ты можешь представлять себе самого Бога, ибо оно само по себе без всякой акциденции[301] (συμβεβηκότος). Но нельзя ли мыслить единое как таковое, в качестве самодовлеющего? Ибо оно должно быть прежде всего другого самодовлеющим, самоудовлетворенным, чуждым всякой потребности; все же многое и неединое имеет нужду, ибо произошло из многого. Таким образом, его существо требует единства, а это последнее его не требует, ибо есть оно само… Если нечто должно быть вполне самоудовлетворено, то оно должно быть единым, именно не испытывать нужды ни в отношении себя самого, ни в отношении другого. Ведь оно не ищет ничего, чтобы существовать или благополучно существовать или вообще иметь почву, ибо раз оно является основанием другого, то бытие свое и благосостояние оно имеет не от другого, – что могло бы иметь такое значение для него вне его самого? Отсюда благо (το ευ) для него не есть акциденция, это есть оно само. Оно не имеет места, ибо не нуждается в помещении, как будто бы не могло носить само себя; то, что должно быть поддерживаемо, не одушевлено и есть падающая масса, если она не имеет твердой опоры. Это есть основание, почему другое имеет твердую опору чрез него, достигая существования и получая место, на которое оно должно быть поставлено по ряду… Все то, что зовется нуждающимся в благе, нуждается и в поддерживающем, следовательно, единое не есть и благо. Поэтому оно ничего и не хочет, но есть сверхблаго (ύπεράγαθον) и благо не для самого себя, а для других вещей, если что-либо способно принять в нем участие. Оно и не мышление, поскольку чуждо изменения и движения, ибо оно выше движения и мышления. Что оно стало бы мыслить? самого себя? но тогда оно будет ранее мышления неведающим и нуждающимся в мышлении, для того чтобы познать самого себя, будучи в то же время самодовлеющим (αυτάρκης). Поэтому, хотя оно само не знает себя и не мыслит себя, не будет у него незнания; ибо незнание возникает при наличности другого, когда одно не знает другого. Единственное (μόνον) же не знает ничего и не имеет ничего, чего не знает, и так как единое есть в общении самого себя, то оно и не нуждается в мышлении самого себя. Ибо и общение (συνιέναι) не следует присоединять для понятия Единого, но и мышление и общение следует устранить так же, как мышление самого себя и другого, ибо не нужно полагать его как мыслящее, но как мышление. Мышление (νόησις) не мыслит, но есть причина мышления для другого; причина же нетожественна с причиненным, именно причина не есть что-либо из всего причиненного. Поэтому не надо и называть благим (αγαθόν) то, что оно представляет собой, но скорее самим благом (τάγαθόν), превыше разных благ».
Такими чертами изображается Единое в своей отрицательной характеристике. Но тут же звучит и основной мистический мотив этого учения. Плотин учит «умному деланию» (по выражению аскетов), показуя путь мистического постижения того, что столь бледными и схематическими чертами изображает философствующий разум. Этому посвящен, напр., конец 9‑й книги VI Эннеады. «Если ты колеблешься в своем мнении, что ничего из этого не существует, поставь самого себя в это (στήσον σαυτόν είς ταΰτα) и смотри отсюда; но смотри так, чтобы не направлять своей мысли наружу; ибо это не лежит уже где-либо, после того как ты освободишься от другого, но оно присуще тому, кто может его охватить, тому же, кто не может этого, не присуще (ου πάρεστιν). Как и в прочем невозможно мыслить что-либо, если думать о чуждом и заниматься другим, и ничего нельзя присоединять к предмету мысли, чтобы получился самый этот предмет, – так же следует поступать и здесь, ибо, имея представление другого в душе, нельзя этого мыслить вследствие действия представления, и душа, охваченная и связанная другим, не может получить впечатления от представления противоположного; но, как говорится о материи, она должна быть бескачественна, если должна воспринимать образы (τύπους) всех вещей, также и душа должна быть в еще большей степени бесформенна, раз в ней не должно быть препятствия для ее наполнения и просвещения высшей (της πρώτης) природой. Если это так, то должно, отвлекаясь от всего внешнего, обращаться преимущественно к внутреннему, не склоняясь ни к чему внешнему, и ничего не знать обо всем, а прежде всего о своем состоянии, затем и об идеях, ничего не знать о себе самом и таким образом погрузиться в созерцание (θέα) того, с чем делаешься единым. Затем, после достаточного общения, как бы возвращаешься, чтобы по возможности дать весть и другим о таковом общении; таковое общение имел, быть может, Минос, почему предание обозначает его как общника Зевса, в воспоминание он дал отображения этого в виде закона, от соприкосновения с Божеством вполне вооруженный для законодательства. Можно и не ценить политику ради нее самой и, при желании, оставаться вверху, что случается с теми именно, кто много видел. Таким образом Бог, – говорит Платон, – не далеко от каждого, но близок всем, помимо их ведома. Но они сами убегают (φεύγουσι) от него, точнее, они избегают самих себя. Они не могут поэтому овладеть тем, чего они избегают, и не могут искать ничего другого, ибо уничтожили сами себя. Ведь и дитя, вышедшее вне себя в безумии, не узнает своего отца; кто же научился узнавать самого себя, будет знать и откуда он». «Созерцающий не созерцает и не противопоставляет созерцаемое как другое, но словно сам становится другим и сам более уже не принадлежит себе, весь он принадлежит тому и становится едино с ним, соединенный с ним как центр к центру; и здесь сложные вещи составляют единое, а двойственность имеет место лишь в том случае, если они разделены, – в таком случае говорим мы о различенном. Потому такое созерцание и трудно описуемо. Как может кто-либо описывать нечто как другое, когда он то, что созерцал, видел не как другое, но как единое с самим собой? Это, очевидно, хочет сказать правило таких мистерий – ничего не сообщать непосвященным. Так как это не сообщимо, то и запрещалось открывать божественное тому, кому самому не дано было созерцать. Так как тогда было не два, но созерцающий и созерцаемое были едино, как будто это было не созерцаемое, но соединенное, то тот, кто, соединяясь с тем, становился единым с ним, вспоминая об этом, имеет в себе образ того. Но то было само единым, не имея никакого различия ни в себе, ни с другим, ибо ничто не двигалось в нем, никакая похоть (θυμός), никакое желание чего-либо иного не было по его восхождении (τω άναβεβηκοτι), так же, как никакое понятие, никакая мысль, вообще не он сам, если можно так выразиться. Но как бы восхищенный и в энтузиазме покоится он в уединении, никуда не склоняясь и даже не обращаясь вокруг себя, стоя твердо и как бы сделавширь неподвижностью (στάσις); и о прекрасном не думает он, находясь уже выше прекрасного, выше хора добродетелей, подобный человеку, который проник в самое внутреннее святилище и оставил позади себя в храме изображения богов, и, лишь выходя из святилища, впервые встречает их, после внутреннего созерцания и обращения с тем, что не есть ни образ, ни вид, но сама божественная сущность; образы же, следовательно, были бы предметами созерцания второго порядка. Но это в сущности не созерцание, но особый род видения, экстаз (εκστασις), опрощение (απλωσις) и отдача самого себя…
И сам тот становится при этом не сущностью, но выше (трансцендентным) сущности (έπέκεινα ουσίας), насколько он входит в общение с тем» (Епп IX 10–11).
Эту характеристику можно было бы восполнить и другими местами из «Эннеад» Плотина, но для нас довольно приведенного. Ясно, что Единое остается трансцендентным раздельному, дискурсивному сознанию: оно έπέκεινα[302] знанию, добру, красоте, добродетели, оно чуждо всяких предикатов, ибо они являются следствием различения, свойствами «другого», а Единое стоит по ту сторону всяких различений. К переживанию его, соединению с ним душа поднимается в экстазе, когда, видя божественный свет, изливается в божество как капля в море. По словам Порфирия, биографа Плотина, в течение их совместной жизни, продолжавшейся 6 лет, Плотин пережил такое состояние 4 раза, причем всякий раз оно достигалось без всякого напряжения сил, «неописуемым актом». Плотин знал по опыту то, о чем говорил[303].
III. Филон Александрийский (I век)[304]
Филон Александрийский, согласно характеристике одного из лучших его исследователей, проф. Муретова[305], соединяет в своем богословствовании тенденции эллинского философского пантеизма и панлогизма и иудейско-раввинского понимания Божества как трансцендентного миру. В силу последней тенденции Филон и оказывается представителем отрицательного богословия в довольно решительной форме[306].
«Всякая качественная определенность вносила бы ограничение в Божество, и поэтому Филон называет Бога το αποιον – бескачественным[307], чистым и не имеющим никакого определенного признака бытием (ψιλήν άνευ χαρακτήρας ϋπαρξι ν)[308]; Божеству, говорит Филон, невозможно приписать никаких свойств, ибо оно, будучи нерожденным и само приведшим все в бытие, не имеет нужды ни в чем, что свойственно существам тварным и конечным» (Муретов. Учение о Логосе, 110–111).
«Как ψιλή άνευ χαρακτήρας δπαρξις, Бог не может быть мыслим ни безусловным благом и любовью, ни абсолютной красотою, ни совершеннейшим разумом; по своему существу Бог выше всех этих атрибутов личного бытия, – лучше, чем само благо и любовь, совершеннее, чем сама добродетель, прекраснее, чем сама красота; его нельзя назвать и разумом в собственном смысле, ибо он выше всякой разумной природы (οίμείνων ή λογική φύσις); он не есть даже и монада в строгом смысле, но чище, чем сама монада, и проще, чем сама простота[309]; его нельзя, наконец, назвать и жизнью, он больше и выше, чем жизнь, он есть вечный и неиссякаемый источник жизни»[310].
В связи с этим стоит учение Филона о совершенной непознаваемости и безыменности Божества, которое Филон называет άκατάληπτον, οίπερινόητον, · απερίγραφον, αρ'ρητον, άκατονόμαστον[311] и под. «Не думаю, – говорит Филон, – чтобы Сущее, каково оно есть в своем существе, могло быть познано каким-либо человеком. Как наш ум неизвестен нам, так и Сущее недоступно познанию людей… Посему и собственного имени ему дать невозможно никакого»[312].
Установив полную бескачественность Божества, Филон оставляет, однако, за ним самое общее определение, именно бытие. «Бог недоступен нашему познанию, разве только по бытию (κατά του είναι); ибо одно только существование (ΰπαρξις), вот то, что мы знаем* о нем, кроме же существования – ничего»[313]. «Человек может знать о Боге не то, каков он есть, но только, что он есть (ουκ οϊός εστί αλλ' δτι εστί)»[314] (см. Муретов, цит. соч., 113–115).
Эта филоновская идея, получившая большое распространение и в христианском богословии, является в известном смысле чистейшим недоразумением: если отрицательное богословие ничего не может утверждать о Боге, то, ясным образом, не может утверждать и Его бытия.
IV. Идеи отрицательного богословия в Александрийской школе[315] христианского богословия (III век по Р. Хр.)
а) Климент Александрийский
Знаменитый основатель Александрийской школы, воспитанный на эллинизме и поднявший столь высоко авторитет эллинской философии в церковном сознании, вполне воспринял учение о непознаваемости Божества разумом. Развитию этой идеи посвящена глава 12 книги пятой «Стромат»[316], начинающаяся словами Платона: «Бог не может быть разумом постигнут, и словами понятие о нем не может быть выражено». Здесь, ссылаясь на классические авторитеты: Платона, Орфея, Солона, Эмпедокла, а также и на тексты свящ. писания, Климент выясняет, что «вопрос о Боге соединен с затруднениями». «В самом деле, каким именем назвать Того, который не рожден, не имеет ни различий в себе, ни вида определенного, ни индивидуальности, ни числа, но есть существо такое, которое никаких акциденций в себе не имеет, а равным образом и акциденциальному ничему не подлежит? Скажете ли вы, что Бог есть целое? Определение несовершенное, потому что целое собой представляет количество все-таки соизмеримое, а Бог есть Отец вообще всего существующего. Захотите ли вы наделить Его разными частями? Но этого вы не в состоянии сделать, ибо в существе своем сие Единое неделимо. Вот почему Бог беспределен, бесконечен вовсе не в том смысле, как нам представляется это, – как если бы мы не могли Его обнять своей мыслью, – а в том, что Бог и не подлежит измерению и нет пределов, границ в Его существе. Нет также в Нем и форм, а равно не может Он быть и наименован. А если иногда мы и именуем Его такими выражениями, как Единый, Благий, Дух, Сущий, Отец, Бог, Творец, Господь, мы употребляем их не в качестве Его имени. Мы прибегаем к помощи этих прекрасных слов лишь вследствие затруднительного положения (απορίας), дабы остеречься от других наименований, коими мог бы быть унижен Вечный. Ни одно из этих речений, взятое в отдельности, не дает понятия о Боге; все же вместе сказывают о Нем как о Вседержителе. Вещи познаются или по их собственной природе, или по взаимным отношениям их между собою; к Богу же ничто из этого неприменимо. Не может быть Он также открыт и доказательствами, потому что они основываются на началах предшествующих и понятиях высших, но ничто не может существовать ранее Существа несотворенного. Для постижения Существа неисследимого ничего не остается, следовательно, кроме собственной Его благодати и откровения Его чрез посредство пребывающего в Его недрах Логоса»[317]. Таким образом, признание непознаваемости Божества приводит Климента Александрийского к утверждению откровения как единственного источника положительного знания о Божестве.
б) Ориген
В учении Оригена идеям отрицательного богословия принадлежит свое определенное место, причем нельзя не видеть близости его в этом отношении к Плотину. В книге первой сочинения «О началах», содержащей общее учение о Боге, резко утверждается Его трансцендентность и непостижимость. «Опровергши, по возможности, всякую мысль о телесности Бога, мы утверждаем, сообразно с истиной, что Бог непостижим (mcompehensibilis) и неоценим (inaestimabilis).
Даже и в том случае, если бы мы получили возможность знать или понимать что-либо о Боге, мы все равно, по необходимости, должны верить, что Он несравненно лучше того, что мы узнали о Нем. В самом деле, если бы мы увидели человека, который едва только может видеть искру света или свет самой короткой свечи, и если бы этому человеку мы захотели дать понятие о ясности и блеске солнца, то, без сомнения, мы должны были бы сказать ему, что блеск солнца несказанно и несравненно лучше и прекраснее всякого света, видимого им. Так и наш ум. Хотя он и считается гораздо выше телесной природы, однако, стремясь к бестелесному и углубляясь в созерцание его, он едва равняется какой-либо искре или свече, – и это до тех пор, пока он заключен в узы плоти и крови и, вследствие участия в такой материи, остается относительно неподвижным и тупым. А между всеми духовными (intellectualibus), т. е. бестелесными, существами какое же существо столь невыразимо и несравнимо превосходит все прочие, как не Бог? Действительно, природу его не может созерцать и постигать сила человеческого ума, хотя бы это был чистейший и светлейший ум»[318]. «Нет такой природы (по свидетельству ап. Иоанна), для которой Бог был бы видим[319]; апостол не говорит, что Бог, будучи видим по своей природе, недоступен только зрению слабейшей твари, но что, по самой своей природе, Он не может быть видим»[320]. «Наш ум своими силами (per se ipsam) не может созерцать Самого Бога, как Он есть, но познает Отца всех тварей из красоты дел и великолепия вселенной. Итак, Бога не должно считать каким-либо телом или пребывающим в теле, но простою духовною природой (intellectualis natura), не допускающей в себе никакой сложности. Он не имеет в себе ничего большего или низшего, но есть – с какой угодно стороны – μονάς и, так сказать, ένας[321]… сложностью до некоторой степени ограничивалась бы и нарушалась бы простота божественной природы»[322]. Одним словом, «Бог выше всего мыслимого» (έπέκεινα των νοητών)[323].
V. Отцы церкви: св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский (IV век)
Отцы церкви (т. наз. каппадокийцы)[324] выражают собой, так сказать, среднюю линию богословского мышления по вопросу о постижимости и непостижимости Божией. Не подвергая вопроса философскому углублению и рассматривая его преимущественно со стороны религиозно-практической, они считают как бы саму собою разумеющеюся идею отрицательного богословия. Св. Василий Великий развивает свои взгляды на этот вопрос в полемике с Евномием, утверждавшим полную познаваемость сущности Божества в понятиях или, как они обычно выражаются в этом споре, в именах Божиих, соответствующих этим понятиям[325]. Таким определением сущности Божией Евномий считает наименование οίγεννεσία, нерожденность, применяя его только к первой ипостаси (отсюда арианские выводы Евномия относительно второй ипостаси, как не имеющей этого свойства). Споря с учением Евномия, св. Василий В. выставляет общее положение, что «нет ни одного имени, которое, объяв все естество Божие, достаточно было бы его выразить… Из имен, сказуемых о Боге, одни показывают, что в Боге есть, а другие, напротив, чего в Нем нет. Ибо сими двумя способами, то есть отрицанием того, чего нет, и исповеданием того, что есть, образуется в нас как бы некоторое отпечатание Бога». «Сущность Божия для природы человеческой недомыслима и совершенно неизреченна»[326]. «Какая же гордость и надменность думать, что найдена самая сущность Бога всяческих!» «Постижение сущности Божией выше не только человеков, но и всякой разумной природы». «Самая сущность никому неудобозрима, кроме Единородного и Духа Св., а мы, возводимые делами Божиими и из творений уразумевая Творца, приобретаем познание о Его благости и сущности»[327]. Отвечая (в письме к Амфилохию) на ухищренный вопрос аномеев[328]: «чему поклоняешься – тому ли, что знаешь, или тому, чего не знаешь?» – св. Василий Великий говорит: «Кто утверждает, что не знает сущности, тот еще не признается, что не знает Бога… Мы утверждаем, что познаем Бога нашего действованием, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо, хотя действования Его и до нас нисходят, однако же сущность Его остается неприступной»[329]. «Я знаю, что Бог есть. Но что такое есть сущность Его, поставляю сие выше разумения. Поелику как спастись? чрез веру. А вера довольствуется знанием, яко есть Бог… Следовательно, сознание непостижимости Божией есть познание Божией сущности, и поклоняемся достигнутому не в том отношении, какая это сущность, но в том, что есть сия сущность»[330].
Евномий не согласился, однако, с толкованием отрицательных имен Божиих у св. Василия В. и, не без некоторого основания, возражал: «Я не знаю, как чрез отрицание того, что не свойственно Богу, Он будет превосходить творения!.. Всякому разумному существу должно быть ясно, что одно существо не может превосходить другое тем, чего оно не имеет»[331]. Вопрос о значении отрицательного богословия в его отношении к положительному так и остался у св. Василия мало разъясненным.
Св. Григорий Богослов в «слове о богословии» 2‑м говорит: «Я шел с тем, чтобы постигнуть Бога; с этой мыслью, отрешившись от вещества и вещественного, собравшись, сколько мог, сам в себя, восходил я на гору. Но когда простер взор, едва увидел задняя Божия (Исх. 33:22-3) и то покрытый Камнем (I Кор. 10:4), то есть воплотившимся ради нас Словом. И приникнув несколько, созерцаю не первое и чистое естество, познаваемое Им самим, то есть самою Троицею, созерцаю не то, что пребывает внутрь первой завесы и закрывается херувимами, но одно крайнее и к нам простирающееся. А это, насколько знаю, есть то величие, или, как называет божественный Давид, то великолепие (Псал. 8:2), которое видимо в тварях, Богом и созданных и управляемых. Ибо все то есть задняя Божия, что после Бога доставляет нам познание о Нем, подобно тому как отражение и изображение солнца в водах показывает солнце слабым взорам, которые не могут смотреть на него, потому что живость света поражает чувство… «Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно» – так любомудрствовал один из эллинских богословов (Платон в «Тимее»)… «Но как я рассуждаю, изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно. Ибо что постигнуто разумом, то имеющему не вовсе поврежденный слух и тупой ум объяснит, может быть, и слово, если не вполне достаточно, то, по крайней мере, слабо. Но обнять мыслью столь великий предмет совершенно не имеют ни сил, ни средств не только люди оцепеневшие и преклоненные долу, но даже весьма возвышенные и боголюбивые, равно как и всякое рожденное естество, для которого этот мрак – эта грубая плоть служит препятствием к уразумению истины. Не знаю, возможно ли сие природам высшим и духовным, которые, будучи ближе к Богу и озаряясь всецелым светом, может быть, видят Его, если не вполне, то совершеннее и определеннее нас и притом, по мере своего чина, одни других больше и меньше»»[332].