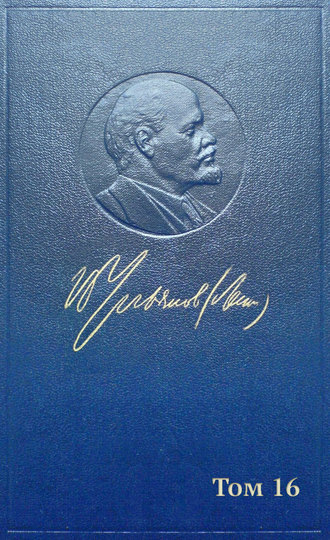 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908
Возможно устранение крепостничества путем медленного перерастания крепостнически-помещичьих хозяйств в юнкерски-буржуазные хозяйства, превращения массы крестьян в бобылей и кнехтов, насильственного удержания нищенского уровня жизни массы, выделение небольших горсток гроссбауэров, буржуазных крупных крестьян, создаваемых неминуемо капитализмом в крестьянской среде. Черносотенные помещики и их министр Столыпин встали именно на этот путь. Они поняли, что без насильственной ломки заржавевших средневековых форм землевладения нельзя очистить дороги для развития России. И они смело пошли на эту ломку в интересах помещиков. Они выкинули за борт недавно еще распространенную в бюрократии и среди помещиков симпатию к полуфеодальной общине. Они обошли все «конституционные» законы, чтобы разорвать ее насильственно. Они дали carte blanche[132] кулакам грабить крестьянскую массу, ломать старое землевладение, разорять тысячи хозяйств; они отдали средневековую деревню на «поток и разграбление» владельцу рубля. Они не могут поступать иначе в интересах сохранения своего господства, как класса, ибо они сознали необходимость приспособиться к капиталистическому развитию, а не бороться с ним. А для сохранения своего господства им не с кем соединиться, как с «чумазым», с Разуваевым и Колупаевым против крестьянской массы. У них нет иного выхода, как крикнуть клич этим Колупаевым: enrichissez-vous! обогащайтесь! Мы дадим возможность вам нажить сотню рублей на рубль, помогите нам спасти основу нашей власти при новых условиях! Такой путь развития требует для своего осуществления сплошного, систематического, необузданного насилия над крестьянской массой и над пролетариатом. И помещичья контрреволюция спешит по всей линии организовать это насилие.
Другой путь развития мы назвали американским путем развития капитализма, в отличие от первого, прусского. Он требует тоже насильственной ломки старого землевладения – о возможности безболезненного, мирного исхода невероятно обострившегося кризиса в России могут мечтать только тупые мещане русского либерализма.
Но эта необходимая и неизбежная ломка возможна в интересах крестьянской массы, а не помещичьей шайки. Основой развития капитализма может стать свободная масса фермеров без всякого помещичьего хозяйства, ибо это хозяйство в целом экономически реакционно, а элементы фермерства созданы в крестьянстве предшествующей хозяйственной историей страны. При таком пути развития капитализма оно должно идти неизмеримо шире, свободнее, быстрее, вследствие громадного роста внутреннего рынка, подъема жизненного уровня, энергии, инициативы и культуры всего населения. И гигантский колонизационный фонд России, утилизация которого бесконечно затруднена крепостническим угнетением крестьянской массы в коренной России, а также крепостнически-чиновничьим отношением к земельной политике, – этот фонд обеспечивает экономическую основу для громадного расширения земледелия и повышения производства не только вглубь, но и вширь.
Такой путь развития требует не только уничтожения помещичьего землевладения. Ибо господство крепостников-помещиков наложило свою печать в течение веков на все землевладение страны, и на крестьянские надельные земли, и на землевладение переселенцев на сравнительно свободных окраинах: вся переселенческая политика самодержавия насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого чиновничества, мешавшего свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического бюрократизма центральной России окраинную Россию[133]. Средневековым является в России не только помещичье, но и крестьянское надельное землевладение. Оно невероятно запутано. Оно раздробляет крестьян на тысячи мелких делений, средневековых разрядов, сословных категорий. Оно отражает на себе вековую историю беспардонного вмешательства в крестьянские поземельные отношения и центральной власти и местных властей. Оно загоняет крестьян, точно в гетто, в мелкие средневековые союзы фискального, тяглового характера, союзы по владению надельной землей, т. е. общины. И экономическое развитие России фактически вырывает крестьянство из этой средневековой обстановки, – с одной стороны, порождая сдачу наделов и забрасывание их, с другой стороны, созидая хозяйство будущих свободных фермеров (или будущих гроссбауэров юнкерской России) из кусочков самого различного землевладения, надельного собственного, надельного арендованного, купчего собственного, помещичьего арендованного, казенного арендованного и т. д.
Для того, чтобы построить действительно свободное фермерское хозяйство в России, необходимо «разгородить» все земли, и помещичьи, и надельные. Необходимо разбить все средневековое землевладение, сравнять все и всяческие земли перед свободными хозяевами на свободной земле. Необходимо облегчить в максимальной возможной степени обмен земель, расселение, округление участков, создание свободных новых товариществ на место заржавевшей тягловой общины. Необходимо «очистить» всю землю от всего средневекового хлама.
Выражением этой экономической необходимости является национализация земли, отмена частной собственности на землю, передача всех земель в собственность государства, как полный разрыв с крепостническими распорядками в деревне. Именно эта экономическая необходимость и сделала из крестьянской массы в России сторонников национализации земли. Мелкие собственники-земледельцы в массе высказались за национализацию и на съездах Крестьянского союза в 1905 году, и в первой Думе в 1906 году, и во второй Думе в 1907 году, т. е. на протяжении всего первого периода революции. Они высказались так не потому, что «община» заложила в них особые «зачатки», особые, не буржуазные «трудовые начала». Они высказались так потому, наоборот, что жизнь требовала от них освобождения от средневековой общины и от средневекового надельного землевладения. Они высказались так не потому, чтобы они хотели или могли строить социалистическое земледелие, а потому, что они хотели и хотят, могли и могут построить действительно буржуазное, т. е. в максимальной степени свободное от всех крепостнических традиций мелкое земледелие.
Таким образом, не случайность и не влияние тех или иных доктрин (как думают близорукие люди) вызвали оригинальное отношение борющихся в русской революции классов к вопросу о частной собственности на землю. Эта оригинальность вполне объясняется условиями развития капитализма в России и требованиями капитализма в данный момент этого развития. Все черносотенные помещики, вся контрреволюционная буржуазия (и октябристы и кадеты в том числе) встали на сторону частной собственности на землю. Все крестьянство и весь пролетариат – против частной собственности на землю. Реформаторский путь создания юнкерски-буржуазной России необходимо предполагает сохранение основ старого землевладения и медленное, мучительное для массы населения, приспособление их к капитализму. Революционный путь действительного свержения старого порядка неизбежно требует, как своей экономической основы, уничтожения всех старых форм землевладения вместе со всеми старыми политическими учреждениями России. Опыт первого периода русской революции окончательно доказал, что победоносной она может быть только как крестьянская аграрная революция и что эта последняя не может выполнить целиком своей исторической миссии без национализации земли.
Конечно, социал-демократия, как партия международного пролетариата, партия, ставящая себе всемирно-социалистические цели, не может сливать себя ни с какой эпохой никакой буржуазной революции, не может связывать своей судьбы с тем или иным исходом той или иной буржуазной революции. При всех и всяких исходах мы должны остаться самостоятельной, чисто пролетарской партией, выдержанно ведущей трудящиеся массы к их великой социалистической цели. Мы не можем поэтому брать на себя никаких гарантий за прочность каких бы то ни было завоеваний буржуазной революции, ибо непрочность, внутренняя противоречивость всех ее завоеваний имманентно присуща буржуазной революции, как таковой. Только плодом недомыслия может явиться «выдумывание» «гарантий от реставрации». Наша задача одна: сплачивая пролетариат для социалистической революции, поддерживать всякую борьбу со старым порядком в возможно более решительной форме, отстаивать наилучшие возможные условия для пролетариата в развивающемся буржуазном обществе. А отсюда неизбежно вытекает, что нашей с.-д. программой в русской буржуазной революции может быть только национализация земли. Как и всякую другую часть нашей программы, мы должны поставить ее в связь с определенными формами и определенной ступенью политических преобразований, ибо размах политического и аграрного переворота не может не быть однороден. Как и всякую другую часть нашей программы, мы должны строго отделить ее от мелкобуржуазных иллюзий, от интеллигентски-чиновничьей болтовни о «нормах», от реакционной словесности насчет закрепления общины или уравнительного землепользования. Интересы пролетариата требуют не выдумки особого лозунга, особого «плана» или «системы» для того или иного буржуазного переворота, а только последовательного выражения его объективных условий и очищения этих объективных, экономически-непреодолимых условий от иллюзий и утопий. Национализация земли есть не только единственный способ полной ликвидации средневековья в земледелии, но и лучший мыслимый при капитализме способ земельных распорядков.
Троякого рода обстоятельства отклонили временно русских с.-д. от этой правильной аграрной программы. Во-1-х, инициатор «муниципализации» в России, П. Маслов «исправил» теорию Маркса, отверг теорию абсолютной ренты, подновил полусгнившие буржуазные учения насчет закона убывающего плодородия, связи его с теорией ренты и проч. Отрицание абсолютной ренты есть отрицание всякого экономического значения при капитализме частной собственности на землю, и, следовательно, оно неизбежно вело к извращению марксистских взглядов на национализацию. Во-2-х, русские с.-д., не увидав перед собой воочию начала крестьянской революции, не могли не относиться осторожно к ее возможности, ибо возможность победы ее требует действительно ряда особо благоприятных условий и особо благоприятного размаха революционной сознательности, энергии и инициативы масс. Не имея перед собой опыта, считая невозможным выдумыванье буржуазных движений, русские марксисты, естественно, не могли до революции выставить правильной аграрной программы. Они делали, однако, при этом ту ошибку, что и после начала революции, вместо приложения теории Маркса к оригинальным условиям России (наша теория не догма, – всегда учили Маркс и Энгельс, – а руководство для действия){113}, вместо этого некритически повторяли выводы из приложения теории Маркса к чужим условиям, к иной эпохе. Немецкие с.-д., например, совершенно естественно отказались от всех старых программ Маркса с требованием национализации земли, ибо Германия окончательно сложилась, как юнкерски-буржуазная страна, все движения на почве буржуазного строя отжили в ней свое время бесповоротно, никакого народного движения в пользу национализации нет и быть не может. Преобладание юнкерски-буржуазных элементов превратило на деле национализаторские планы в игрушку или даже в орудие ограбления масс юнкерами. Немцы правы, отказываясь и разговаривать о национализации, но переносить этот вывод на Россию (как делают в сущности те из наших меньшевиков, которые не замечают связи муниципализации с масловским исправлением теории Маркса) значит – не уметь думать над задачами конкретных с.-д. партий в особые периоды их исторического развития.
В-3-х, на муниципализаторской программе явственно сказалась вся ошибочная тактическая линия меньшевизма в русской буржуазной революции: непонимание того, что только «союз пролетариата и крестьянства»[134] может обеспечить победу ее. Непонимание руководящей роли пролетариата в буржуазной революции, стремление поставить его в сторонке, приспособить к половинчатому исходу революции, превратить из вождя в пособника (а на деле в чернорабочего и слугу) либеральной буржуазии. «Не увлекаясь, приспособляясь, тише вперед, рабочий народ» – эти слова Нарцисса Тупорылова{114} против «экономистов» (= первых оппортунистов в РСДР Партии) вполне выражают дух теперешней нашей аграрной программы.
Борьба с «увлечением» мелкобуржуазного социализма должна вести не к понижению, а к повышению размаха революции и ее задач, определяемых пролетариатом. Не «областничество» должны мы поощрять, как бы сильно оно ни было среди отсталых слоев мелкой буржуазии или привилегированного крестьянства (казаки), – не обособленность разных народностей, – нет, мы должны выяснять крестьянству значение единства для победы, ставить лозунг, расширяющий движение, а не суживающий его, возлагающий ответственность за неполноту буржуазной революции на отсталость буржуазии, а не на недомыслие пролетариата. Не к «местному» демократизму должны мы «приспособлять» свою программу, не выдумывать нелепого и невозможного при недемократической центральной власти «муниципального социализма» в деревне, не подлаживать мещански-социалистическое реформаторство к буржуазной революции, а сосредоточивать внимание масс на действительных условиях ее победы, как буржуазной революции, на необходимости для этого не одного местного, а непременно «центрального» демократизма, т. е. демократизма центральной государственной власти, – и не только демократизма вообще, а непременно самых полных, самых высших форм демократизма, ибо без них именно становится утопичной в научном значении слова крестьянская аграрная революция в России.

Последняя страница рукописи В. И. Ленина «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905–1907 годов». Ноябрь – декабрь 1907 г. (Уменьшено)
И пусть не думают, что как раз данный исторический момент, когда воют и ревут черносотенные зубры в третьей Думе, когда разгул контрреволюции дошел до nec plus ultra[135], когда реакция вершит свой дикий акт политической мести над революционерами вообще, а с.-д. депутатами II Думы в частности, – пусть не думают, что этот момент «не подходит» для «широких» аграрных программ. Такая мысль была бы сродни тому ренегатству, унынию, распаду и декадентству, которые охватили широкие слои мещанской интеллигенции, входящей в с.-д. партию или примыкающей к этой партии в России. Пролетариат только выиграет, если этот сор будет выметен почище из рабочей партии. Нет, чем больше свирепствует реакция, тем больше в сущности задерживает она неизбежное экономическое развитие, тем успешнее готовит более широкий подъем демократического движения. И периодами временного затишья в массовом действии мы должны воспользоваться, чтобы критически изучить опыт великой революции, проверить его, очистить от шлаков, передать его массам как руководство для грядущей борьбы.
Ноябрь – декабрь 1907 г.
Послесловие{115}
Настоящая работа написана в конце 1907 года. В 1908 году она была напечатана в Питере, но царская цензура захватила и уничтожила ее. Уцелел всего один экземпляр, в котором недостает конца (после 269-ой страницы данного издания), так что этот конец приписан теперь.
В настоящее время революция поставила аграрный вопрос в России неизмеримо шире, глубже и острее, чем в 1905–1907 годах. Ознакомление с историей нашей партийной программы в первой революции поможет, я надеюсь, правильнее разобраться в задачах теперешней революции.
Особенно надо подчеркнуть следующее. Война причинила такие неслыханные бедствия воюющим странам, а в то же время она так гигантски ускорила развитие капитализма, превращая монополистический капитализм в государственно-монополистический, что ни пролетариат, ни революционная мелкобуржуазная демократия не могут ограничиваться рамками капитализма.
Жизнь уже пошла дальше этих рамок, поставив на очередь дня регулирование производства и распределения в общегосударственном масштабе, всеобщую трудовую повинность, принудительное синдицирование (объединение в союзы) и т. д.
При таком положении дела и национализация земли в аграрной программе неизбежно приобретает иную постановку. Именно: национализация земли есть не только «последнее слово» буржуазной революции, но и шаг к социализму. Нельзя бороться с бедствиями войны, не делая таких шагов.
Пролетариат, руководя беднейшим крестьянством, вынужден, с одной стороны, переносить центр тяжести с Советов крестьянских депутатов на Советы депутатов от сельских рабочих, а, с другой стороны, требовать национализации инвентаря помещичьих имений, а равно образования из них образцовых хозяйств под контролем этих последних Советов.
Подробнее останавливаться здесь на этих важнейших вопросах я, конечно, не могу и должен отослать интересующегося читателя к текущей большевистской литературе и к моим брошюрам: «Письма о тактике»[136] и «Задачи пролетариата в нашей революции (проект платформы пролетарской партии)»[137].
28 сентября 1917 г.
Автор1908 г.
Политические заметки
Шовинисты работают. Усиленно распространяются слухи о вооружениях японцев, о том, что они сконцентрировали 600 батальонов в Маньчжурии для нападения на Россию. Турция, будто бы, деятельно вооружается для объявления этой же весной войны России. Готовится, дескать, восстание на Кавказе с целью отделения от России (недоставало еще, чтобы закричали о планах поляков!). Травля Финляндии подогревается россказнями о ее вооружении. Ведется ожесточенная кампания против Австрии по поводу постройки железной дороги в Боснии. Усиливаются нападки российской печати на Германию, которая будто бы натравливает Турцию на Россию. Кампания ведется не только в русской, но и во французской печати – о подкупе которой российским правительством так кстати напомнил недавно один социал-демократ в Думе.
Серьезная буржуазная пресса Запада отказывается признать всю эту кампанию за порождение фантазии газетчиков или аферу гоняющихся за сенсацией людей. Нет, очевидно, из «правящих кругов» – читай: от черносотенного царского правительства или от тайной придворной шайки вроде пресловутой «звездной палаты» – исходит вполне определенный пароль, ведется какая-то систематическая «линия», взят какой-то «новый курс». Закрытие думской комиссии по государственной обороне от всех невходящих в нее членов Думы, т. е. не только от революционных партий, но и от кадетов, заграничная печать ставит в прямую связь с этой шовинистской кампанией; говорят даже, что русское правительство, чтобы окончательно довершить свою издевку над «конституционализмом», намерено испрашивать не у всей Думы, а только у черносотенно-октябристской комиссии кредиты на пограничные военные подкрепления.
Вот некоторые цитаты из европейских, отнюдь не социалистических, газет, которые не могут быть заподозрены в оптимизме насчет русской революции:
«Немецкие победы над Францией (в 1870 году) разожгли, как заметил однажды Бисмарк, честолюбие русских военных, и они тоже протянули руку за военными лаврами. По причинам политическим, религиозным и историческим Турция казалась особенно пригодным объектом для этой цели (война с Турцией 1877–1878 гг.). Очевидно, того же взгляда держатся и теперь известные круги в России, забывшие уроки японской войны и не понимающие истинных нужд страны. Так как на Балканах не приходится уже освобождать никаких «братушек», то приходится придумать другие средства, чтобы повлиять на русское общественное мнение. И средства эти, надо сказать правду, еще более аляповатые, чем тогдашние: Россию хотят представить окруженной внутренними и внешними врагами».
«Правящие круги России хотят попытаться укрепить свое положение старыми средствами, именно: насильственным подавлением освободительного движения внутри и отвлечением народного внимания от печального внутреннего положения посредством пробуждения чувств национализма, посредством создания дипломатических конфликтов, которые неизвестно чем могут кончиться».
Каково же значение этой новой шовинистской линии в политике контрреволюционного самодержавия? На такую политику, после Цусимы и Мукдена, могут бросаться только люди, у которых окончательно уходит почва из-под ног. Опыт двухлетней реакции не дал, несмотря на все усилия, никакой сколько-нибудь надежной внутренней опоры черносотенному самодержавию, не создал никаких новых классовых элементов, способных экономически обновить самодержавие. А без этого никакие зверства, никакое бешенство контрреволюции не в силах удержать современный политический строй России.
И Столыпин, и черносотенные помещики, и октябристы понимают, что без создания новых классовых опор удержаться им у власти нельзя. Отсюда – их политика разорения крестьян дотла, насильственного слома общины для расчистки пути капитализму в земледелии во что бы то ни стало. Российские либералы, самые ученые, самые образованные, самые «гуманные» – вроде профессоров из «Русских Ведомостей» – оказываются в этом отношении несравненно тупее Столыпиных. «Не будет ничего удивительного, – пишет передовик названной газеты 1 февраля, – если при решении, например, судьбы временных ноябрьских правил вчерашние общинники-славянофилы поддержат попытку министерства разрушить общину посредством укрепления земли в личную собственность отдельных домохозяев… Можно даже думать, что оборонительные цели, общие консервативному большинству Думы и министерству, подскажут и ей и ему даже более агрессивные меры, нежели знаменитые указы 1906 года… Картина получается поразительная: консервативное правительство при содействии представителей консервативных партий готовит радикальную реформу в области поземельных отношений, всего менее поддающихся крутым переворотам, решаясь на такую радикальную меру из-за отвлеченных соображений о предпочтительности одной формы владения перед другою».
Проснитесь, господин профессор, – стряхните с себя архивную пыль стародедовского народничества, – взгляните на то, что сделали два года революции. Столыпин победил вас не только физической силой, но и тем, что правильно понял самую практическую нужду экономического развития, насильственную ломку старого землевладения. Великий «сдвиг», уже бесповоротно совершенный революцией, состоит в том, что черносотенное самодержавие раньше могло опираться на средневековые формы землевладения, а теперь вынуждено, всецело и бесповоротно вынуждено с лихорадочной быстротой работать над их разрушением. Ибо оно поняло, что без ломки старых земельных порядков не может быть выхода из того противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию: самое отсталое землевладение, самая дикая деревня – самый передовой промышленный и финансовый капитализм!
Значит, вы за столыпинское земельное законодательство? с ужасом спросят нас народники. – О нет! успокойтесь! Мы безусловно против всех форм старого землевладения в России, и помещичьего и крестьянского надельного. Мы безусловно за насильственную ломку этой гнилой, гниющей и отравляющей все новое старины, – мы за буржуазную национализацию земли, как единственный последовательный лозунг буржуазной революции, как единственную практичную меру, которая направляет все острие исторически-необходимой ломки против помещиков, помогая среди крестьянской массы выделиться свободным хозяевам на земле.
Особенность русской буржуазной революции состоит в том, что революционную политику в основном вопросе революции, в аграрном, ведут черносотенцы и крестьяне с рабочими. Либеральные же адвокаты и профессора защищают нечто самое безжизненное, нелепое и утопичное: примирение двух противоположных взаимноисключающих методов ломки того, что отжило, и притом такое примирение, чтобы ломки вообще не было. Либо победа крестьянского восстания и полная ломка старого землевладения на пользу обновленного революцией крестьянства, т. е. конфискация помещичьей земли и республика. Либо столыпинская ломка, которая тоже обновляет, на деле обновляет и приспособляет к капиталистическим отношениям старое землевладение, но только всецело в интересах помещиков, ценою безграничного разорения крестьянской массы, насильственного изгнания ее из деревень, выселения, голодной смерти, истребления тюрьмой, ссылкой, расстрелами и пытками всего цвета крестьянской молодежи. Такую политику провести меньшинству над большинством нелегко, но она экономически не невозможна. Мы должны помочь народу ясно сознать это. А попытка аккуратной реформой, мирно, без насилия, выйти из того бесконечно запутанного клубка средневековых противоречий, который создан веками русской истории, есть самая тупоумная мечта заскорузлых «человеков в футляре». Экономическая необходимость безусловно вызывает и безусловно проведет самый «крутой переворот» в земельных распорядках России. Исторический вопрос состоит только в том, проведут ли его помещики, руководимые царем и Столыпиным, или крестьянские массы, руководимые пролетариатом.









