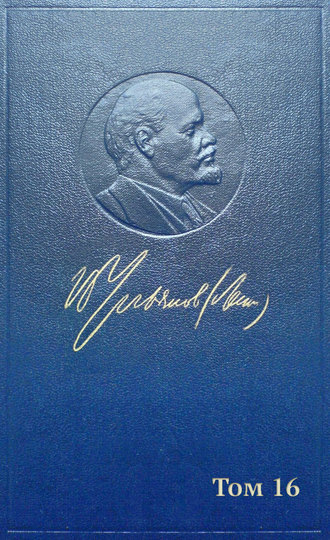 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908
От имени башкир депутат Хасанов (Уфимской губ.) напоминает о расхищении правительством 2-х миллионов дес. земли и требует, чтобы эти земли «обратно отобрать» (39 заседание, 16 мая 1907 г., с. 641). Того же требовал уфимский депутат I Думы, Сыртланов (20 заседание, 2 июня 1906, с. 923). От имени киргиз-кайсацкого народа говорил во II Думе деп. Каратаев (Уральской области): «Мы, киргиз-кайсаки… глубоко понимаем и чувствуем земельный голод братьев наших крестьян, мы готовы с охотой потесниться» (39 заседание, с. 673), но «излишних земель очень мало», а «переселение в настоящее время сопряжено с выселением киргиз-кайсацкого народа»… «выселяют киргизов не с земель, а из жилых их домов» (675). «Киргиз-кайсаки всегда сочувствуют всем оппозиционным фракциям» (675).
От имени украинской фракции говорил во II Думе 29 марта 1907 года казак Полтавской губ. Сайко. Он привел песню казаков: «Гей, царица Катерина, що ты наробила? Степь широкий, край веселый панам раздарила. Гей, царица Катерина, змилуйся над нами, виддай землю, край веселый с темными гаями» и присоединился к трудовикам, требуя только в § 2 проекта 104-х заменить слова «общенародный земельный фонд» словами: «краевой национальный (sic!) земельный фонд, долженствующий послужить началом социалистического устройства». «Украинская фракция считает наибольшей несправедливостью в свете частную собственность на землю» (1318).
В первой Думе полтавский деп. Чижевский заявил: «Я, как горячий сторонник автономной идеи, как горячий сторонник, в частности, автономии Украины, очень бы желал, чтобы аграрный вопрос был разрешен моим народом, чтобы аграрный вопрос разрешали отдельные автономные единицы, в том автономном строе нашего государства, который представляется для меня идеалом» (14-ое заседание, 24 мая 1906, стр. 618). Но в то же время этот украинский автономист признает безусловную необходимость государственного земельного фонда, разъясняя при этом вопрос, запутанный нашими «муниципалистами». «Мы должны твердо и положительно установить тот принцип, – говорил Чижевский, – что заведование землями государственного земельного фонда должно принадлежать исключительно местным самоуправляющимся земским или автономным единицам, когда они возникнут. Правда, какой же смысл тогда может иметь название «государственный земельный фонд», если им во всех частных случаях будут заведовать местные самоуправления? Мне кажется, что смысл огромный. Прежде всего… часть государственного фонда должна находиться в распоряжении центрального правительства… наш общегосударственный колонизационный фонд… Затем, во-вторых, смысл учреждения государственного фонда и смысл такого его названия вытекает из того, что хотя местные учреждения будут и свободны распоряжаться этим фондом у себя на местах, но все-таки в известных пределах» (620). Этот мелкобуржуазный автономист гораздо лучше понимает значение государственной власти в централизованном экономическим развитием обществе, чем наши меньшевики-социал-демократы.
Кстати. Говоря о речи Чижевского, нельзя пройти мимо его критики «норм». «Трудовая норма – это звук пустой», прямо говорит он, указывая на разнообразие с.-х. условий и отвергая на том же основании «потребительную» норму. «Мне кажется, что землею нужно наделять крестьян не по какой-нибудь норме, а в размере имеющегося запаса… Надо отдать крестьянам все то, что можно отдать в данной местности», – например, в Полтавской губернии «отчудить у всех землевладельцев землю, оставивши по 50 дес. в среднем, как максимум» (621). Удивительно ли, что кадеты болтают о нормах, чтобы скрыть свои планы действительных размеров отчуждения? Чижевский, критикуя кадетов, еще не сознает этого[129].
Вывод из нашего обзора думских выступлений «националов» по аграрному вопросу ясен. Эти выступления целиком подтвердили то, что я говорил против Маслова в брошюре «Пересмотр и т. д.» на стр. 18 (первого издания) по вопросу о соотношении муниципализации с правами национальностей, именно, что это политический вопрос, исчерпываемый политической частью нашей программы и только из мещанского провинциализма припутываемый к аграрной программе[130].
Меньшевики в Стокгольме возились с комичным усердием над тем, чтобы «очистить муниципализацию от национализации» (слова меньшевика Новоседского в «Протоколах» Стокгольмского съезда, с. 146). «Некоторые исторические области, как, например, Польша, Литва, – говорил Новоседский, – совпадают с национальными территориями, и передача этим областям земли может послужить той почвой, на которой будут с успехом развиваться националистически-федералистические тенденции, что снова превратит по существу дела муниципализацию в национализацию по частям». И вот Новоседский с Даном проводили и провели поэтому поправку: вместо слов: «самоуправляющихся крупных областных организаций» в проекте Маслова поставить слова: «крупных органов местного самоуправления, объединяющих городские и сельские округа».
Остроумная «очистка муниципализации от национализации», нечего сказать. Заменить одно слово другим, – разве не ясно, что от этого получается сама собой перетасовка «исторических областей»?
Нет, господа, никакими заменами слов не выкинете вы из муниципализации присущей ей «националистически-федералистической» глупости. Вторая Дума показала, что на деле «муниципализаторская» идея только и послужила националистическим тенденциям разных групп буржуазии. Только эти группы, если не считать правого казака Караулова, и «взяли себе» под охрану разные «краевые» и «областные» фонды. При этом аграрное содержание провинциализации (ибо фактически Маслов «отдает» земли провинциям, а не «муниципиям», так что слово провинциализация точнее) националы выкинули: ничего не предрешать, все предоставить автономным сеймам или областным и т. п. самоуправлениям, и вопрос о выкупе и вопрос о собственности и т. д. Получилось самое полное подтверждение моих слов: «закон о земстволизации закавказских земель все равно придется издать питерскому учредительному собранию, потому что Маслов не хочет ведь предоставлять любой окраине свободы сохранять помещичье землевладение» («Пересмотр», с. 18)[131].
Итак, события подтвердили, что защита муниципализации соображениями о согласии или несогласии национальностей есть аргумент пошлый. Муниципализация нашей программы оказалась в противоречии с определенно заявленным мнением весьма различных народностей.
События подтвердили, что на деле муниципализация служит не для руководства массовым крестьянским движением общенационального масштаба, а для раздробления этого движения на провинциальные и национальные ручейки. Из идеи масловских областных фондов жизнь впитала в себя только национально-автономистское «областничество».
«Националы» стоят несколько в стороне от нашего аграрного вопроса. У многих нерусских народностей нет самостоятельного крестьянского движения в центре революции, как у нас. Поэтому вполне естественно, что в своих программах «националы» часто держатся несколько в стороне от русского аграрного вопроса. Наша, дескать, хата с краю, мы сами по себе. Со стороны националистической буржуазии и мелкой буржуазии такая точка зрения неизбежна.
Со стороны пролетариата она недопустима, а наша программа именно в этот недопустимый буржуазный национализм на деле и впадает. Как «националы» в лучшем случае только примыкают к движению всероссийскому, не задаваясь целью удесятерить его силы объединением, концентрированием движения, так меньшевики строят программу, примыкающую к крестьянской революции, вместо того, чтобы дать программу, руководящую революцией, сплачивающую ее и толкающую дальше. Муниципализация – не лозунг крестьянской революции, а выдуманный план мещанского реформизма, со стороны прилаживаемый в закоулке революции.
Социал-демократический пролетариат не может менять своей программы в зависимости от того, «согласятся» ли отдельные национальности. Наше дело – сплачивать и концентрировать движение, пропагандируя наилучший путь, наилучшее в буржуазном обществе земельное устройство, борясь с силой традиции, предрассудков, косного провинциализма. «Несогласие» мелких крестьян на социализацию земли не может изменить нашей программы социалистической революции. Оно может лишь заставить нас предпочесть действие примером. Так и с национализацией земли в буржуазной революции. Никакое «несогласие» с ней народности или народностей таких-то не может заставить нас изменить учение о том, что в интересах всего народа лежит наиболее полное освобождение от средневекового землевладения и отмена частной собственности на землю. «Несогласие» значительных слоев трудящейся массы той или иной народности заставит нас предпочесть воздействие посредством примера всякому иному воздействию. Национализация колонизационного фонда, национализация лесов, национализация всей земли в центральной России не может сколько-нибудь долго ужиться с частной собственностью на землю в пределах той или иной части государства (раз причиной объединения этого государства является действительно основной поток экономической эволюции). Либо та, либо другая система должна будет взять верх. Опыт решит это. Наше дело – позаботиться о выяснении народу условий, наиболее благоприятных для пролетариата и для трудящихся масс капиталистически развивающейся страны.
9. Социал-демократы
Из восьми социал-демократических речей, произнесенных во II Думе по аграрному вопросу, только две содержали в себе защиту муниципализации, а не простое упоминание о ней. Это были речь Озола и вторая речь Церетели. Остальные речи состояли, главным образом, почти исключительно в нападении на помещичье землевладение вообще и в выяснении политической стороны аграрного вопроса. Чрезвычайно характерна в этом отношении бесхитростная речь правого крестьянина Петроченко (22 заседание, 5 апреля 1907), излагающая общие впечатления деревенского депутата от речей ораторов разных партий. «Я не буду затруднять вашего внимания перечислением того, что здесь говорилось; позвольте мне сказать об этом простыми словами. Депутат Святополк-Мирский говорил здесь длинную речь. Эта речь нас, по-видимому, к чему-то подготовляла. Если сказать коротко, то выходит, что землю, которая принадлежит мне или которою я владею, вы не имеете права взять, и я ее не отдам. На это депутат Кутлер сказал: «это время прошло, надо дать, вы и отдайте и получите деньги». Депутат Дмовский говорит так: «с землей как хотите, но автономия непременно нужна». В то же время депутат Караваев говорит так: «и то и другое нужно, но вали все вместе, а потом будем делить». Церетели говорит: «нет, господа, делить нельзя, так как правительство пока старое, и оно этого не позволит. А мы лучше будем стараться, как бы захватить власть, а потом поделим, как захотим»» (стр. 1615).
Крестьянин схватил, следовательно, как единственное отличие речи социал-демократа от трудовика, выяснение необходимости борьбы за власть в государстве, «захват власти». Остальные различия им не уловлены, показались ему несущественными! В первой речи Церетели мы видим, действительно, разоблачение того, что «наша чиновная знать есть и земельная знать» (725). Оратор показал, как «на протяжении нескольких веков государственная власть раздавала в частную собственность земли, принадлежавшие всему государству, земли, составлявшие собственность всего народа» (724). Заявление, внесенное им в конце речи от имени с.-д. фракции и повторяющее нашу аграрную программу, осталось не мотивированным и не противопоставленным программам иных «левых» партий. Мы констатируем это далеко не для того, чтобы обвинить кого-нибудь, – напротив, первую речь Церетели, короткую, ясную, сосредоточенную на выяснении классового характера помещичьего правительства, мы считаем чрезвычайно удачной, – а для того, чтобы объяснить, почему для правого крестьянина (вероятно, и для всех крестьян) исчезли специфически социал-демократические черты нашей программы.
Вторую с.-д. речь по аграрному вопросу произнес в следующем «аграрном заседании» Думы (16 заседание, 26 марта 1907) рабочий Фомичев (Таврической губ.), говоривший нередко: «мы, крестьяне». Фомичев дал страстную отповедь Святополку-Мирскому, знаменитые слова которого: крестьяне без помещиков – «стадо без пастыря» сагитировали крестьянских депутатов лучше нескольких других «левых» речей. «Депутат Кутлер в обширной речи развивал мысль о принудительном отчуждении, но с выкупом. Мы, представители крестьян, не можем признать выкупа на том основании, что выкуп, это – новая петля на шею крестьянина» (1113). В заключение Фомичев требовал «передачи всех земель в руки трудящихся на тех условиях, которые были предложены депутатом Церетели» (1114).
Следующую речь сказал тоже рабочий Измайлов, прошедший от крестьянской курии по Новгородской губернии (18 заседание, 29 марта 1907). Он отвечал своему земляку, крестьянину Богатову, соглашавшемуся на выкуп от имени новгородских мужиков. Измайлов с негодованием отверг выкуп. Он рассказал условия «освобождения» новгородских крестьян, получивших 2 млн. дес. из 10 млн. дес. земельных угодий и 1 млн. дес. из 6 млн. дес. лесу. Он описал нужду крестьян, дошедшую до того, что они не только «десятки лет сжигают в печах свои огорожи кругом хат», но «отпиливают углы у собственных изб», «из больших старинных изб делают маленькие для того только, чтобы при перестройке как-нибудь сэкономить охапку дров для топлива» (1344). «Вот при таком-то положении наших крестьян господа правые заскучали о культуре. Мужик, вишь, заел по-ихнему культуру. Да разве до культуры голодному и холодному мужику? И вот вместо земли они хотели бы предложить ему эту культуру; но я и тут не доверяю им, я думаю, что они также согласятся продать свои земли, но только будут рядиться, чтобы мужик заплатил за землю подороже. И вот почему они соглашаются. По-моему – и крестьяне особенно должны это знать – дело вовсе не в земле, господа. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за землей кроется что-то другое, другая какая-то сила, которую крепостники-дворяне боятся передать народу, боятся потерять вместе с землею, это, господа, – власть. Они передадут землю и хотят ее передать, но так, чтобы мы по-старому остались рабами у них. Если мы задолжаем, мы все-таки не выскребемся из власти помещиков-крепостников» (1345). Трудно представить себе что-либо более рельефное и меткое, чем это разоблачение сущности кадетских планов рабочим!
С.-д. Серов в 20 заседании, 2 апреля 1907 г., критиковал преимущественно взгляды кадетов, как «представителей капитала» (1492), «представителей капиталистического землевладения». Оратор подробно, с цифрами в руках, показал, чем был выкуп в 1861 г., и отверг «резиновый принцип» справедливой оценки. Серов дал безупречно правильный, с марксистской точки зрения, ответ Кутлеру на довод, что нельзя конфисковать землю, не конфискуя капитала. «Мы вовсе не приводим тех аргументов, что земля ничья, что земля не есть создание человеческих рук» (1497). «Пролетариат, представителем которого является здесь партия социал-демократов, достигнув самосознания, одинаково отвергает всякую эксплуатацию, как феодальную, так и буржуазную. Для него, пролетариата, не существует вопроса, какой из этих двух видов эксплуатации справедливее; для него вопрос постоянно сводится к тому, назрели ли исторические условия для освобождения от эксплуатации» (1499). «По вычислению статистиков, при конфискации земель в руки народа перейдет до 500 млн. руб. нетрудового дохода помещиков. Этот доход крестьянство употребит, конечно, на улучшение своего хозяйства, на расширение производства, на увеличение своих потребностей» (1498).
В 22-м заседании Думы (5 апреля 1907 г.) были произнесены аграрные речи Аникина и Алексинского. Первый подчеркивал связь «высшей бюрократии и крупного землевладения» и доказывал неразделимость борьбы за свободу и за землю. Второй в обширной речи выяснял крепостнический характер отработочного хозяйства, преобладающего в России. Оратор изложил, таким образом, основу марксистских взглядов на борьбу крестьянства против помещичьего землевладения, затем показывал двоякую роль общины («пережиток старины» и «аппарат для воздействия на помещичьи усадьбы»), значение законов 9 и 15 ноября 1906 г. (наряду с помещиком присоединить кулака, как «устой»). Оратор показал с цифрами в руках, что «крестьянское малоземелье есть дворянское многоземелье», и выяснил, что кадетское «принудительное» отчуждение есть «принуждение народа в пользу помещиков» (1635). Алексинский прямо сослался на «кадетский орган «Речь»» (1639), признавший кадетскую правду о помещичьем составе желательных для них земельных комитетов. И кадет Татаринов, говоривший через заседание после Алексинского, был прижат этим к стене, как мы уже видели.
Речь Озола в 39-ом заседании (16 мая 1907 г.) дает нам образец того, на какую неприличную для марксистов аргументацию толкнул часть наших с.-д. Маслов своей знаменитой «критикой» теории ренты Маркса и соответствующим искажением понятия национализации земли. Озол возражал против эсеров так: «проект» их «является; по моему мнению, безнадежным, ибо отменяется частная собственность на средства производства, в данном случае на землю, в то время, когда частная собственность сохраняется на фабричные здания, не только на фабричные здания, но даже на дома и постройки. На 2 странице проекта мы читаем, что все постройки, которые возведены на земле и которые эксплуатируются капиталистическим способом, остаются частною собственностью, тогда каждый частный собственник скажет: сделайте милость, платите все расходы за национализированные земли, за мощение улиц и пр., а я буду получать аренду с этих домов. Это не национализация, а просто облегчение получения капиталистических доходов в самой развитой капиталистической форме» (667).
Вот она, масловщина-то! Во-1-х, повторяется пошлый довод правых и кадетов, будто нельзя уничтожить феодальную эксплуатацию, не трогая буржуазную. Во-2-х, обнаруживается поразительное экономическое невежество: «аренда» городских домов и пр. содержит в себе львиную долю земельной ренты. В-3-х, наш «марксист» вслед за Масловым забывает совершенно (или отрицает?) абсолютную ренту. В-4-х, выходит так, что марксист опровергает желательность «самой развитой капиталистической формы», защищаемой эсером! Перлы масловской муниципализации…
Церетели в обширной заключительной речи (47 заседание, 26 мая 1907) защищал муниципализацию, конечно, обдуманнее, чем Озол, но именно тщательная, взвешенная и ясная защита Церетели особенно рельефно вскрыла всю фальшь основных доводов муниципал истов.
Критика правых, данная Церетели в начале речи, была вполне правильна с политической стороны. Великолепно было его замечание против шарлатанов либерализма, пугавших народ потрясениями вроде французской революции. «Он (Шингарев) забыл, что именно после конфискации и вследствие конфискации земель помещиков Франция возродилась к новой могучей жизни» (1228). Вполне правилен также был основной лозунг Церетели: «полное уничтожение помещичьих землевладений и полная ликвидация помещичьего бюрократического режима» (1224). Но уже при переходе к кадетам начинает сказываться ошибочная позиция меньшевизма. «Принцип принудительного отчуждения земли, – сказал Церетели, – есть объективно принцип освободительного движения, но не все, стоящие за этот принцип, сознают или хотят признать все те выводы, к которым обязывает этот принцип» (1225). Это – основной взгляд меньшевизма, что «водораздел» коренных политических делений в нашей революции идет вправо от кадетов, а не влево, как думаем мы. И что этот взгляд ошибочен, – особенно ясно видно из отчетливой формулировки Церетели, ибо совершенно неоспорима после опыта 1861 года возможность принудительного отчуждения с преобладанием интересов помещиков, с сохранением их власти, с закреплением новой кабалы. Еще более неверно заявление Церетели: «в вопросе о формах землепользования мы (с.-д.) от них (народников) стоим дальше» (1230), чем от кадетов. Оратор вслед за этими словами перешел к критике «норм», трудовой и потребительной. В этом он был тысячу раз прав, но именно тут кадеты нисколько не лучше трудовиков, ибо «нормами» кадеты злоупотребляют гораздо больше. Мало того. У кадетов возня с глупыми «нормами» есть результат их бюрократизма и их тенденции предать мужика. У мужика – «нормы» принесены извне народнической интеллигенцией, и мы видели выше, на примере депутатов I Думы, Чижевского и Пояркова, как деревенские практики метко критикуют всякие «нормы». Если бы с.-д. разъяснили это крестьянским депутатам, если бы они внесли поправку в трудовой проект, отрицающую нормы, если бы они теоретически показали значение национализации, ничего общего не имеющей с «нормами», – то с-д. оказались бы руководителями крестьянской революции против либералов. Позиция же меньшевизма есть подчинение пролетариата либеральному влиянию. Во II Думе особенно странно было говорить, что мы, с.-д., дальше от народников, ибо кадеты высказались за ограничение продажи и залога земель!
Критикуя, далее, национализацию, Церетели привел три довода: 1) «армия чиновничества», 2) «величайшая несправедливость по отношению к мелким национальностям», 3) «в случае реставрации» «дали бы оружие в руки врага народа» (1232). Это – добросовестное изложение взглядов тех, кто провел нашу партийную программу, и Церетели, как человек партии, должен был изложить эти взгляды. Несостоятельность этих взглядов, поверхностность этой исключительной политической критики мы показали выше.
За муниципализацию Церетели привел шесть доводов: 1) при муниципализации «действительное употребление этих средств (т. е. ренты) на народные (!) нужды будет обеспечено» (sic! стр. 1233) – утверждение оптимистического характера; 2) «муниципалитеты будут стремиться улучшить положение безработных», – как, например, в демократической и децентрализованной Америке (?); 3) «муниципалитеты могут завладеть этими (крупными) хозяйствами и организовать образцовые хозяйства», и 4) «в момент аграрного кризиса… будут отдавать безземельным, неимущим крестьянам землю в аренду даром» (sic! стр. 1234). Это уже демагогия хуже эсеровской, программа мещанского социализма в буржуазной революции. 5) «Оплот демократизма» – вроде казацкого самоуправления; 6) «отчуждение надельных земель… может вызвать страшное контрреволюционное движение» – вероятно, против воли всех крестьян, высказавшихся за национализацию.
Итог выступлений с.-д. во II Думе: руководящая роль в вопросе о выкупе, о связи помещичьего землевладения с властью современного государства и собственно аграрная программа, сбивающаяся на кадетизм, доказывающая непонимание экономических и политических условий крестьянской революции.
Итог всех аграрных прений во II Думе: правые помещики обнаружили самое ясное понимание своих классовых интересов, самое отчетливое сознание условий, как экономических, так и политических, сохранения своего господства, как класса, в буржуазной России. Либералы по существу примыкали к ним, пытаясь предать мужика в руки помещика посредством самых презренных и лицемерных приемов. Народнические интеллигенты вносили в крестьянские программы привкус бюрократизма и мещанского резонерства. Крестьяне самым бурным и непосредственным образом выразили стихийную революционность своей борьбы против всех остатков средневековья и всех форм средневекового землевладения, не вполне отчетливо сознавая политические условия этой борьбы и наивно идеализируя «обетованную землю» буржуазной свободы. Буржуазные националы примыкали к крестьянской борьбе более или менее робко, будучи в значительной степени проникнуты узкими взглядами и предрассудками, порождаемыми обособленностью мелких народностей. Социал-демократы решительно защищали дело крестьянской революции, выясняли классовый характер современной государственной власти, но не были в состоянии последовательно руководить крестьянской революцией, вследствие ошибочности партийной аграрной программы.
Заключение
Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и обусловливает собой национальную особенность этой революции.
Сущность этого вопроса составляет борьба крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения и остатков крепостничества в земледельческом строе России, а следовательно, и во всех социальных и политических учреждениях ее.
Десять с половиной миллионов крестьянских дворов в Европейской России имеют 75 миллионов десятин земли. Тридцать тысяч преимущественно благородных, а частью также чумазых лендлордов имеют свыше 500 дес. каждый, всего 70 млн. дес. Таков основной фон картины. Таковы основные условия преобладания крепостников-помещиков в земледельческом строе России, а следовательно, в русском государстве вообще и во всей русской жизни. Крепостниками являются владельцы латифундий в экономическом смысле этого слова: основа их землевладения создана историей крепостного права, историей векового грабежа земель благородным дворянством. Основой их современного хозяйничанья является отработочная система, т. е. прямое переживание барщины, хозяйство посредством крестьянского инвентаря, посредством бесконечно разнообразных форм закабаления мелких земледельцев – зимняя наемка, погодная аренда, аренда исполу, аренда за отработки, кабала за долги, кабала за отрезные земли, за лес, за луга, за водопой и так далее, и так далее без конца. Капиталистическое развитие России сделало уже такой шаг вперед за последние полвека, что сохранение крепостничества в земледелии стало абсолютно невозможным, устранение его приняло формы насильственного кризиса, общенациональной революции. Но устранение крепостничества в буржуазной стране возможно двояким путем.









