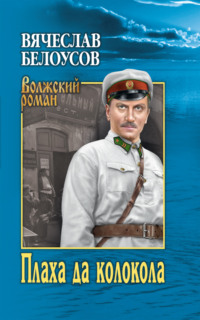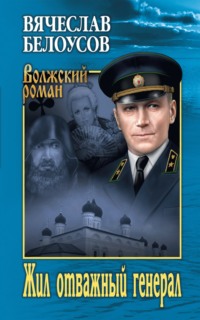Полная версия
Провокатор
– А, мать-перемать! – орали над ним и бесновались. – Жив? Жив!
– Тащи его к берегу!
Он уже различал голоса, рядом тарахтел баркас.
– Кто же купается в эту пору? – кричал ему в ухо тот, который только что матерился. – У тебя одёжка есть какая, дурачок?
– Мне на работу надо, – губы его уже шевелились.
– Вот, мать-перемать! Его от смерти только спасли, а он своё. Ефим! Ефим! Кинь там тряпьё, его бы согреть. Это какой же дурак теперь в речку лезет?
– Убивец! Кто же ещё?
Минин поднял голову.
– Очухался! – заржал бородатый матерщинник.
А через час и даже меньше оперуполномоченный уже торкнулся в свой кабинет на первом этаже «конторы».
– Входи! – ответил изнутри зычный бас Жмотова. – Я тебя не дождался, сам открыл. Ничего?
– Ничего, – буркнул Минин.
Кабинет его был готов к допросам. Жмотов времени не терял, постарался: сияла на столе лампа, слепя глаза, блестел нервной чистотой стол, белый лист торчал на нём, как бельмо на глазу быка.
– Ты чего, Степаныч? Не задремал? – хмыкнул Жмотов. – Или бабу завёл?
– На речке купался.
– Успел?
– Ага, – мрачно кивнул Минин.
IX– Тебя с бумагами знакомили? – Минин отключил раскалившуюся лампу, примостился на подоконнике, портсигар открыл.
– Откель? Баклей тут забегал, сказал, что они у тебя. – Жмотов, развалясь на стуле, качнулся на задних ножках, те жалобно заскрипели под ним. – Но ничего, объяснил на пальцах. Вроде опять какой-то подпольный союз накрыли?
– Он наговорит.
– А что? Не так?
– На, читай, – открыл сейф и бросил на стол совсем тонкую папку Минин. – Я тоже думал увидеть законспирированных злодеев, допросы форсированные полистать, в анализы, доказательства окунуться… А там кот наплакал.
– Что за вопрос? Нет, так будет. Тем слаще нам почёт! – бодро выпалил Жмотов, язык заметно подводил его, он опять на спинку стула откинулся, да так, что тот заскрипел уже совсем обреченно, и громко прочитал: – «Союз борьбы за дело революции!» Ого-го! Вон что замыслили выродки!
– Ты стул бы пожалел, – одёрнул его Минин. – Меня наш Ахапкин тоже озадачивал. У него получается, что прямо щупальца спрута обнаружены. И не какая-нибудь хала-бала, а из самой столицы тянутся до нас и по всей стране. В Москве, правда, ещё кумекают, не определятся насчёт их конкретного вредительства. А у нас уже соображения пошли, проекты…
– Это тот Союз, за который Абакумов загремел в Матросскую тишину? Не смог своевременно его раскрутить?
– Слыхал?
– Краем уха.
– Он-то его раскрутил как раз, да кое-кому, видать, хотелось другое услышать.
– Вот и замудрил!
– Вменялись ему и эти упущения, – опустил глаза Минин. – Но там у них хоть студенты были, идеи мудрёные. А у нас?.. Однако Ахапкин с Баклеем уже свою печать шлёпнули: контриков обнаружили. Пусть и сопливых.
– Контрреволюционная банда!
– Какой там! Шпана несмышлёная.
– Это как?
– Пацанва вшивая, школьники деревенские, есть даже несовершеннолетние.
– Сколько?
– Восемь человек всего в собашнике[2].
– Это ж целая организация! Точно осьминог!
– Вот, вот.
– А у тебя, значит, другое мнение?
– Нет у меня никакого мнения, – сказал, как отрезал, Минин и нахмурился. – Я их ещё в глаза не видел. А вот майор Подымайко имел мнение на их счёт. И Ахапкин не скрывает, что оно отличается…
– Что же он? Против был?
– Ты бумаги читай.
– Да что их читать? Я уже проглядел. Три листа! Заявление неизвестного, почерк не различить, больше догадываться пришлось, что он изобразить желал. Кстати, его установили?
– Я бы тоже хотел знать.
– Директор школы тоже что-то накарябал невразумительное. И выжившая из ума учительница, по-другому не сказать, измышления о Толстом да Достоевском приплела. С какого боку? К чему её цитаты, охи и ахи? Какими они великими были, мы и без неё ещё в школе проходили.
– Эти её охи и ахи, как ты выразился, и есть объяснение причин того, что стряслось в этой школе, – потёр лоб Минин, ему что-то душно показалось в помещении и затошнило от папироски, хоть форточку открывай, но он вспомнил инструкцию про ночные допросы – не положено.
– Не понимал я никогда этих интеллигентов, – бурчал своё Жмотов. – А суть – она вот, в одном кулаке моём уместится.
И он грохнул себя кулаком по колену.
– О кулаках забудь! Дети.
– Ну уж и дети…
– Я тебе говорю. Разберёмся и без этих… твоих упражнений. – Минину что-то совсем плохо стало, грудь вроде как обожгло и огонь этот, тлея, заполнял всё пространство грудной клетки, пылая, порождал неожиданную тревогу и тоску.
– Где у нас вода-то? – пошарил он глазами по пустому столу.
– Да вон на сейфе у тебя графинчик. Я убрал, – Жмотов, закинув ногу на ногу, беспечно дымил в потолок.
Минин судорожно опрокинул в себя стакан воды, жжение постепенно затихло, будто его притушила прохлада, он, продляя удовольствие, не торопясь, осушил и второй стакан, коротко бросил Жмотову:
– Ты бы меньше чадил. Ночь впереди.
– Слушаюсь, товарищ начальник, – дурачась, тот смял папироску.
– И про директора тоже зря, – Минин чуть не сплюнул от досады. – Он мало накатал, но толково. Босяки в казаки-разбойники игру затеяли. Пионерская организация, по их мнению, бездействует, комсомольская ячейка дурака валяет, решили устроить ревизию воспитательной работы в школе. Патриотическую тему им не так преподносят, видите ли, не на тех примерах. Вот об этом директор школы и настрочил. Он так прямо и подметил, что сопляки эти подвергли критике весь воспитательный процесс и затеяли свору со старой учительницей, которая им в бабки годится. Не им её учить. Пусть даже и не права. В общем, заигрались детки. А игра вон чем оборачивается по сигналу дотошного умника.
Жмотов дёрнулся возразить, но только губы поджал. Они помолчали, стараясь не глядеть друг на друга.
– Ну так что? – первым не выдержал Жмотов, вскочил на ноги, зашагал по кабинету, почёсывая кулаки. – Начнём помалу?
– Давай, – смерив его тяжёлым долгим взглядом, Минин подошёл к столу, сел, приблизил лампу, развернул против себя, щёлкнул кнопкой включателя.
Яркий жаркий луч света упёрся в стену, готовый всё выжечь перед собой.
– Ты, Прохор Андреевич, успокойся и сядь вон там, в уголок, – Минин кивнул Жмотову в самую темень кабинета. – Не встревай пока, без особой моей команды.
– А я что! – вскинулся тот.
– Вы поняли меня, лейтенант Жмотов? – жёстко спросил Минин, но глаз не поднял и даже головой ткнулся в крышку стола, будто важное там узрел.
– Так точно, товарищ капитан.
– Вот и прекрасно.
– Как обычно, Степаныч, – ощерился Жмотов, учуяв слабинку в голосе Минина. – Я в забойщиках. Работаю вторым номером. У нас с Игорьком неплохо получалось. Ну а сегодня ты строчишь.
– Я смотрю, от тебя душок! – ожёг его взглядом Минин, не стерпев. – Гулял опять?
– Да что ты, Степаныч? Я же отсыпался. От вчерашнего, – ухмыльнулся тот, но заспешил в указанное место, напевая чуть слышно. – Все карты говорят о том, что ждёт меня дорога, большой марьяж, заветный дом и дама-недотрога… У меня работа настроение подымает. В безделье, наоборот, мучаюсь. Ты же знаешь, Степаныч.
– Ну посмотрим, посмотрим… – подозрительно проследил за ним Минин и нажал кнопку под крышкой стола.
Влетел солдат, щёлкнул каблуками.
– Всех привезли? – не поднимая головы, спросил Минин, он уже потушил верхний свет, и сияла лишь лампа на столе.
– Всех, товарищ капитан! – рявкнул солдат, ослеплённый, он ничего не видел.
– Тише, тише. Веди-ка старшего. – Минин поводил пальцем по бумаге. – Леонтьева Александра Павловича.
– Есть! – пропал солдат и явился уже с подростком, едва достававшим ему до пояса, одетым во что-то тёмное, мешковатое, с бледным болезненным лицом.
Солдат ткнул локтем бледнолицего заморыша, того словно подбросило, он ожил и, вскинув глаза в потолок вместе с острым подбородком, отчаянно выкрикнул:
– Арестованный Леонтьев! Статья пятьдесят восьмая![3]
– Вот те на! – подал голос из угла Жмотов, но Минин не шелохнулся, внимательней вгляделся в солдата:
– Вы меня правильно поняли? Я просил старшего в смысле главного?
– Так точно! – рявкнул тот.
– Хорошо, – опустил глаза Минин.
И солдат выскочил за дверь.
– Ну… Проходи, Леонтьев. Вон на тот стул.
Мальчишка долго, словно на ощупь, шёл, а когда сел, лампа впилась ему в лицо жаром и светом так, что он отпрянул.
– Колется?
Глаза его впали, плотно закрывшись, губы дрожали.
– Холодно?
Тот вцепился в стул руками, чтобы не свалиться.
– Жарко?
Похоже, сил открыть рот у него не было.
– Чего молчишь? Немой?
– Нет…
– Ну, наконец-то. Пробило. А дрожишь чего? Испугался?
– Нет.
– Ну тогда рассказывай…
XИ следующие шестеро были такими же, будто из одного выводка цыплячьего; лепетали бескровными губами, пугаясь и путаясь, на один лад в один голос твердили одно и то же.
Минин редко перебивал, нужды не было; вновь заведённого в кабинет требовалось разговорить, а потом речь лилась, чувствовалось – засиделась пацанва в собашнике, лампа их подогревала без его вопросов; он, прищурившись, глядел перед собой, подперев щёку ладонью.
История вырисовывалась трагикомичная.
Почти два года назад затеялся в деревне этот секретный кружок. Теперь уже никто из них не мог точно вспомнить, кто первым подал идею. Сходилось на Лавре Лазареве или Лазаре, как его окрестила местная пацанва между собой. Он и стишки пописывал, и книжками увлекался, у него отец председатель колхоза, поэтому дома библиотека будь-будь; там от Пушкина до Жюля Верна, чего только не найти. В сельскую столько народа не ходило, как к ним в очередь записывалось, чтобы редкость какую дождаться. Матери у них не было, а отец каждый месяц из города на «газике» пачками книжки привозил, не всегда новые, и подержанные попадались, но интересные, видно, с рук покупал; младшая сестрёнка «читальней» ведала, аккуратно записывая в тетрадку каждую выданную книжку и предупреждала нерадивых писклявым голоском, что только на две недели, а не успел – неси назад и переписывай снова.
Но Лазарь нос не задирал перед остальными, его пацаны за другое уважали и доверяли верховодить. Дело в том, что он не только по книжкам, но и на кулаках был мастер, никому спуску не давал, защищая маленьких и слабых. Всё бы ничего, и в школе Лазарь был не на вторых ролях, хотя в передовики не лез, но особое положение домашней библиотеки каким-то образом отразилось на его отношениях с «бабкой Зиной». «Бабкой Зиной» за глаза называли все от мала до велика Зинаиду Исаевну Прокофьеву, старейшую учительницу русского языка и литературы в школе. Сколько себя помнили все, учившиеся в селе когда-либо, эти предметы вела седая, высокая и сухая, словно жердь, старуха, сначала в начальных классах, а когда школа стала десятилеткой – с пятого и по выпускной. Её хватало на всех, несмотря на известный возраст, и могучим скрипучим голосом она могла погонять любого, порой добираясь и до самого директора, хилого и болезненного старичка. Но учительница новую библиотеку на дому не признавала, даже серчала на председателя колхоза, за глаза поругивала, а по селу сплетня поползла, что затаила злобу «бабка Зина»: перестал народ к ней бегать за советами и с просьбами, все по вечерам у Лазаревых пропадают. Вот с этой матроной с некоторых пор и начались у Лазаря мелкие стычки, переросшие со временем в бои местного значения, как для себя отметил оперуполномоченный Минин, выслушивая одного за другим подозреваемых.
Дело в том, что Лазарь, привыкший удивлять, и в школе порой выдавал такое, чего не только не отыскать ни в какой школьной программе, а вообще не услышать. В младших классах особо не замечалось, а когда в старшие перешли, выходки его вызывали у Зинаиды Исаевны некоторый ужас и естественное возмущение. То мальчишка о Пушкине выдаст про скабрёзного Луку, то запрещённого Есенина начнёт цитировать, на парту взгромоздившись в перемену. И ведь книг никогда в руках не держит, по памяти шпарит. Зинаида Исаевна пробовала с отцом разговаривать, но того не поймать, а когда перевстренуть удавалось, тот на ходу руками помашет, не успевает, мол, а пороть юнца – уже вырос, не положишь поперёк скамьи. На том и кончались беседы, а трещина увеличивалась, взаимная неприязнь росла. И произошло то, что должно было случиться.
Комсомольская организация с Зинаидой Исаевной подготовила школьный диспут о классиках отечественной литературы, естественно, на патриотическую тему. Выступавших в тот раз было много, и всех их словесница добросовестно прослушала, проконтролировала, отправилась со спокойным сердцем в «учительскую» чайком побаловаться, чтобы к концу вернуться, так как ничего интересного за это время произойти по её мнению не могло. А Лазарь как раз в этот конец со своим выступлением и затесался. Ну и лишь «бабки Зины» след простыл, он на трибуну взгромоздился и выдал тот, запомнившийся всем, первый номер.
Прежде всего он принялся за «немеркнущее зеркало русской революции» Льва Николаевича Толстого. В руках его оказались бессмертные дневники, откуда Лазарь процитировал строки о том, что будущий граф и проповедник непротивления злу ещё в юном возрасте подглядывал за зрелыми горничными, поэтому неслучайно в знаменитом «Воскресении» изобразил любовные сцены так натурально, ибо не раз сам имел к ним самое прямое отношение. Это подтвердилось и в его зрелом периоде жизни, когда, мучаясь от непонимания своей разлюбезной Софьи Андреевны, барин искал удовлетворение с дворовыми девками, так что деток наплодил по белому свету без счёту. Зал онемел от неслыханного кощунства и пошлости, а Лазарь уже заторопился разбирать смутную натуру властителя русской души Фёдора Михайловича Достоевского на примере его революционного романа «Бесы». Оказывается, тот по молодости тоже поражал всех своими нетрадиционными воззрениями, был неуёмно кровожаден и даже экстремистские мысли вынашивал, вербуя в боевые пятёрки для убийства императора чувствительных поэтов и прозаиков. Однако после неудавшегося заговора и казни, когда царь, расщедрившись, негласно заменил ему смертную казнь в последнюю секунду и отправил на каторгу, так прочувствовался, что в душевном своём романе «Бесы» подверг идею насильственной революции обструкции, повесив главного героя его же собственными руками.
«Эти глубокие мысли Лазаря, – переваривал услышанное от пацанов Минин, – вряд ли соответствующим образом были уяснены школьной аудиторией, но до некоторых с извилинами и присутствовавших там нескольких учителей добрался вредный душок, исходящий из всех этих пошлых лазаревских открытий. Потом в пересказе «бабки Зины» содержание, должно быть, совсем утратило свой первозданный смысл, но даже и в интерпретациях истеричных учениц и подозрительном нашёптывании учителей Зинаида Исаевна уловила главное – ахинея старшеклассника Лазарева есть не что иное, как бунт против неё, он нетерпим и опасен, что следует жестоко пресечь. Виновного, естественно, следовало наказать».
Для этих целей и состоялся вскоре педсовет, на котором отцу и беспардонному сынку крепко досталось. Прокофьева ставила вопрос об исключении из школы, до этого комсомольская организация вынесла провинившемуся строгий выговор, но директор заступился, и Лазарю дали возможность доучиться.
Скорее всего, тем дело бы и кончилось, всё бы забылось, как дурной сон: с кем не бывало чего-либо подобного в школьные буйные годы, все в этом возрасте больше всех знают, умнее и лучше других, тем более своих занудных учителей. Но главному событию предстояло ещё свершиться. Об этом, если верить пацанве, вообще никто из них не знал, не задумывал ничего подобного, не предвидел. Всё случилось само собой.
Спустя несколько дней после публичной казни, состоявшейся в школе, при свете кровавого пламени костра Лазарь, объявив всем, со слезами на глазах вырыл яму и бросил туда свой комсомольский билет. Вместе с ним предали земле свои билеты и остальные семь его верных сподвижников, к этому времени их кружок сформировался окончательно и собирались они только в этом составе, но уже действительно тайно, прячась от всех и только затемно. И разговоры у костра начинались другим недовольством, уже вспоминали и безграмотного секретаря партячейки колхоза, который писал с трудом, редко приходя в школу, перед учениками даже первого класса путался, и совсем слов не находил, махал рукой и в зависимости от причины своего визита заканчивал: «В общем, поняли, пацаны. Завтра картошку копать…» или: «Завтра на полив…» ну и так далее: «Завтра сорняк дёргать…»
А Зинаиде Исаевне тоже не так просто дались сражения с непокорным Лазарем; прослышав, что директор всё же не отстранил его от предстоящей праздничной демонстрации, она нашептала физруку Федосеичу, молившемуся на неё, как на икону, чтобы он погонял зарвавшегося сынка председателя, сбил с него спесь. Инвалид, ветеран трёх войн, Степан Федосеевич Свиногин занимался подготовкой демонстрации среди школьников, а Лазареву и его дружкам, самым крепким ребятам, предстояло по традиции нести огромный транспарант на параде по всему селу и перед главной колхозной трибуной, где обычно выстраивалось всё правление колхоза, председатель сельского Совета депутатов и сам Семён Семёнович Треухов – местный участковый. С задачей своей Лазарев и его команда всегда справлялись без каких-либо понуканий, а тут вдруг Федосеич услышал замечания, да и от кого! От самой «бабы Зины»! Он, конечно, всё это истолковал на свой счёт, мол, копает Исаевна под него, так как молодого физкультурника в школу присмотрела. Поэтому рьяно приступил к исполнению поручения. Что он вытворял с пацанвой, сколько их гонял по селу с этим проклятущим транспарантом, одни они знают; тогда и пришёл, видно, тот злосчастный час, когда кто-то не выдержал и взвыл. Но не в строю, когда, тренируясь, тащили полотнище во всю улицу с красными пылающими буквами через всё село в очередной раз, а проклинать начал после, задумав, наверное, глупость эту ужасную, оказавшись уже в постели, засыпая и ругая всё на свете, а может, уже зло посмеиваясь…
Одним словом, парад удался на славу, демонстранты школьные лицом в грязь не ударили, и «лазаревцы» пронесли свой транспарант, как обычно, под аплодисменты и крики приветствия, даже с трибуны участковый Семёныч не сдержался и помахал бравым школьникам ручкой. Успех был грандиозным.
И только на третий или четвёртый день, когда на селе уже отгуляли, отец Лазаря, влетев в избу, словно ужаленный, впервые за всю жизнь наотмашь ударил сына, а когда тот вскочил на ноги и с немым вопросом уставился в глаза отцу, тот выкрикнул:
– Ты что же натворил, щенок!
…На том транспаранте, который приветствовало всё село, а участковый помахал ручкой, красные буквы складывались в зловещую и совсем не смешную фразу: «Коммунизм – наша цепь!» И стоял, угрожая всем, восклицательный знак.
Но он-то и раньше стоял, когда в последнем слове была другая буква.
XIДопрос подозреваемых шёл к концу. Оставалась очередь за последним – Лазаревым. Но Минин притомился. К тому же вновь разыгралась боль в груди и хотелось пить. Он взглянул на часы – стрелки подбирались к пяти часам утра. Это что же? Выходит, он почти всю ночь без перекура протрубил!.. Минин кинул взгляд в угол, забыл про лейтенанта в горячке. Тот, склонив голову на плечо, мирно дремал.
За грудиной противно и остро кольнуло. «Неужели заболел? – заскребла тоскливая мысль. – Может быть, просто давненько не занимался ночными допросами, вот и утратил форму. А возраст не тот… Но эти посиделки с мальчишками, хотя и пытались некоторые из них упираться, допросами не назовёшь. Считай, просто проваландался, потравил душу. Вон Жмотов, наверняка и выспаться успел…»
Когда солдат вывел очередного, Минин дал ему знак ждать за дверью, налил себе воды из графинчика, выпил, растягивая удовольствие. Боль опять уходила, жжение расползалось, затихало, будто рассасывалось. Он повёл плечами, взбодрился.
– Ну как тебе история? – повернулся в угол к Жмотову.
Лейтенант вздрогнул, поднялся не сразу, растирая рукой красное одутловатое лицо.
– Никуда они от нас не денутся. Шпана позорная!
– Ты понял, что я спросил-то? – усмехнулся Минин. – Проспал весь допрос!
– Ни на один глаз, – Жмотов сунул в рот папироску, жадно затянулся. – Я этих контриков ущучил с первого взгляда. С того зяблика гнилого. Ишь, он не знает, кто букву эл на пе устряпал! Ты почему его сразу не дожал? Я б его так скрутил!
– Да разве в этом дело?
– А в чём?
– Насчёт контриков ещё думать и думать надо.
– И думать нечего. Всё налицо. Транспарант имеется, а это важный вещдок.
– Думать, дорогой мой Прохор Андреевич, никогда не помешает, – поморщился Минин и схватился за грудь.
– Что с тобой? – навострил глаза Жмотов. – Ты чего весь побелел?
– Что-то будто ёкнуло… – простонал Минин.
– Ну-ка расслабься. Сиди, сиди. Я пульс посчитаю.
– Да что ж его считать, – покачивался, схватившись за сердце Минин, – душновато что-то.
– Мотор, мотор прихватило, – бросился расстёгивать ему пуговицы воротничка Жмотов, а затем и форточку распахнул. – Дыши, Степаныч. Сейчас лучше станет. Это бывает.
– Да вроде уже и ничего, – глубоко выдохнул тот.
– Может, врача?
– Чего булгачить? Отпустило.
– У меня с собой лекарства никакого.
– Чего это ты? – Минин слабо улыбнулся. – Какое ещё лекарство? Нормально вроде. Утром забегу в больничку к нашему Фёдорычу. И все дела.
– А то смотри, – Жмотов нагнулся над ним, в глаза заглянул. – Что-то ты мне не нравишься, Степаныч. Побледнел весь.
– Заканчивать будем, – застёгивал уже ворот Минин. – Ты только больше не кури.
– Да я уж когда выбросил, – суетился лейтенант. – А это тебя не с купания прихватило?
– Ну что ты! – Минин даже обиделся. – Купанием я, наоборот, все болячки лечу. Нет. Это сегодня что-то накатило. Нервишки, наверное. С Баклеем ещё днём схватились, потом у Ахапкина пошумели, а тут Савелий как живой перед глазами торчит день и ночь.
– Подымайко?
– Ну да, Михеич.
– Он и мне прошлой ночью приснился. – Жмотов за голову схватился. – Страшный какой-то! С верёвкой на шее!..
– Он на ремне удавился.
– А этот с верёвкой. Верёвку с себя стащил, размахивает ей, будто на нас с Игорьком набросить желает. Мы уворачиваемся, убегаем, а он бельма вытаращил!..
– Ты сколько выпил-то? – Минин подозрительно скосил глаза на лейтенанта. – Не горячка белая за тобой гонялась?
– Проснулся весь мокрый…
– Ну хватит. Командуй, чтоб вели задержанного. Да заканчивать будем.
– Ты как?
– Нормально.
– Ну и хорошо.
И солдат ввёл последнего. Восьмого.
Лазарев удивлял. Вернее, привлекал. И прежде всего внешностью. Мало того, что был высок, строен и подтянут. Он был красив и держался свободно, будто вокруг не было заводного солдата, слепящей лампы, двух хмурых офицеров в страшной форме. Словно голубь с улицы, взлетев на подоконник, оказался вдруг по ошибке в чьей-то клетке и завертел головой направо, налево, удивляясь, куда он попал? И искал своего. Такого же. Пернатого. Лазарев и на Минина так глянул, но по лицу скользнул – нет, не того он хотел увидеть. А на Жмотова даже не взглянул. И лейтенант не выдержал, буркнул:
– Красавчик попался.
– Ты что же, Лазарев, – с издёвкой настойчиво поймал всё же глаза подозреваемого оперуполномоченный, – подставил слюнтяя в главного?
– Вы о чём? – не понимая, вскинулся тот на Минина, и голубые глаза его под жаркой лампой заплавились морским сиянием.
– Леонтьева чего подговорили вожачком назваться?
– Жребий выпал. У нас кружок. Главных нет. У нас все равные. А здесь у вас главного всем найти надо. Савелий Михеевич тоже с этого начал. Не поверил даже.
– Кто? Савелий Михеич?
– Ну да. Товарищ майор. Который с нами первым встречался. А что с ним?
– Неважно, – Минин покривился, игла в левом боку опять дёрнулась. – Продолжай дальше.
– Ну мы и выбрали. А чтобы не обидно, бросили жребий. Вот и выпало Саше Леонтьеву.
– Значит, не отрицаешь, что тебя все слушались? – наклонился к подозреваемому Жмотов и вцепился обеими ручищами в стул за его спиной.
– А нам отрицать нечего. Мы и Савелию Михеевичу всё рассказали, как было.
– Это хорошо, – перехватил нить допроса Жмотов, нависнув над задержанным. – Это хорошо, что правду говоришь.
Минин осторожно до левого бока дотянулся, рукой попробовал слегка массировать, вроде помогало, он кивнул лейтенанту: продолжай, мол, я в порядке.
– Правдивые показания зачтутся, – тут же повысил голос Жмотов и совсем стул с Лазаревым к себе развернул, уставился глаза в глаза. – Скостят. Может, и семь копеек не понадобится получать[4].
– Зачем семь копеек?
– Не шлёпнут, – расхохотался Жмотов прямо в лицо Лазареву.