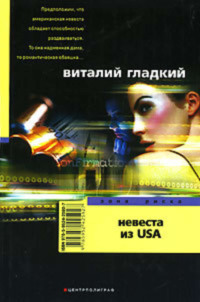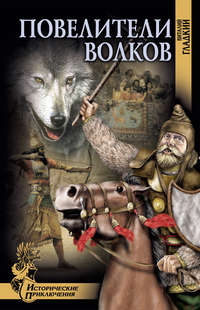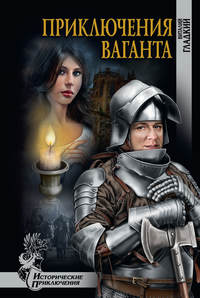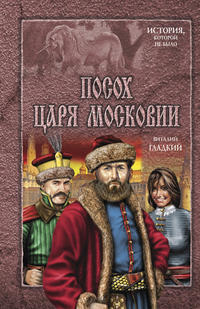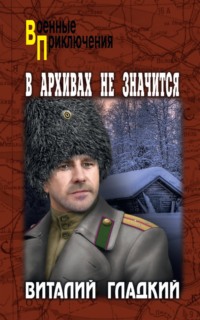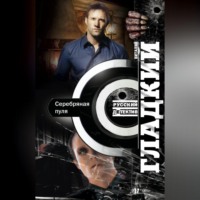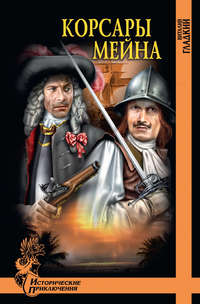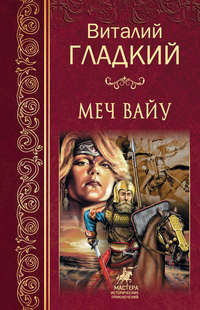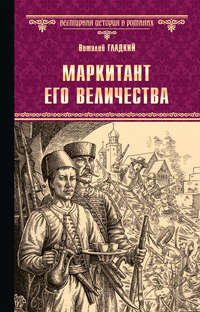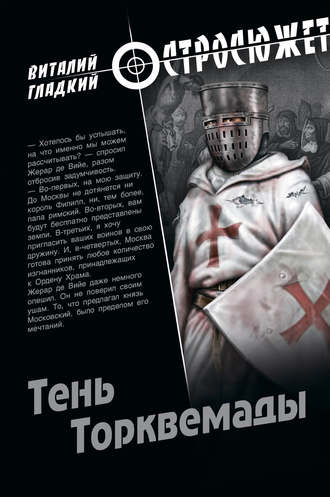
Полная версия
Тень Торквемады
– Мы и договор составили, – по-своему истолковал посадник молчание князя. – Вот, гляди, читай. Ежели с чем-то не согласен, скажи, подправим…
А мысленно добавил: «Если только эти правки не будут касаться наших вольностей…»
Юрий Даниилович взял в руки пергаментный свиток и начал читать:
«Благословение от владыки, поклон от посадника и от тысяцкого, и от всех старших, и от всех меньших, и от всего Новагорода господину князю великому Юрью. На сем, господин, Новагород крест целует. Княжение твое честно держать по пошлине, без обид…»
Князь не был большим грамотеем, поэтому читал медленно, и посадник весь извелся в ожидании:
«…Ни с Бежицы, княже, людей не выводить в свою волость, ни из иных волостей новгородских, ни грамот им давать, ни закладные принимать – ни княгине твоей, ни боярам твоим, ни слугам твоим: ни смерда, ни купчины».
Князь недовольно поморщился, но тут же лицо его стало невозмутимым и бесстрастным. Как обычно, новгородцы желали многого, а платить за это намеревались малой кровью.
«…А в Немецком дворе тебе, княже, торговать через нашу братию; и двора тебе не затворять, и приставов не приставлять. А гостям нашим гостить по Суздальской земле без рубежа. А суд рядить тебе на Петров день согласно старому обычаю. А гнева ты, княже, до Новагорода не держи – ни до одного человека. А в Новагородской волости тебе, княже, и твоим судиям не судить. И самосуда не замышлять. Ни старосту, ни холопа, ни робы без господаря твоим судиям не судить…».
Прочитав, князь задумался. Договор договором, а жизнь всегда вносит свои поправки, и никто князю не указ в том, как управлять подвластными ему землями, как и кого судить-рядить. Сила Новгорода и его деньги нужны были Юрию Данииловичу позарез. Но он понимал, что этот кусок чересчур большой для него, в горле застрянет. Пока хан Тохта жив (чтоб он побыстрее издох, нехристь!), ему в Новгороде не править.
То, что они с князем Михаилом Тверским затеяли усобицу, хана особо не волновало. Он не терпел лишь ослушников его приказов и нарушение Великой Ясы – сборника монгольских законов, составленного Чингисханом. Юрий Даниилович хорошо запомнил случай с русским ратником, который пленил мятежного темника Ногая.
Темник Ногай, правитель западных областей Орды – причерноморских степей и северного Крыма, попытался сбросить власть золотоордынских ханов и стал фактически независимым государем. Опирался Ногай в основном на половцев. К тому же, нуждаясь в поддержке на Руси, он договорился о союзе с Дмитрием Александровичем, князем Переяславля. В итоге честолюбивый темник достиг больших успехов, контролируя ханов Орды и проводя политику по собственному усмотрению. Так продолжалось до тех пор, пока энергичный хан Тохта не договорился, в свою очередь, о союзе с Андреем Александровичем, князем Городецким, войска которого пришли ему на помощь.
В 1299 году в решающей битве волжские татары, поддержанные русским войском, а также сибирскими и среднеазиатскими татарами Синей и Белой Орды, одержали верх. Сам Ногай попал в плен. Пленил грозного темника русский ратник. Но он не отвел пленника к хану, а отрезал ему голову, которую и принес Тохте. Поступок был с точки зрения военной монгольской этики неприличным – темника Ногая полагалось казнить, как преступника, по ханскому приговору, а вовсе не убивать самосудом как простого пленника. И Тохта, вместо ожидаемой русским ратником награды, велел отрубить ему голову.
Поэтому Юрию Данииловичу было над чем подумать. Хан Тохта редко менял свое решение, для этого нужен был повод более, чем веский. Только где его взять? Хорошо бы удвоить свою дружину, вот тогда можно было и Михаила взять за жабры, и за ярлык на большое владимирское княжение побороться.
Но за все нужно платить, а ратники дорого обходятся. Добрый боевой конь стоит не меньше семи гривен, а еще оружие, доспехи, наконец, харч… Коробья ржи стоит десять кун[21], берковец[22] соли – двадцать четыре куны, ветчинный окорок – пять кун… эдак можно в большой разор войти, с чем тогда в Орду ехать? Приедешь туда с пустыми руками на лошади, увезут из Орды на телеге с отрубленной головой.
Ну и что теперь ответить посаднику? Мол, подождите, люди добрые, пока Москва в силу войдет, вот тогда и… Но скажи так новгородцам, на смех поднимут. И никогда более княжить не пригласят. Он ведь заехал в Новгород не для того, чтобы в очередной раз схлестнуться с князем Тверским, а по причине более простой и прагматичной – ему позарез нужны были деньги. Московское купечество по зажиточности не шло ни в какое сравнение с богатым новгородским, торговавшим с Европой, поэтому только новгородцы могли дать ему большую ссуду.
Кроме того, Юрий Даниилович, сам отменный хитрец, не без оснований полагал, что у посадника имеется еще одна такая же грамотка, в которой вписано уже имя князя Тверского.
Неизвестно, как бы выкрутился князь Московский из этой сложной и непредвиденной ситуации, но тут ему на выручку пришел господин Случай. В дверь постучали, и в комнату без особых церемоний ввалился лохматый мужик, на шее которого висела гривна на цепочке – отличительный признак новгородского тысяцкого. Отвесив поклон князю, он обратился к посаднику:
– Там, енто, Лука Варфоломеевич прибыл… Желает свидеться.
– Ты разве не видишь, дубина, что мы с князем о делах важных толкуем?! Пусть подождет.
– Никак невозможно. Лука Варфоломеевич требует немедленной встречи. Важные сведения привез.
– Ну, коли так… – Посадник огладил бороду и не без некоторого смущения обратился к Юрию Данииловичу: – Вот ведь как бывает… дело, значит, важное, не терпит отлагательств… Уж извини, князь, – служба. Обожди маленько.
– Понимаю, понимаю… – Князь облегченно вздохнул. – Если надо, значит, надо. Долг превыше всего.
Он не знал, кто такой Лука Варфоломеевич, но, судя по поспешности, с которой новгородский посадник выскочил за дверь, князь догадался, что человек это не простой и Юрий Мишинич ему чем-то обязан.
Так оно и было. Посадник, как и многие другие новгородские бояре, принимал активное участие в подготовке грабительских походов ушкуйников – ссуживал разбойников деньгами, получая при этом немалую прибыль. Большие вольности породили в Новгороде так называемый «охочий люд», готовый на любые авантюры. Чтобы избавиться от их буйства, бояре нашли им опасное, но одновременно и прибыльное дело – расширять пределы Новгородской волости и защищать свои интересы от иноземцев. С чем ушкуйники и справлялись в меру своих сил и возможностей.
В этот раз ватагу Луки Варфоломеевича посадник снаряжал единолично. Уж больно богатый прибыток намечался при удаче. А Лука был удачливым атаманом. Обычно ушкуйники промышляли по рекам, но тут Лука Варфоломеевич решился выйти в море, чтобы пощипать чужеземные берега – в отместку за поход на новгородцев, который несколько лет назад совершила сумь вместе со свеями под командованием свейского маршала Кнутссона. Тогда флотилия свеев вошли в Нево и пожгли новгородские ушкуи; на большее духу у иноземных разорителей не хватило…
Когда Юрий Мишинич возвратился, князь Московский уже обдумал ответ, и теперь, довольно щурясь, как сытый кот на завалинке, прихлебывал из серебряного кубка вино, которое принесли ему по наказу посадника – чтобы скоротать время с полным удовольствием. Юрий Мишинич был сильно взволнован.
– Неужто случилась какая-то беда?! – встревожился князь.
– Не знаю, что и думать… – Посадник плеснул в кубок вина и выпил одним духом. – Боярин доложил, что на подходе к Новгороду восемнадцать больших насад с иноземными каликами.
– Какого рожна им здесь нужно?! Что они забыли в Новгороде? – удивился Юрий Даниилович. – Святые земли в другой стороне.
– В том-то и дело, что калики эти не простые. Рыцари это, храмовники.
– Не может быть! – поразился князь.
И до Москвы уже дошли вести, что французский король затеял свару с Орденом рыцарей Иерусалимского Храма и что многие из них томятся в темницах и ждут суда. Значит, король Филипп не всех храмовников выловил… Похоже, это никакие не калики-паломники, а беглецы от правосудия. Посадник рассказывал о том, что узнал от Луки Варфоломеевича, а изворотливый мозг князя уже работал на полную мощь.
Он знал, что Орден очень богат. В Европе ему принадлежали обширные земельные владения, рыцари Храма обладали большими привилегиями, дарованными им папой римским, которому Орден непосредственно подчинялся, а также монархами, на землях которых проживали тамплиеры. Орденские служители занимались ростовщичеством, накопив при этом большой капитал. И если ломбардцы и евреи, которые тоже давали деньги в рост, занимались ростовщичеством тайно, то храмовникам в этом вопросе покровительствовала сама церковь.
Тамплиеры изобрели специальные ценные бумаги – расписки. Причем, если сумма вклада исчерпывалась, то вкладчик мог взять в долг с последующим восполнением наличности родственниками. Каждая расписка снабжалась отпечатком пальца вкладчика. За эти операции Орден брал небольшой налог. Наличие расписок-чеков освобождало купцов и путешественников от необходимости перемещений драгоценных металлов и денег. Можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком кожи, и в любой комтурии тамплиеров получить полновесную монету. Благодаря этому нехитрому способу денежная собственность владельца чека становилась недоступной для разбойников и грабителей, число которых было очень велико, а Орден в конечном итоге получал от этих операций немалую прибыль.
– …Хорошо бы, князь, нам вместе встретить заморских калик, – тем временем продолжал посадник. – Все ж восемнадцать насад… да и рыцарей там много. Как бы беды не вышло. Вдруг это уловка тевтонцев или свеев? Чтобы застать нас врасплох. А тут ты со своей дружиной. У тебя ратники все молодцы как на подбор, к тому же, хорошо обучены, не то, что наши бояре, – польстил князю Юрий Мишинич. – Не посмеет заморский люд в твоем присутствии зло свершить.
Вот оно! Озарение пришло свыше – будто молнией ударило. Задружить с тамплиерами! Гляди, и деньгами помогут, не бедные, чай. Но главное – ратниками. А уж как могут драться рыцари Храма, Юрий Даниилович хорошо знал. Отец рассказывал, как русские безземельные князья и их дружины принимали участие в крестовом походе и вместе с герцогом Годфруа де Буйоном решили исход битвы за Никею. Принять беглых храмовников на службу! Вот тогда и посмотрим, кто достоин места великого князя Владимирского…
– Умно, умно… – важно ответил князь. – Исполню твою просьбу, а как же. Как не помочь Новгороду в таком серьезном деле. – Он встал. – Благодарствую за угощение, боярин, пора и честь знать. Пойду к дружине, нужно готовиться к приему заморских гостей – оружие и доспехи начистить до блеска, одежду починить… да и время уже позднее.
Растерянный посадник, голова которого бурлила словно котел от разных мыслей, машинально поклонился князю, и тот отправился восвояси. В этот момент Юрий Мишинич забыл про все на свете, в том числе и про грамотку, которую намедни читал Юрий Даниилович. Все его мысли были заняты заморскими каликами…
День выдался – загляденье. Солнце грело по-летнему, небо было чистым, только на горизонте ходили тучки, похожие на лебединый пух. Легкий ветерок над рекой был шаловлив, ласков и нес не обычную сырость, а сухое тепло.
Главная Волховская пристань полнилась народом. Впереди стояли князь Юрий Даниилович, посадник и владыка новгородский, архиепископ Феоктист. По причине плохого здоровья он должен был вскоре уйти со своего поста и удалиться в Благовещенский монастырь, но новый владыка еще не прибыл в Новгород, и Феоктист, превозмогая слабость и опираясь на церковного служку, стоически ожидал появления храмовников. За ними теснились бояре – все оружные, в богатых одеждах. Позади бояр взволнованно переговаривались нарядно одетые горожане, в основном житьи люди и купечество.[23] Были на пристани и черные люди – весть о прибытии каравана заморских калик разнеслась по городу очень быстро. У многих новгородцев – не только бояр – на поясе висели мечи.
Меч для новгородцев был таким же привычным, как и нож, без которого за стол не сядешь – все ели с помощью рук и ножа (вилкой в те времена пользовались лишь венецианские дожи и папа римский и то лишь потому, что она была диковинкой и представляла собой произведение искусства). Выйдя на улицы Новгорода, иноземный купец мог подумать, что город сплошь населен рыцарями. По бревенчатым мостовым стучали подковы коней, на которых гордо восседали бородатые мужи в броне и с оружием, пешим ходом шествовали, не уступая никому дороги, детины в богатых одеждах с непременным мечом у пояса. Такие же мечи были и у тех, о ком говорили, что «у него в кармане вошь на аркане» – у голи перекатной.
Впрочем, можно было не сомневаться, что он принадлежит к «охочему люду». Спустив разбойную добычу в корчме, этот «вольный стрелок» неприкаянно слонялся по городу, ожидая набор добровольцев в очередной набег на земли Орды. Эти ежегодные набеги были для ушкуйников вроде развлечения, потому что прежде воинственные монголы и татары стали вести оседлую жизнь, разжирели и обленились, и трепать их было одним удовольствием. Правда, не всегда эти походы заканчивались удачей. Воинское дело всегда палка о двух концах – то ли ты будешь сверху, то ли тебя зароют в сырую землю или бросят воронью на поживу.
И немцам, и арабам требовалось некоторое время, дабы понять, что меч, служивший во всех других странах признаком воинского сословия, на Руси могли носить все свободные и достаточно состоятельные для его покупки мужи. Меч не только носили, но и с легкостью использовали для защиты своего достоинства и имущества. Даже буйные викинги в свое время усвоили, что в Хольмгарде толкать горожанина, тыкать в него пальцем, а уж тем более хватать за бороду – опасно для жизни.
Вместе с новгородцами стояла и дружина князя Московского. Блистая доспехами, оружием и червлеными щитами, ее стройные ряды выглядели весьма внушительно. Но москвичи держались немного поодаль от новгородцев. Ведь принимающей стороной был Новгород, а не Москва. Это обстоятельство портило настроение Юрию Данииловичу, и он, нервно покусывая ус, размышлял, как здорово было бы, получи он ярлык на владимирское княжение. «Все равно верх будет моим! – злобно думал князь Московский, вызывая в зрительной памяти образ князя Тверского. – Ужо получишь ты у меня за все обиды!»
Парусные насады тамплиеров поразили новгородцев размерами – таких больших судов Северная Русь не строила. Но сами рыцари Храма не показались им диковинкой. Они стояли вдоль бортов слитной железной массой, готовые в случае нападения драться до последнего. В полном боевом облачении тамплиеры были очень похожи на рыцарей Ливонского ордена, и когда новгородцы смогли наконец разглядеть заморских калик во всех деталях, их руки невольно легли на рукояти мечей – еще жива была память о князе Александре Ярославиче, который нанес сокрушительное поражение Ордену в Ледовом побоище на Чудском озере. Несмотря на то, что двадцать лет назад Новгород заключил мирный договор с Ливонским орденом, новгородцы относились к рыцарям-ливонцам с предубеждением и опаской.
Шлюпка с предводителем рыцарей Храма причалила к пристани ровно напротив того места, где стояли князь, посадник и архиепископ; суда тамплиеров держались середины Волхова, не решаясь причалить без соизволения хозяев земли Новгородской. Жерара де Вийе сопровождали Гильерм де Лю и Жеро де Шатонефе. Они ступили на причал первыми. За ними гребцы-сервиенты[24] вынесли несколько сундуков с дарами.
Остановившись напротив посадника, рыцари поклонились ему, и Жерар де Вийе несколько витиевато сказал на ломанном русском:
– В вашем лице я приветствую благословенный Господом город Хольмгард, истинную жемчужину северных земель. Мы есть несчастные изгнанники, вынужденные бежать от несправедливого гнева короля французского. Прошу принять от нас эти скромные дары и позволить нам ступить на вашу землю… – Жерар де Вийе подал знак, и сервиенты открыли сундуки, выставленные в ряд.
Предводитель рыцарей Тампля знал, к кому обращаться, хотя не заметить князя Московского он не мог. Мало того, Жерару де Вийе было ведомо, что Юрий Даниилович будет в числе встречающих. Дело в том, что по получении известия о прибытии тамлиеров в Новгород, посадник послал навстречу им опытного лоцмана, владеющего иноземными языками, который хорошо знал и коварное озеро Нево, и фарватер реки. Он-то и поведал Жерару де Вийе, как вести себя при встрече. Хозяином Новгорода был посадник, а князь Московский всего лишь гостем. Кроме всего прочего, у лоцмана была и другая задача. Он должен был проведать замыслы заморских рыцарей и в случае какой-либо опасности для новгородцев подать знак береговой страже.
При виде содержимого сундуков посадник едва не ахнул от приятного изумления, но все-таки промолчал – должность обязывала быть невозмутимым. Чего нельзя было сказать про бояр – они заволновались и одобрительно загудели. Такого щедрого подношения новгородцы еще не видали. Сундуки были заполнены золотыми и серебряными монетами, которые очень высоко ценились в Новгороде, разнообразными драгоценными каменьями и серебряной посудой. Сколько все это добро могло стоить, не смог подсчитать в уме даже князь Московский; он хоть и слабо владел грамотой, но считать умел быстро.
«Надо их сманить в Москву, – подумал он, пожирая глазами сокровища. – Надо! Любой ценой!»
– От имени Новгорода милости прошу всех вас быть нашими гостями. – Посадник церемонно поклонился. – Вам будут указаны подворья, где вы можете разместиться, а также доставлены питье и еда в нужном количестве за счет городской казны.
Такое предложение было большой щедростью со стороны Юрия Мишинича. Но дары тамплиеров стоили того…
* * *Вечером Юрий Мишинич рассказывал князю Московскому о переговорах с предводителем тамплиеров, которые происходили всю вторую половину дня:
– …Но мы не можем всех их отставить в Новгороде! – Посадник смахнул пот со лба и жадно припал к краю кубка, в котором находилось охлажденное вино.
– Почему? – вроде безразлично спросил князь.
А сам насторожился как охотник, увидевший красного зверя. Он предполагал, что именно так оно и будет, ждал этих слов от посадника. Похоже, его надежды сманить тамплиеров в Москву не так уж и беспочвенны.
– В городе и сейчас много иноземцев. А тут еще эти… И все оружные, все добрые вои. Ну, как заварится какая-нибудь каша? Своим лад не можем дать, а ежели еще и эти возьмутся за мечи, то тогда нам хоть с моста да в воду.
– А как они мыслят свою жизнь в Новгороде? – осторожно спросил Юрий Даниилович.
– Готовы стать под наши знамена… – буркнул посадник. – Но у нас нет постоянной дружины! Если наступает лихая година, собираем ополчение, а в мирное время все мы трудимся. И потом, где столько средств в казне найти, чтобы содержать такую большую дружину?! Правда, одно предложение главного боярина гостей нам пришлось по нутру…
– И что же он предложил?
– Построить на Ореховом острове крепость. Пока деревянную – леса там вполне хватит для этого дела, а затем и каменную. Ведь Ореховый остров – это пробка, затыкающая проход в Нево. Никакая вражина не пройдет мимо. Мы уже как-то думали на сей счет, да все руки не доходят. И средств не хватает…
– «Пожадничали новгородцы, пожадничали, – мысленно улыбнувшись словам посадника, подумал князь. – Место там для крепости самое что ни есть подходящее. Эх, мне бы княжение новгородское! Сразу крепостцу поставил бы на Ореховом острове».
– Может, и впрямь принять это предложение?
– Разумно, очень разумно.
– Так-то оно так, но ведь всех приезжих на Ореховый остров не воткнешь. Их слишком много. Вот и думай теперь, как быть.
– Позволь, боярин, прийти к вам на выручку.
– Это как? – оживился посадник.
– Оставьте себе нужное количество воинов для гарнизона на Ореховом острове, а остальных я приглашу в Москву.
– А если не уговоришь?
– Уговорю, – с уверенностью ответил князь.
Он уже знал, что предложить беглым тамплиерам…
На следующий день Жерар де Вийе и его ближайшие помощники были приглашены на Княжий двор – отобедать вместе с князем Московским. Это была великая честь для тамплиеров, и они облачились в свои лучшие одежды. Только теперь, по совету посадника (и по здравому размышлению), тамплиеры сняли свои белые плащи с красным крестом и надели кафтанье, которое носили все иноземные гости, чтобы особо не выделяться из толпы новгородских гостей. Храмовникам меньше всего хотелось, чтобы король Филипп или папа римский узнали, в какую страну бежали рыцари опального Ордена.
Княжеской резиденцией считалось Городище. Оно находилось при истоке реки Волхов из озера Ильмень, напротив Юрьева монастыря. Здесь обычно держал свой стол призванный новгородским вече князь, его дружина и разные службы. Но поскольку Юрий Даниилович не имел такого статуса, московского гостя поселили на Княжьем дворе, где размещались приказы княжеских наместников. Здесь же находилась и древняя Вечевая площадь с деревянным помостом – «вечевой степенью», где во время собрания размещались высшие новгородские сановники.
К ограде Двора примыкала самая оживленная часть знаменитого новгородского Торга, где торговали привозными серебром и золотом в слитках, медью, сукном, винами, шелковыми тканям и пряностями. Восточные ароматы проникали в княжеские покои, и разомлевшему от обильного угощения Жерару де Вийе временами казалось, что он находится в парижском Тампле, а за окном шумит-гудит рынок Шампло.
– Возвращаясь к нашему разговору, хочу предложить вам следующее… – Голос князя Московского, обычно грубовато-властный, стал медоточивым и сладким. – Вы и ваши люди переезжают на жительство в Москву. Понятно, за исключением тех, кто пожелает остаться в Новгороде. Правда, здесь вам вряд ли предложат больше, чем я…
– Хотелось бы услышать, на что именно мы можем рассчитывать? – спросил Жерар де Вийе, разом отбросив задумчивость и расслабленность, навеянные воспоминаниями о недалеком прошлом.
– Во-первых, на мою защиту. До Москвы уж точно не дотянется ни король Филипп, ни, тем более, папа римский. Во-вторых, вам будут бесплатно предоставлены земли и возможность обустраиваться так, как вы сами захотите. В-третьих, я хочу пригласить ваших воинов в свою дружину. Они будут на моем полном обеспечении. И, в-четвертых, Москва готова принять любое (подчеркиваю – любое!) количество изгнанников, принадлежащих к Ордену Храма.
Жерар де Вийе даже немного опешил. Он не поверил своим ушам. То, что предлагал князь Московский, было пределом его мечтаний! По рассказам людей бывалых, прецептор знал, что русским можно доверять. Они не изменяют своему слову… в отличие от франков и их короля Филиппа, надменного глупца и клятвопреступника.
Немного помедлив, Жерар де Вийе выпрямил спину и торжественно молвил:
– Быть по сему!
Словно в подтверждение его слов за окном раздался гулкий бас вечевого колокола. Посадник собирал новгородский люд, чтобы решить вопрос с заморскими каликами, которых обидели король галлов и папа римский. Предложение Жерара де Вийе построить крепость на Ореховом острове и поставить там гарнизон, состоящий из рыцарей Ордена Храма, бояре уже одобрили, и дело оставалось за малым – утвердить этот полезный Великому Новгороду замысел народным Вече.
Глава 1
Великий инквизитор. Севилья, 1564 год
Беда пришла ранним утром. Сонные матросы каравеллы «Ла Маделена» никак не могли понять, что хочет от них монах-доминиканец в черной сутане с капюшоном. С небольшой группой солдат-копьеносцев он явился на корабль, когда небо на востоке уже начало светлеть, а прозрачные края туч над горизонтом покрылись позолотой, окрасив тихие воды реки Гвадалквивир в розовый цвет. Наконец до боцмана, который успел вылить на похмельную голову ковшик холодной воды, кое-что дошло, и он велел одному из матросов позвать капитана.
Капитан каравеллы Альфонсо Диас де Альтамарино появился на палубе в элегантном костюме из черной парчи, отделанном серебряными позументами, и с неизменной шпагой на боку. «Ла Маделена» пришвартовалась в порту Севильи вечером. Разгружаться было поздно, и он дал матросам возможность отвести душу в многочисленных припортовых тавернах за бутылкой доброго вина, потому как во время рейса существовал «сухой» закон – самое неприятное и болезненное явление для всех морских волков. Вино подавалось лишь к обеду, и то немного, да еще повар доливал спиртное в воду для питья, чтобы команда не маялась животами. Поэтому матросы поднялись на борт судна далеко заполночь и качались так, будто по Гвадалквивиру пошла высокая волна.
Путь из Нидерландов выдался трудным, море почти все время штормило, но капитан надеялся, что выручка за груз, покоившийся в трюме, перевесит все тяготы, выпавшие на долю команды. «Ла Маделена» доставила в Севилью высоко ценимый новгородский воск и лен; но главными сокровищем капитана, который одновременно являлся и купцом, была пушнина – шкурки соболя, норки, бобра и горностая. За сотню собольих шкур из России в Испании платили девяносто золотых дукатов[25]. Сотня шкурок норки стоила тридцать пять дукатов, а сотня бобровых и горностаевых шкур – около двадцати. В последние годы дефицитные русские меха сильно поднялись в цене, и сумасбродные модницы и модники, в особенности придворные, готовы были выкладывать за них баснословные суммы.