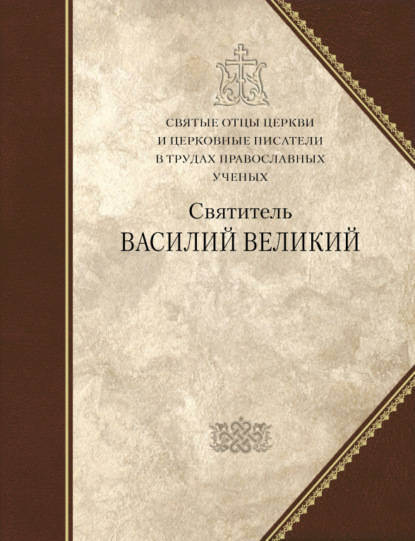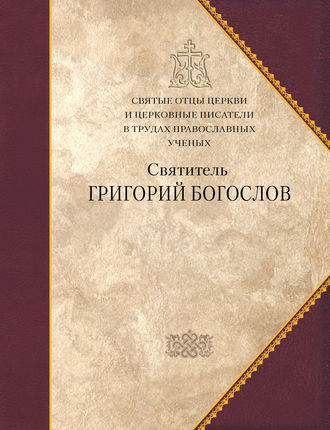
Полная версия
Святитель Григорий Богослов
Вот побуждения, по которым Григорий немедленно по рукоположении удалился в Понт. Видно, что и Василий Великий не осуждал своего друга за такой образ действий, иначе он не дозволил бы ему оставаться в своей пустыне от праздника Рождества Христова до самой Пасхи. По всему видно, что Григорию очень приятно было жить вместе со своим другом, но отец многократно и даже с угрозами убеждал его возвратиться в Назианз. Можно было опасаться, как бы нежность не обратилась в клятву[32], по обыкновенному свойству прогневанного простодушия[33]; и назианзяне сильно желали возвращения своего священника. Григорий долго боролся с мыслями, как поступить, находясь между двумя страхами; наконец его победил страх оказаться непокорным отцу. «Я стою в средине, – говорит он в объяснение своих действий, – в средине между слишком дерзновенными и слишком боязливыми. Я боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, которые всего убегают. Во мне самое время ослабило чувство бедствия»[34]. Св. Григорий сказал себе, что «против страха быть начальником подаст, может быть, помощь закон благопокорности, потому что Бог вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто возлагает на Него все надежды»[35]. Самое же сильное побуждение к возвращению состояло в том, что он вспомнил о временах давних и, встретив одно давнее сказание, извлек из него для себя наставление в настоящем обстоятельстве. Это сказание о бегстве пророка Ионы. Для Ионы, «поелику он предвидел падение Израиля и предчувствовал, что пророчественная благодать переходит к язычникам», по этой причине, может быть, «извинительно было отрекаться от пророческого служения. Но осталось ли бы какое извинение и место к оправданию для меня, если бы я стал долее упорствовать и отрицаться от возлагаемого на меня ига служения?»[36]
Итак, Григорий рассудил к Пасхе возвратиться в дом родительский и примириться с оскорбленным отцом и гражданами Назианза; из них многим казалось, что Григорий был сам не в себе, соделался иным человеком, противился и упорствовал больше, нежели сколько дозволительно. Родители с радостью и любовью приняли Григория, хотя он и огорчил их своим неожиданным удалением в Понт; но не видно было этого со стороны граждан назианзских. В самый первый день Пасхи, в первом Слове к своей пастве, Григорий прежде всего испрашивал себе прощения и кротко объяснял причины своего замедления, но в этот день многие из граждан не пришли в церковь и не показали ему той внимательности, которая могла бы быть порукой за будущее. Это вновь и весьма опечалило Григория, тем более что они сами вызывали его из Понта; светлый праздник для Григория превратился не в праздник[37]. Вскоре он произнес другие два Слова; в одном из них он высказал несколько кротких обличений жителям Назианза за непонятную и горестную для него изменчивость их чувств или превратность в расположении, а в другом подробно объяснил все причины и побуждения своего удаления в Понт (отсюда-то и занято было все, что прежде говорилось об этом)[38]. Чрез эти два Слова Григорий возвратил себе любовь и расположение граждан.
И в смутные времена царствования Констанциева[39] отличительным свойством паствы назианзской была непоколебимость и безмятежие, так что часто называли ее ковчегом Ноевым за то, что одна спаслась от всемирного потопления и хранила в себе семена благочестия[40]. Конечно, это было в соответствие заботам епископа и его сына пресвитера; но со вступлением на престол Юлиана и в Назианзской епархии открылись разделения по тому случаю, что отец Григория по простоте подписался под символом веры, составленным полуарианами (в котором слово ομοούσιος – «единосущный» заменено было на ομοιούσιος – «подобосущный»). Хотя отец Григория, по выражению сына, в этом случае не погрешил мыслью и чернило не очернило души его[41], но христиане назианзские отделились от своего пастыря; даже самые иноки, строгие по жизни и отличавшиеся особой преданностью своему епископу, хотя позднее других, оставили его и просили соседних епископов кого-либо из избранных старцев посвятить в пресвитера[42]. Повод к неблагоприятным толкам об отце Григориевом подавал еще брат Григория Кесарии, оставшийся на службе при дворе императорском и в царствование Юлиана. «И у своих и у посторонних, сколько ни есть нам знакомых, – по словам Григория, – обратилось в постоянное занятие говорить следующее: „Епископский сын ныне уже в службе, домогается мирских чинов и славы и побеждается корыстолюбием; и так ныне все воспламенено страстью к деньгам и для них не щадят люди души своей. Как теперь епископы уговорят другого не оскверняться общением с идолами, как теперь наказывать проступившихся в чем ином, когда сам епископ не смеет сказать слова по причине случившегося у него в доме?“ Вот что, или еще и гораздо сего худшее, слышим мы каждый день и от тех, которые говорят это, может быть, по дружбе, и от тех, которые нападают из неприязни»[43].
В таких обстоятельствах Григорий, как преданный сын, был истинным утешителем для своих родителей. Отец его так был огорчен такими слухами о Кесарии, что самая жизнь была ему в тягость. Посему для успокоения его Григорий уверял, что Кесарии скоро откажется от места и не будет больше причинять печали своему отцу. От матери же Григорий разными выдумками скрывал известие о брате Кесарии и толки из-за этого по тому опасению, как сам говорит в одном письме, «что государыня матерь, если услышит о тебе [Кесарии] что-нибудь неприятное, впадет в скорбь совершенно безутешную и что она как женщина, по крайнему благоговению, неспособна соблюсти меру в подобных случаях»[44]. В письме Кесарию Григорий убеждал его оставить службу при дворе и раскрывал все неблагоприятные следствия, каких можно ожидать от этой службы. Из письма видно, что Григорию не нравилась придворная служба Кесария не только при Юлиане, но и при его предшественнике[45]. Недолго молчал Григорий и по случаю отделения паствы от его отца. Самое молчание имело целью привлечь Дух и отрыгнуть[46] слово благо (Пс. 44:2)[47]. Прекращение смятения впоследствии Григорий приписывал молитвам и увещаниям отца, но, однако же, дозволял себе и такие слова: «…и я участвовал в его благочестии и деятельности, ибо помогал ему во всяком добром деле и как бы сопутствовал и следил за ним, почему и удостоился совершить большую часть дела»[48]. Но каких трудов стоило ему это примирение, неизвестно. До нас дошло только одно Слово его[49], которое говорено уже по воссоединении монашествующих. Здесь высказывалось уже благодарение Господу за умирение разделенных, и увещание направлено только к подкреплению и утешению тех, которые присоединились к Церкви.
Конечно, важное влияние на паству назианзскую имели еще и те два обличительных Слова против Юлиана, которые произнесены Григорием вскоре по смерти этого отступника. Это было лучшее противодействие похвальным речам, в которых превозносили умершего ученые язычники, и в числе их особенно Ливаний[50]. Слова Григориевы написаны, кажется, по совету или даже при помощи Василия, потому что в конце последнего Слова встречаются такие выражения, обращенные к лицу Юлиана: «Сие приносят тебе Василий и Григорий, противники и противоборники твои, как сам ты думал и других уверял, своими угрозами поощряя нас к вящему благочестию»[51]. Из этих же обличительных Слов Григория видно, что Юлиан усиленно убеждал его брата Кесария принять сторону язычников и, когда уверился в безуспешности убеждения, с огорчением сказал: «Благополучный отец, злополучные дети»[52]; последним выражением явно намекал он и на Григория.
Спустя год после сего Григорий принял живое участие в примирении Евсевия, епископа Кесарийского[53], с другом своим пресвитером Василием. Епископ Евсевий произвел сильные смятения в Кесарии единственно своей завистью к другу Григориеву. Притеснения Василию были так явны, что почитатели его, монахи и другие христиане кесарийские, хотели отделиться от епископа. Это отделение могло быть еще более опасно по своим последствиям, потому что император Валент[54], покровитель ариан, уже поставивший во многих православных церквах епископами ариан, начинал тем же угрожать и Кесарии. И дружба[55], и ревность о благе православных побуждали принять возможные меры к предотвращению зла. Посему, как скоро распространились слухи, что монахи кесарийские из-за Василия отделяются от своего епископа, Григорий сам пришел в Кесарию, советовал Василию оставить на время служение в Кесарии и удалиться в свой монастырь, а по возвращении в Назианз написал и ходатайственное письмо за Василия к епископу Евсевию. Письмо это ясно свидетельствует о сильной любви Григория к Василию и к справедливости, а кроме сего, замечательно по смелости, с какой пишет воодушевленный чувством правоты священник к своему митрополиту. Вот извлечение из сего письма: «Как радуюсь, что делаешь мне честь и приглашаешь меня на духовные собрания и совещания, так тяжело для меня оскорбление, какое терпел и доселе терпит от твоего благоговения досточестнейший брат Василий, с самого начала мной избранный и доныне остающийся для меня товарищем жизни, учения и самого высокого любомудрия… ты, унижая его и оказывая честь мне, по моему мнению, поступаешь почти так же, как если бы кто одного и того же человека стал одной рукой гладить по голове, а другой бить по щеке или, подломав основание дома, начал расписывать его стены и украшать наружность. Если убедишься сколько-нибудь моим словом, то сделаешь по-моему. А я прошу убедиться, потому что это и справедливо. Если обойдешься с Василием как должно, то он будет служить тебе. А мое дело следовать за ним, как тени за телом»[56]. Евсевий оскорбился таким письмом, но Григорий не считал нужным просить извинения и в следующем письме говорил не менее смело: «Хотя ты и выше по степени, однако же дай и мне несколько свободы и справедливого дерзновения, а потому будь к нам благосклоннее. Если же судишь о моем письме как о письме служителя, обязанного смотреть тебе в глаза, то в этом случае и удары приму, и плакать не буду»[57]. Хотя и после этого письма Евсевий обвинял Григория в низости[58], но, когда Григорий по новому приглашению явился в Кесарию, Евсевий уже охотно обещался в знак примирения писать самому Василию просительное и пригласительное письмо[59]. Узнав об этом, Григорий, со своей стороны, немедленно известил об этом Василия, убеждая его не доводить своего епископа до такого уничижения, но предупредить его или своим письмом, или немедленным возвращением. Этот высокий подвиг любви был совершенно по душе Василию – он немедленно явился в Кесарию и успешно разрушил все замыслы собравшихся сюда ариан.
В этом деле борьбы с арианами помогал Василию и Григорий, явившийся сюда по его вызову, но в чем состояла его помощь, неизвестно; на это важное содействие указывают только следующие прикровенные[60] выражения Григория в похвальном Слове Василию: «Если с Павлом подвизался и Варнава, который о сем говорит и пишет, то и за сие благодарение Павлу, который его избрал и соделал сотрудником в подвиге»[61]. Ход речи ясно показывает, что под Павлом разумеется Василий, а под Варнавою – автор слова.
Из деятельности Григория в следующие шесть лет его жизни, до возведения Василия на архиепископский престол, известны только его домашние заботы и беспокойства. Брат Григория Кесарии хотя оставил службу при дворе в царствование Юлиана, но при его преемниках опять был вызван туда. Государи даже препирались между собой в том, кто из них более ласкал Кесария и кто имел более права назвать его искреннейшим другом и приближенным[62]. По должности хранителя царской казны, которая дана была ему сверх должности первого врача, он должен был прожить несколько времени в Никее Вифинской. Но здесь в 368 году случилось страшное землетрясение, от которого из знатных жителей спасся почти один Кесарии. Это избавление от внезапной смерти было тем отраднее, что Кесарии доселе был только в числе оглашенных, еще не был крещен. Григорий и прежде много раз в своих письмах убеждал брата оставить мирскую жизнь, а теперь самым чувством живой благодарности за чудесное избавление склонял его принять крещение и вместе с сим просил его возвратиться в дом[63]. О том же убеждал писать к Кесарию и Василия Великого. Кесарии послушался, но вскоре после крещения умер. Григорий сильно поражен был его смертью[64]. В чувстве глубокой скорби Григорий обнимал и лобызал все, напоминавшее о Кесарии[65], но его смерть, плачевная для истинно братской любви, принесла Григорию еще много других огорчений.
К отцу Кесария во множестве стали являться мнимые заимодавцы сына. Имущество Кесария при жизни его было в руках служителей и таких людей, которые соблюли чрезмерно мало, и это немногое по желанию умершего роздано было нищим. Пока было можно, родители Кесария расплачивались с мнимыми заимодавцами, так что многие жалели даже о том, что они не просили большего. Но, смотря на пример предупредивших[66], и прочие стали объявлять ложные иски[67]. Разыскивать справедливость этих исков отец поручил жившему у него сыну. Григорию надобно было проводить время среди волнений многолюдных собраний, надобно было выслушивать возражения противников. Блюстители законов были подкуплены искателями чужого имущества. Из родных же никто не помогал Григорию. Все эти беспокойства тем более тяготили и мучили Григория, что и на будущее время никто не мог освободить его от попечения о доме родительском и от несносного надзора за служителями. Прежде Григорий твердо надеялся в этом на Кесария, который действительно отклонял от него все беспокойства и почитал его, как не почитал никто другой, и уважал, как иной уважал только любимого отца[68]. При этом Григорий часто уносился мыслями к воспоминанию о мирной жизни в пустыне Василиевой, и в нем рождалось глубокое раскаяние о том, что прежде у него недостало твердости духа навсегда избрать для себя пустынную жизнь: «Там [в этой пустыне], живя один вдали от людей, носил бы я в сердце всецелого Христа, к Единому Богу вознося чистый ум. Доселе не испытывал я столь сильных и многочисленных горестей, не страдал я столько и тогда, как двадцать дней и ночей лежал на корме корабельной в ожидании ужасов кораблекрушения, не скорбел столько и во время землетрясения в Афинах и тогда, как, вертя прутом, поранил себе изогнутый угол ресницы. Много потерпел я бедствий, но доселе не встречались такие несчастия, какие напоследок приразились мне. Я новый Иов, недостает только подобной причины моих страданий. Я один известен всякому не тем, что имею пред другими преимущество в слове или в силе руки, но своими скорбями и сетованиями. Моя слава в скорбях: на меня из сладостной руки Твоей, Царь мой Христос, Ты истощил все горькие стрелы»[69].
Впрочем, при всей этой сильной скорби у Григория доставало мужества, чтобы пролить в душу скорбящего родителя лучшие христианские утешения и почтить своего брата похвальным Словом[70]. Такое Слово было необходимо и потому, что некоторые обстоятельства в жизни Кесария требовали объяснения. Так, например, Кесарии долго не принимал крещения и довольно долго не оставлял придворной жизни даже и тогда, когда был императором Юлиан Богоотступник.
Около этого времени скончалась и сестра Горгония, бывшая в замужестве за язычником; пред смертью своей она, впрочем, обратила его в христианство[71]. Ее строгая и благочестивая жизнь была очень известна назианзской пастве; к ее советам прибегали не только родственники, единоземцы и соседи, но и все знавшие ее в окрестности, и ее увещания и наставления почитали для себя ненарушимыми законами[72]. А потому и ее память Григорий почтил похвальным Словом – сколько для утешения скорбящих, столько и для назидания других примером ее жизни и для сохранения ее памяти в потомстве. «Должно обращать большее внимание, – говорит Григорий, – не на мнение людей злонамеренных, которые могут обвинить в пристрастии, а на мнение благонамеренных, которые требуют должного. Всего несообразнее думать, что поступим справедливо, кого-либо из своих лишив слова, чрез которое особенно обязаны мы служить людям добрым и умершим можем доставить бессмертную память»[73].
В 370 году сделались нездоровы и его друг, и его отец, а вскоре и его мать. Тяжкая болезнь постигла Василия незадолго до избрания его в епископы. Когда же епископы стали собираться в Кесарию, по смерти Евсевия, для избрания ему преемника, Василий уже довольно поправился в своем здоровье, хотя и приглашал к себе Григория, ссылаясь на болезнь. Есть причины думать, что Василий призывал своего друга для того, чтобы отклонить от себя кафедру епископскую и в присутствии Григория указать на него как на одного из лучших кандидатов для занятия кесарийского престола. К этой мысли приводят следующие выражения Григория из письма его к св. Василию: «Вызывал ты меня в митрополию, когда нужно было совещаться об избрании епископа. И какой благовидный и убедительный предлог! Притворялся, что болен и находишься при последнем издыхании, желаешь меня видеть и передать мне последнюю свою волю. Удивляюсь, как ты думаешь, что не одно и то же прилично и тебе и мне, которых в начале так сдружил Бог, что и жизнь, и учение, и все у нас общее, и как подумал, что тут будут выставлять на вид людей благоговейных, а не сильных в городе и любимых народом»[74]. Как бы то ни было, во всяком случае, известие о болезни Василия сильно огорчило Григория, он проливал источники слез и отправился было в путь, но узнав, что в городе собираются епископы, поехал назад, а Василию вместо себя отправил письмо с такими заключительными словами: «Твое благоговение увижу тогда, когда устроятся дела и позволит мне время; увижу – и тогда побраню побольше и посильнее»[75].
Через несколько времени сам отец Григория решился отправиться в Кесарию для присутствия на соборе по делу об избрании епископа в Кесарию. Но и больному отцу не хотел сопутствовать Григорий; даже и после того, как Василий уже посвящен был в епископа, Григорий медлил являться с поздравлением к своему другу, несмотря на новые приглашения. Поступал он так по заботливости о славе своего друга и об отвращении повода к суетным толкам завистливых людей. Вот его слова: «Когда все другие думали, что я поспешу к новому епископу или, лучше, разделю с ним начальство и когда обо всем этом заключали по нашему дружеству, тогда, избегая высокомерия и повода к зависти, остался я дома, с насилием обуздав желание видеться с тобой. Да и теперь не спешу к тебе, и ты сам этого не требуй, во-первых, чтобы сберечь мне честь твою и чтобы не подумали, что собираешь приверженцев по незнанию приличий и по горячности, как могут сказать завистники, а во-вторых, чтобы мне самому приобрести постоянство и неукоризненность»[76]. Василию это казалось охлаждением в дружбе, и он упрекал Григория в пренебрежении к себе, как к покинутой ягоде на виноградной лозе. На это Григорий отвечал изумлением: «Будто бы что-нибудь твое для меня то же, что иссохшая ягода на виноградной лозе! Как вырвалось у тебя такое слово из ограды твоих зубов, о божественная и священная глава! Как отважился ты вымолвить это!.. Как подвиглась мысль, написало чернило, приняла бумага!.. Меня ли ты не знаешь или самого себя? Как может быть маловажным для Григория что-нибудь твое, око вселенной, звучный глас и труба, палата учености! Чему же иному станет кто дивиться на земле, если Григорий не дивится тебе? Одна весна в году, одно солнце между звездами, одно небо объемлет собой все, один голос выше всех… и это твой голос»[77].
Около этого же времени подверглась какой-то болезни и мать Григория; это еще замедлило на несколько времени свидание с Василием, и он писал ему: «От твоего преподобия зависит привести в порядок мои дела, ибо безотлучно сижу при одре государыни матери, которая, много уже тому времени, страждет недугом. И если можно будет оставить ее вне опасности, будь уверен, не лишу себя твоего лицезрения. Помогай только своими молитвами ей выздороветь, а мне совершить путь»[78]. В непродолжительном времени Нонна получила облегчение от своей болезни и этим считала себя обязанной сыну. Однажды, когда Григорий взошел к ней рано утром и стал по обыкновению спрашивать, как провела ночь и что ей нужно, она, нимало не медля и речисто, сказала: «Сам ты, любезный, напитал меня и потом спрашиваешь о здоровье». Этим намекала она на сновидение, в котором ей представлялось, что сын ее Григорий явился к ней ночью с корзинами самых больших хлебов, потом произнес над ними молитву и, запечатлев их крестным знамением, подал ей вкусить и тем восстановил ее силы; и после этого сна она действительно стала приметно поправляться[79].
По выздоровлении матери Григорий посетил своего друга; впрочем, пробыл у него очень краткое время, не дождавшись даже кесарийского праздника в честь мученика Евпсихия. Василий предлагал Григорию и сан епископа или место первого при себе пресвитера, но он не принял ни того ни другого, также избегая зависти и заботясь о предотвращении толков, неблагоприятных и для Василия[80]. По возвращении из Кесарии Григорию открылся случай защищать своего митрополита на каком-то пиру. Вот как пересказывает это сам Григорий в письме к Василию: «Был пир, и на пиру было немало людей знатных, а в числе их находился некто из носящих имя и образ благочестия. Пированье еще не начиналось; слово зашло о нас, которые, как это обыкновенно случается на пирах, вместо всякого другого занятия в перерывах становятся предметом общего рассуждения. Все дивятся твоим совершенствам, присовокупляют к тебе и меня, говорят о нашей дружбе, об Афинах, о нашем единодушии и единомыслии во всем; но бывший тут монах громогласно изъявил свое неудовольствие и сказал: „Что это, государи мои, так вы много лжете и зачем допускаете такую лесть? Пусть похвалены Василий и Григорий будут за другое, если угодно, в том не спорю, но за Православие напрасно хвалят Василия, напрасно и Григория; один изменяет вере тем, что говорит, а другой тем, что терпит это“. Я, со своей стороны, – продолжает Григорий, – спросил этого нового Дафана и Авирона (см. Чис. 16:1-33; Втор. 11:6; Пс. 105:17) по высокоумию: „Откуда это, пустой человек, пришел ты с таким правом учительства? И как смеешь сам себя делать судьей в таких предметах?“ – „Я теперь, – говорил он, – с собора, который был у мученика Евпсихия, и он свидетель, что это действительно так. Там слышал я, как великий Василий богословствовал: об Отце и Сыне превосходно, весьма совершенно и как не легко было бы сказать всякому другому, а в учении о Духе уклонился от прямого пути, неясно высказал мысль, как бы набрасывал тень на учение, не осмеливался выговорить истину, накидывая нам в уши выражения, приличные более человеку изворотливому, нежели благочестивому, и прикрывая двоедушие силой слова“. – „Это потому, – говорил я, – что около Василия жестокая битва, еретики стараются ловить каждое речение из его уст, чтобы после того, как все у нас захвачено, и этот муж, единственно почти оставшаяся у нас искра истины и жизненная сила, и этот муж мог быть изгнан из Церкви, а вслед за сим из этой Церкви, как бы из какой засады, зло ереси арианской разливалось бы по всей вселенной. Поэтому нам лучше быть бережливыми на истину, уступив несколько времени, которое омрачило нас подобно облаку, нежели ясной проповедью привести истину в упадок. Истина заключается не столько в слове, сколько в мысли. Но Церкви [будет нанесен] великий урон, если с одним человеком изгнана будет истина“. Такой осторожности не одобрили присутствовавшие, называя ее неблаговременной и даже насмешкой над ними, порицали нас за то, что ограждаем более робость свою, нежели учение Церкви»[81]. Много и другого слышал Григорий по этому поводу и сам говорил еще и даже сверх меры и обыкновения изъявлял свое негодование противоречившим, но для лучшего поправления дела письменно просил наставления у Василия, до чего должно простираться в богословии о Духе и какие употреблять речения, чтобы можно было вразумить противников. Василий сверх ожидания оскорбился известием об этом и звал к себе самого Григория только для отражения нападений императора Валента. Валент спешил в Кесарию с той целью, чтобы поставить здесь арианского епископа.
Валент прежде Кесарии направил путь свой в Назианз и привел с собою нескольких ариан в надежде поработить себе и Назианзскую епархию. Но противодействие двух Григориев было так сильно, что он нисколько не успел в своих замыслах. Это видно из слов Григория Богослова об отце: «И здесь оказал он нам немалую помощь, как сам, так, может быть, и чрез меня, которого он, как молодого пса нехудой породы, для упражнения в благочестии выводил против сих лютых зверей»[82]. К сожалению, нет никаких других сказаний, что именно сделал в это время этот, по смиренному выражению о себе Григория, молодой пес…
Прогнав свирепых волков от своего стада, Григорий поспешил в Кесарию на помощь к своему другу, которому предстояла страшная борьба и с префектом Модестом, и с самим императором. Григорий, как знаем, был свидетелем беседы Василия с царем о Назианзе, но какие он оказал при этом услуги Василию и Церкви, тоже неизвестно. Только одно письмо Василия показывает, что святитель Кесарийский многого ожидал от его присутствия в это бурное время; вот слова Василия: «Склонись на мою просьбу, раздели мой труд в предлежащем подвиге и выступи со мной против ополчившегося на меня. Ибо, если только явишься, остановим все стремление, рассыплем собравшихся и заградим всякие неправедные уста дерзких еретиков»[83].