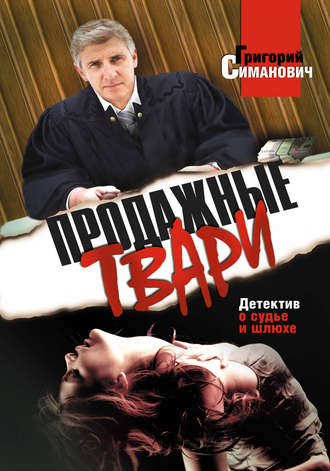
Полная версия
Продажные твари
Оставшись довольным тем, как он славно поерничал и осадил бедного Пашу, Кудрин примирительно продолжил:
– Пожалуйста, конкретизируй, как ты изволил выразиться, по амурам.
– Начать с Салаховой – как ее там… Саидовны, и пусть его партнеры по фирме отсмотрят женскую картотеку, походят по кабакам, может, узнают кого из тех, с кем он мимоходом знакомил…
В отличие от Паши с Марьяной Кудрин никаких вольностей себе не позволял, был только на «вы», хоть и не всегда «по отчеству», непоказно уважителен и даже ласков, хотя и не стеснялся пожурить, если дело шло слишком туго, и анализ казался ему излишне отвлеченным, не приближающим к разгадке.
– У вас, Марьяна Юрьевна, какие-то первые впечатления возникли?
Только сейчас, задав этот вопрос, Кудрин вдруг почувствовал некую неловкость: отныне и до скончания дела в его разговорах с нею должен фигурировать отсеченный мужской орган. Ценитель поэзии и музыки, он мог быть резок, а порой и грубоват с мужчиной, но с женщинами вел себя неизменно галантно и с трудом общался на столь деликатные темы, если, конечно, собеседницей не была судмедэксперт. Облик же Марьяны Юрьевны, манера ее поведения уж и вовсе не располагали Андрея Ивановича к тому, чтобы называть такие «вещи» своими просторечными именами. Надо бы придумать эвфемизм! Желательно – сугубо медицинский или литературный.
– Скорее – ассоциация, Андрей Иванович!
– С чем же?
– А вам не доводилось смотреть японский фильм под названием «Империя чувств»?
– Что-то слышал, но, увы, каюсь, не видел – пробел в моем кинообразовании. Просветите, пожалуйста, Марьяночка!
– Выдающийся режиссер Ошима или Осима – по-разному произносят. История любви молодой японки и ее хозяина. Это была любовь-страсть, явно на грани сексуальной патологии. Еще это называют перверсия или девиация – в зависимости от формы и степени отклонения от нормы. Так вот, они придумывали все новые способы и позы, чтобы эту страсть утолить. В конце концов, прибегли к известному, описанному в специальной литературе рецепту: во время акта девушка слегка придушивала партнера. В смысле дыхание ему перекрывала шейным платком. Это действительно повышает сексуальное возбуждение… – она сделала едва заметную паузу, испытав, видимо, неловкость от столько категоричного заявления, и тотчас добавила: – …как считают сексопатологи.
Мужчины слушали ее с нескрываемым интересом, причем по выражению глаз Паши Суздалева можно было сделать вывод, что у этого здоровяка интерес еще и вполне практический.
– Апофеозом этой их страсти, – продолжила Марьяна, – стала сцена, когда придушив любовника до смерти, обезумевшая женщина отрезала его плоть и радостно ходила с нею… с ним… по деревне.
После этих слов интерес Паши к упомянутой технике любви немедленно угас.
– Так вы полагаете… – произнес Кудрин и осекся, встретившись взглядом с Марьяной. Она смотрела, как обычно, сквозь него куда-то в другие сферы или, может быть, на этот раз просто воспроизводила перед мысленным взором кадры упомянутого ею то ли порнографического, то ли садистского, то ли действительно выдающегося фильма.
– Полагаю, Андрей Иванович, что страсть наверняка здесь замешана. И не обязательно между мужчиной и женщиной. Я бы порекомендовала еще раз тщательно исследовать место преступления на предмет наличия следов спермы и борьбы. Неплохо бы узнать с полной достоверностью, не случилось ли полового акта, в том числе гомосексуального, непосредственно перед актом… усекновения.
«О, то, что надо, сама словечко подсказала», – подумал Кудрин. Он обрадовался, что за него решили эту маленькую этико – филологическую проблему.
– Работаем, дамы и господа! Шум изрядный, пресса атакует, начальство держит под контролем. Работаем интенсивно. Паша, ты знаешь, что делать. Я сам допрошу эту разводящуюся Салахову, ты – партнера Романа Севрука, у которого в день убийства болезнь случилась. Вас, Марьяночка, попрошу побеседовать с Голышевой. Вдруг она вам, как женщина женщине, расскажет какие-то сокровенные вещи про убиенного Анатолия Зотовича. Уверен, что эффектная блондинка не могла быть для него просто коллегой.
– Всякое бывает! – философски заключила Марьяна и убрала со лба небрежно подкрашенную рыжеватую прядь редковатых волос.
– Нет, не уходи. Пожалуйста…
Пальцы отведены. Пауза. «Невыносимо, не могу больше».
Прикосновение. «Господи, какая… Я умру…»
Прикосновение, еще одно, пальцы застыли. «Не торопись, ощути…»
Глубокий вздох навзрыд, прерывистый, жадно вбирающий воздух, глаза открылись, умоляют.
Прикосновение увереннее, настойчивее. Конвульсивное движение ног, стон сильнее, хриплый, изнемогающий.
Пальцы отошли. «Не могу больше!..»
Перед Пашей Суздалевым сидел молодой симпатичный парень с абсолютно индифферентным выражением лица. Создавалось впечатление, что этот Рома Севрук уже забыл о недавнем существовании на белом свете своего работодателя и партнера Миклачева, о жутком убийстве и вообще… А ведь прошло всего-то трое суток. Впрочем, у людей эмоциональный строй разный, нервная система тоже – чему удивляться?
Спокойно и монотонно Севрук повторил историю Интернет-знакомства с Миклачевым. Почему был выбран и приглашен? Сперва, как Толя сказал, на фото глянулся. Потом – диплом, скорее всего. Тема – «Некоторые психические аномалии правонарушителей как побудительные факторы преступных действий». Прислал Миклачеву по почте, тот прочел, понравилось. Так сам Толя объяснял потом. Своим младшим партнерством Севрук был вполне доволен, получал мало, но верил в будущее. Отношения ровные, приятельски нейтральные, никаких конфликтов…
…– Ни одного за три года? – изумился Паша. – Постарайтесь вспомнить, Роман Григорьевич.
Севрук сделал вид, что напряг память.
– А-а, вспомнил, было… Ручку паркеровскую я у него однажды стибрил ненароком, автоматически в карман положил, а она у меня за подкладку завалилась. Клялся, что не брал. А он орал, что больше некому. Явно меня подозревал, весь день не общался. Хорошо, сам я ее случайно нащупал, извинялся как мог.
– Все?
– Нет. Однажды окно в кабинете приоткрыл, он не заметил, ему в спину надуло. Застудился, меня обвинял. Слегка погрызлись. Но незлобиво.
– Также незлобиво, как вы сейчас надо мной издеваетесь, да? – язвительно и не без угрозы в голосе поинтересовался Паша, поиграв желваками и как бы невзначай – бицепсом правой руки.
– Ну что вы, коллега, – спокойно и ровно парировал Севрук, – у меня и в мыслях нет, мы же юристы, интерес ваш понятен, но, увы, добавить нечего, зацепок у меня для вас нет. Консультации, которые он давал, и дела, которые вел в последнее время, – все у вас, изучайте. Конечно, у всех у нас есть за плечами процессы выигранные и проигранные, за исход которых та или иная сторона готова набить морду, устроить пакость, покалечить даже. Но, насколько мне известно, ничего такого, за что можно было убить юриста, адвоката, человека… Был бы рад помочь…
– А с Голышевой Аллой Осиповной какие у него были отношения?
«Нет, не Штирлиц», – удовлетворенно заключил Паша, легко обнаружив мгновенную тень, пробежавшую по лицу визави, и дрогнувший уголок рта.
– Я уже объяснял при первом нашем беглом разговоре по телефону, что о личной жизни Анатолия почти ничего не знаю и ею не интересовался. То же могу сообщить и о коллеге Голышевой. В офисе наблюдал абсолютно деловые и дружески-доброжелательные между ними отношения. Нормальное общение, обычное мужское шуточное заигрывание, естественные знаки внимания и женское кокетство. Целующимися застукать их не довелось. Совокупляющимися тоже. И вообще, насколько мне известно, у нее кто-то был постоянно после развода, были вполне себе нежные тихие разговоры по телефону с каким-то Эдиком, договоренности о свидании. Так что Толя при всем его обаянии здесь, что называется, «не плясал». Это мое субъективное наблюдение – заметьте, я ни на чем не настаиваю и ничего не утверждаю.
Паша решил рискнуть – «взять на понт».
– Странно, уважаемый Роман Григорьевич, странно.
– Что именно?
– Профессиональный юрист – и вдруг такая ненаблюдательность, такая неосведомленность о коллегах, близких вам людях. А вот у нас информация, что Голышева влюблена была в вашего покойного благодетеля, как кошка, и романище у них крутился, как карусель в парке, с восторженными визгами. А потом вдруг прервался на высокой драматической ноте.
– Значит, это было до меня, – резко и категорично сказал Севрук, при этом взгляд его явно поутратил невозмутимость и спокойствие. Паша понял, что попал в точку, в яблочко. Надо было дожимать.
– Вы уж простите, что вынужден касаться вашей личной жизни, но поговаривают, что и вы испытывали к госпоже Голышевой больше чем симпатию.
Севрук взбеленился, все показное спокойствие как ветром сдуло.
– Это что, допрос? Это допрос? Тогда официально, только официально. Вызывайте повесткой в качестве свидетеля, объявите статус подозреваемого, арестуйте по ордеру… Вы с юристом дело имеете, не надо забывать. Я с вами беседы задушевные вести не намерен и о своей личной жизни говорить не собираюсь… Все!
– Простите, Роман Григорьевич, – глупо. Как профессионал профессионалу – глупо! До ваших истинных отношений с Голышевой мы все равно докопаемся. Но вы же понимаете: чем шире будет круг лиц, опрошенных по этому поводу, тем меньше у вас шансов скрыть правду и больше – навлечь подозрения. Ну а если нет темы – зачем вы нам работу усложняете? Убили-то не врага вашего, не постороннего человека…
Севрук молчал, зло уставившись в пол. Молчал и Паша. Пауза затягивалась. Он чуял, что клиент зреет и вот-вот начнет колоться. Тут интуиция его никогда не обманывала. Другое дело – лапша на уши или чистосердечно…
Наконец Севрук поднял глаза. Они «читались» как крупные субтитры: досада и боль.
– Ладно, не мучайтесь и не теряйте времени. Я любил ее. И все у нас было. Началось почти сразу, как стал здесь работать. Два с лишним года. Думал разводиться, из-за ребенка не решался. И вдруг, в прошлом году, случайно застал. Вечером в офисе. По полной программе. С того дня с ней не общались. Только по делу. С ним – только по делу. Спокойно, нейтрально. Ничего не обсуждали, никаких объяснений. Ни с ней, ни с ним. Никого не виню, зла не держу – уже… Разумеется, я не убивал, киллера не нанимал, член не отрезал, язык не вырывал, и вообще – прижег в себе это мерзкое предательство, как рану раскаленной железякой. Кстати, не вздумайте допрашивать мою жену. Аллу – ваше дело, но жену не трогайте. Надеюсь на вашу порядочность. Она не знала и, как мне кажется, не догадывалась. «Доброжелателей», как ни странно, не нашлось. Редкий случай. А может, и жаль, что не нашлось. Тогда бы не дошло до этой сцены, этой гадости, этой…
«Парень явно не сочиняет, – решил Паша. – Соврал только про каленое железо: видать, не шибко помогло. Саднит и кровоточит…»
Со дня убийства прошла неделя. Утром 7 июля Олег Олегович Дымков складывал старый дорожный чемоданчик «Самсонайт» – один из немногих дорогих, фирменных аксессуаров, какими располагал в быту – точнее, позволял себе располагать. Да и тот подарили коллеги на 50-летие, в складчину, что дало ему повод на банкете – хоть и многолюдном, но со скромным меню, – то и дело, шутя, обыгрывать символику подарка: мол, вот вам, Олег Олегович, фирменный чемоданчик, собирайте, мол, манатки и катитесь скорее на пенсию, уступите дорогу молодым.
Дымков и впрямь решил: пора. Он взял неделю отпуска, чтобы спокойно все в Москве еще раз обговорить, дать отмашку.
За последние дни он как мог пытался успокоиться, взять себя в руки. Он заставлял себя не думать о том звонке на мобильный, о том животном страхе, который пришлось пережить. Он изо всех душевных сил гнал прочь мысли о возможных последствиях, вообще о Миклухе. Он заставлял себя не строить фантастические версии, изнуряя интеллект и надрывая психику.
Все равно достоверно ничего не узнать, от судьбы не уйдешь, случится то, что случится.
Надо верить в лучшее!
Лишь бы судьба вывела к поставленной цели. Лишь бы сбылось, состоялось!
Надо верить в лучшее!
Только бы поскорее с Лерочкой в самолет и туда, где «покой и воля», – правильное, справедливое прибежище человека на склоне лет.
В Москве он, как всегда, не стал останавливаться у Владика – ни в городской его квартире, ни тем более в хоромах на Рублевке. «Исключить дурацкие случайности». Не хватало еще под занавес засветиться.
Заранее забронировал номер в «Звездной». Скромный, стандартный, недорогой, как обычно.
К вечеру Владик прислал машину. Это нормально: встреча старых приятелей, однокурсников-заочников юрфака МГУ. Сидя в дорогом ресторане «Ваниль» за отдельным, в сторонку сдвинутым столиком, и выпив по третьей, они стали, как всегда, вспоминать юность, однокурсников, общих девушек, немного прошлись по высшей власти, коснулись любимой темы «куда Россия катится?». Потом Дымков изложил свои планы, мол, пора, потом получил от Владика заверения, что «там все в ажуре, письмо-приглашение будет за неделю, налик у тебя забираю – сразу переведу из своих в офшор на остров Мэн, оттуда резидент по твоей команде – в «Райффайзен», мой человек тебе поможет юридически». Дымков осторожно и мягко переспросил: «Так все на Мэне на одном счете будет?» – «Ну я ж тебе сказал, чего одно и то же спрашиваешь? Хочешь, завтра все бумаги с реквизитами бери и…»
– Нет, нет, Владя, как договорились, перед самым отъездом. Я тебе так благодарен, дружище!
– Ну кончай, судья, сколько можно! Я же просил без этих сантиментов. Вот в гости приеду в Альпы твои, напоишь…
– Но как!.. – с выражением изрек Дымков, поднимая рюмку.
Он улыбался, но не было покоя на сердце и в мыслях Дымкова. И быть не могло. Может, зря он Владьке ничего не рассказывает? О звонке, о том, что пережил… Нет, нет, дал же себе слово: никому. Ни Владьке, ни Грине – ни-ко-му! Надо самому пережить это, избыть, отторгнуть, избавиться…
– Ну давай же, наконец! Это же пытка. Или уходи. Отодвинься, оденься и уходи. Давай не сегодня… Нет, нет, подожди, ну хорошо, я обещаю, обещаю… Боже!
Прикосновение…
Голышева Алла Осиповна сидела в кресле напротив рабочего стола следователя. И – тот самый случай! – не вызывала у Марьяны Залесской серьезного интереса. Марьяна понимала, что такое эмоциональное предубеждение в отношении подозреваемого категорически порочно и непродуктивно. Но с нею часто подобное бывало: надо выспрашивать, проникать в мозги, ловить на слове, составлять психологический портрет – а неохота! Вот отторжение какое-то! Вот ни на йоту не верится, что эта женщина имеет отношение к убийству и вообще к каким-либо преступлениям. Вдохновения нет, но работать надо. Добывать косвенные улики, строить догадки, надеяться на ассоциации. Тем более, что о ее романах с Севруком и Миклачевым Паша поведал – в объеме добытой им информации. Вполне, впрочем, скудной.
Марьяне вдруг захотелось с места в карьер задать совершенно невозможный, наивный, глупый, бессмысленный (в отсутствии детектора лжи) вопрос и прекратить на этом беседу. Или, наоборот, затеять. И она не удержалась…
– Алла Осиповна, простите меня, но я спрошу напрямик: не вы ли убили Миклачева Анатолия Зотовича?
Голышева, проявлявшая некие признаки волнения, вдруг застыла, замерла, словно подчинившись команде гипнотизера, и уставилась на Марьяну немигающим взором. В нем смешались недоумение, возмущение и ужас. Так она сидела с минуту, не шелохнувшись, приоткрыв рот. Потом опомнилась, ожила и неожиданно четко, внятно и невозмутимо ответила:
– В переносном смысле – возможно.
– Почему вы это допускаете? – в тон ее невозмутимости поинтересовалась Залесская.
– Я отнимала у кого-то счастье. И этот кто-то убил не меня, а его. Я так думаю.
– А вы были счастливы с ним?
– Да, очень.
– А с Романом Севруком, которого вы оставили ради Миклачева?
– Рома хороший. Он добрый и ласковый, любит меня несомненно. Я ему два года была верна. Ну, почти верна. Так, случайности… Именно поэтому я не хотела врать, хотела признаться ему, что у меня всерьез другой. Но не успела. Он застал нас. Он повел себе благородно, по-мужски. Не стал устраивать истерик. Просто переломил себя внутренне и продолжил общаться как коллега. Это не просто. Я попыталась смягчить, объяснила, покаялась – искренне. Я благодарна ему.
– Спасибо, что откровенны со мной. Коли уж начали, можно и дальше так… по-простому, по-бабски, без протокола?
– Валяйте.
– Я Марьяна, вы Алла – идет?
– Ага…
– Давай и я тебе кое в чем признаюсь… Мы почти ровесницы с тобою. У меня мужики тоже, как ты понимаешь, были, хотя внешне куда мне до тебя! Даже пара относительно удачных попалась. Но я одна, и ни хрена не сложилось. Именно потому и не сложилось, что часто бывало хорошо, но никогда не ощущала, что по-настоящему счастлива с мужчиной. Не сиюминутно, а вообще, в принципе, по душевному ощущению будущей жизни с этим вот конкретным человеком. Ты меня понимаешь?
Все, Голышева Алла Осиповна стала идеальной свидетельницей. Подловато, конечно, но Марьяна делала свою работу. Превратить свидетеля в приятеля или подругу входило, как она считала, в круг ее обязанностей, в набор профессиональных приемов.
– Чего ж тут не понимать? Это называется любовь, если я ничего не путаю, – улыбнулась Голышева.
– Ты любила его?
– Категорически нет. Нет, нет и нет! Но я была счастлива неимоверно, когда он делал это со мной. Была сумасшедшая похоть. Было желание отдаваться ему бесконечно, постоянно, всегда, везде.
– Такое впервые?
– В том-то и дело, что да. Хотя до него классные мужики попадались.
– Вот оно что! Так он был супер!
– Он был невероятен, Марьяна. Невероятен. Он был небывало искусен и непередаваемо, просто непередаваемо нежен. И сказать, что он не торопился, как большинство самцов, – ничего не сказать!
Марьяна почувствовала, что здорово завелась. Кровь прилила к щекам и туда.
– Что, закипела? – не без легкого злорадства поинтересовалась Голышева, лицо которой тоже мгновенно покрылось краской, глаза увлажнились и руки заметно задрожали. Потом она вдруг приоткрыла рот, чуть приподняла голову, обхватила ладонями и резко обрушила ее на колени в пароксизме истерического рыдания.
Десять минут ушло на то, чтобы успокоить ее и самой прийти в себя. «Ну и допросик выдался! Такой впервые! А ты туда же со своей интуицией, кобыла ленивая, – мысленно отметила про себя Марьяна. – Но зато какая подвижка, сразу многое проясняется! Неужели вариант «Империи чувств»?
Голышева окончательно пришла в себя. Припудрилась, подкрасила ресницы, подправила макияж. Марьяна терпеливо ждала, не произнося ни слова.
– Мы расстались три месяца назад. Он ушел очень мягко, интеллигентно. Сказал, что неодолимо полюбил другую женщину, не хочет лгать. Но сказал, что со мной ему было фантастически хорошо и, если я хочу, мы можем видеться иногда. Я чуть с ума не сошла от бабской уязвленности, я орала, а он был мягок и печален. В конце концов, он подкупил меня предложением встречаться иногда. Я себя этим смирила. Если бы не надежда время от времени быть с ним, наверно, я бы сделала что-то похожее на то, что случилось. Нет, вру, конечно… Просто бы убила, бесхитростно. Ладно, не слушай меня, болтаю ерунду.
– Скажи… это очень важно… он, по-твоему, просто ходок, просто азартный охотник за бабами или эротоман, свихнутый на этом деле, или психически больной? Проще говоря: он банальный е-рь или?..
Алла Осиповна на секунду задумалась.
– То, что эротоман, охотник, сдвинутый на бабах, – пожалуй, да. Но не это в нем главное, не это стержень. Он далеко не примитивен. Я же говорила: он изыскан и изобретателен, причем, как мне кажется, не по книжкам, не по «Камасутре» какой-нибудь. Он не клюнет… не клевал на первую встречную. Я не раз замечала, насколько безразлично он проходил мимо красоток с формами секс-бомб. Ему было нужно что-то другое. И он это другое словно бы найти не мог, но присматривал.
– И в тебе не нашел?
– Стало быть, нет, если бросил.
– О чем же может идти речь?
– Я не знаю, Марьяна. Не знаю. И какое теперь это имеет значение?!
«Вполне возможно, что решающее», – подумала про себя Залесская и попрощалась.
Проводив Голышеву, Марьяна отчетливо поняла, чего она хочет. Да, да, конечно, она живая и нормальная женщина, поэтому откровения Аллы завели ее не на шутку, и это состояние не отпускало, не давало сосредоточиться. Однако каким-то странным образом оно сосуществовало с другим, имеющим прямое отношение к следствию. Она знала такое в себе, ей знаком был этот лихорадящий азарт поиска разгадки. Марьяна позвонила Кудрину, попросила две минуты и метнулась на третий этаж, по ходу формулируя мотивы просьбы, если еще не поздно.
Прикосновение. Настойчивое, властное, непререкаемое. Движение пальца вглубь – на миг, будто случайно. И вновь едва ощутимый контакт – нежность. Вскрикнула, рефлекторно сжала кисть его руки со всею силой, на какую способна была ее рука. Стон, просьба, мольба: «Ну пожалуйста… ну…»
– Андрей Иванович, вы уже говорили с этой Салаховой – как ее?..
– …Анна Саидовна… Вызвал на сегодня, как раз через час должна явиться. Точнее – не вызвал, попросил…
– Вот и у меня к вам просьба: отдайте ее мне.
– Да бога ради – приходите, вместе ее порасспрашиваем.
– Нет, Андрей Иванович, я должна… вернее – хочу наедине. По-женски с ней поговорить, как только что с Голышевой.
– Результаты?
– Точнее – первые представления о важных для следствия манерах, способах и особенностях его поведения с женщинами.
– Понял. Вы хотите сказать, что…
– Да, при вас ничего подобного узнать невозможно. Простите, Андрей Иванович, но…
– Все ясно. Никаких возражений. Если женские секреты приведут к разгадке мужских…
– Не исключено. Так вы уступаете?
– Ждите ее у себя… – Он поглядел на часы… – в 16.10, если не опоздает. Но завтра с утра на доклад. И уж придется без недомолвок, Марьяна Юрьевна.
– Уверены, что я вас не смущу? – Она устремила на него взгляд, неизменно направленный слегка поверх головы собеседника, куда-то в стену или вдаль. Взгляд был лукаво насмешливый и немного вызывающий.
– Я возьму себя в руки, – подчеркнуто серьезным тоном пообещал Кудрин, и они оба рассмеялись.
Нет, не получалось избавиться от кошмара! В самолете он вновь ощутил страх и тянущую боль в сердце – он знал точно, что это на нервной почве. А что, если попросить Гриню, но ничего ему не рассказывать? Да, так можно, так надо!
Вернувшись в Славянск, Олег Олегович перво-наперво позвонил по условленному давным-давно телефону. Услышав старушечий голос, произнес контрольную фразу: «Простите, мадам, номером ошибся». И тотчас положил трубку. Это означало, что он просил встречи у Грини. Они не виделись года два. Олег Олегович хотел обратиться с последней просьбой. Просьб этих всего-то было три-четыре за все время знакомства. Остальное – так, по мелочам, информация. Но на сей раз…
ЭТОТ ЗВОНОК НА МОБИЛЬНЫЙ С ТОГО СВЕТА…
Салахова Анна Саидовна не опоздала. Была она грустна, спокойна и хороша красотою метиски, когда, вопреки известному пророчеству Киплинга, сошлись-таки вместе Запад и Восток: раскосые зеленые глаза, длинные ресницы, тонкие черные дуги бровей и изящный, чуть вздернутый носик, славянский овал лица и натурально-рыжеватые, слегка вьющиеся волосы, волной ниспадающие на плечи и… голливудская плакатная грудь «а-ля Мерлин», – впрочем, достоинство вполне интернациональное.
Марьяна еще раз убедилась, что покойный ловелас Миклачев искал не только внешнего совершенства партнерши, но и разнообразия типов женской красоты.
На этот раз она решила не прибегать к шоковой терапии, огорошивая лобовым вопросом. Но не удержалась…
– Анна Саидовна, вы любили Анатолия Зотовича?
– Да, конечно… наверно…
– А он вас?
– Наверно… – Ее интонации выдавали плохо скрываемое безучастие или одолевшую апатию. – Я готова была жить с ним, выйти замуж. Он был… внимателен, ласков, говорил о нашем будущем, я верила, я хотела…
– Простите, я вынуждена задавать не всегда деликатные вопросы. Как быстро вы сблизились после первой встречи?
– Ничего не было почти месяц. Он говорил красиво, ухаживал красиво, рестораны, загородные прогулки под луной. Но я не могла преодолеть… У меня, кроме мужа, никого не было прежде. Ну, если не считать одной девичьей глупости. Мама воспитала меня в восточных традициях. И отец, пока был жив… Опыт замужества в этом смысле ничего не менял. Это внутреннее, сильное табу. Я дала понять, и он не настаивал.
– А когда вы преодолели табу – что тогда?
– Что? – Роскошные глаза Салаховой загорелись тусклым, рассеянным светом, руки стали нервно теребить сумочку из дорогой кожи, она безотчетно сменила положение безупречно стройных ног, потом вернулась в прежнюю позу. – Ничего, все как обычно, нормально. А что вы хотите услышать?



