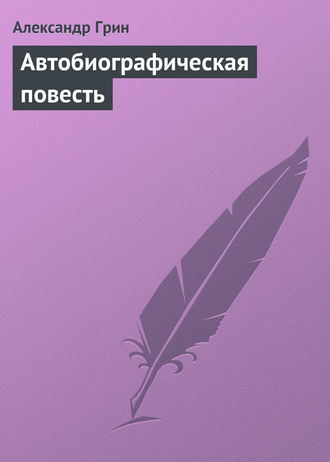 полная версия
полная версияАвтобиографическая повесть
Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил: «А я думал, что ты уж помер», – но, радуясь спасению, я только плюнул в ответ на его слова и, с трудом разминая закоченевшие ноги, побежал на рынок, в чайную.
Здесь было жарко, тесно; множество мужиков и рабочих, следующих, как и я, на заработки, пили чай, курили, кричали, пили водку; под столами были свалены мешки, котомки; махорочный дым знаменитой дунаевской махорки «Три звездочки» заскакивал в дыхательное горло удушьем. Как у меня не было денег, то я обменял свою баранью шапку на старую из поддельной мерлушки, получив двадцать копеек придачи, и напился чаю с баранками, а затем, около девяти часов, пошел с письмом отца к Ржевскому, магазин которого находился на главной улице города.
Это был большой магазин с зеркальными стеклами и американской кассой, с мраморными прилавками.
Прочтя письмо отца, Ржевский, замкнутый, спокойный поляк лет сорока, пошептался с женой, и она передала меня какому-то старичку – может быть, ее отцу или отцу Ржевского. Старичок повел меня по лестнице в глубине магазина наверх, и я очутился в очень просторной, очень светлой, большой квартире. Пол был паркетный, обои светлые, мебель в чехлах; картины и огромные тропические растения поразили меня. Еще никогда я не был в такой квартире, а о паркетах только читал.
В тот день была оттепель, отчего мои валенки просырели, и я с ужасом видел, что на каждом шагу оставляю жирные, грязные пятна сырости. Заколебавшись, я остановился; между тем старичок, со всей возможной деликатностью, а может быть, с тайным ехидством, ласковыми движениями рук приглашал меня идти все дальше за ним, через гостиные, залы, – в столовую. Я думаю теперь, что меня могли бы избавить от такого унижения, проведя в столовую более кратким путем, хотя бы через кухню. Я оглянулся: по светлой реке паркета, через всю анфиладу тянулись черные пятна сырости.
Я останавливался раз пять; уши мои горели.
Наконец я был в столовой, где кипел серебряный самовар, и тотчас сел за стол, поглубже упрятав ноги. Кроме старичка, были здесь старушка, девочка, а вскоре пришли хозяева, Ржевские. От смущения я лепетал не помню что; говорил о приисках, золоте; рассказывал свои морские похождения, рассказал об отце, нашей семье. Старичок угощал меня превосходными папиросами, насыпанными в ящичек карельской березы. Я сказал: «Как у вас хорошо» – чем, видимо, польстил хозяевам, но в ответ получил, кажется, рассуждение о том, что такой комфорт достигается упорным трудом. Я выпил стакан чая с молоком в серебряном подстаканнике, съел колбасы, сыру, и когда, куда-то уйдя, Ржевский вернулся с запиской – это была записка вагонному мастеру железнодорожного депо с просьбой дать мне работу. Затем, узнав, что я без денег, Ржевский дал мне рубль и велел приказчику завернуть для меня три фунта разной колбасы; я попрощался и ушел тем же путем, провожаемый внимательными взглядами служащих.
Кажется, я не понравился – я был дик. На улице я вздохнул с облегчением и немедленно отправился в депо, где и был принят чернорабочим с платой пятьдесят копеек в день и десять копеек в час за сверхурочные.
После того я нашел маленькую комнату, с матрацем, но без подушек, за четыре рубля в месяц и, прописав свой паспорт, на следующее же утро к шести часам утра был в депо.
Хотя позапрошлую зиму я работал в вагонных мастерских в Вятке, однако разница была велика. Там я, главным образом, имел дело с деревообделочными станками, стругавшими обшивные, половые доски и вырезывающими колодки, материал – дерево – был не тяжел; здесь же мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами, толкание паровозов на поворотный круг – словом, металл, металл и металл. Кроме того, почти каждый день я оставался на сверхурочные, приходя домой часов в девять вечера до того усталый, что не мог ни есть, ни читать.
За две недели моей работы в депо я раза четыре заходил в магазин Ржевского. Я покупал там колбасные обрезки, одиннадцать копеек фунт, и Ржевский два раза посылал меня с запиской на фабрику, во дворе, где аппетитные колбасные ребята наваливали мне множество этих обрезков даром.
Я видел, что, оставшись в депо, – останусь в депо и ничего больше. Между тем стало сильно таять и сильно греть солнце; началась северная весна.
Взяв расчет, я получил около четырех рублей и, как уже по разговорам знал о ближайших, графа Шувалова, приисках – что там можно всегда найти работу, то в один прекрасный день сел в поезд «зайцем»; после двух высадок за безбилетность, почти к вечеру я доехал до станции, откуда надо было идти пешком на прииски. Как я видел, к такому способу передвижения прибегает множество шатающегося по Уралу народа, а потому не обращал внимания на желчные припадки кондукторов, привыкших ссаживать «зайцев» почти на каждой станции.
От станции шла дорога через рудники, заводы, на прииски. Вокруг стояли круглые горы, заросшие синим лесом, и, хоть стыдно сознаться, но, когда я прошел верст пять, – дикий мрачный вид этой страны золота посеял во мне наивные надежды. Как местами дорога уже протаяла, я время от времени поднимал разные камни, осматривая их с целью найти хотя бы небольшой самородок.
Было темно, когда показались огни казарм железных рудников. (Забыл название.) Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в прорывах нар стояли простые столы. С потолка освещала это жилье сильная керосиновая лампа. Железная печь посреди казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару, на ее длинной трубе, обходящей чуть не все помещения, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко-желтый цвет всего: пола, стен, столов, портянок, рубах, людей и, кажется, самого воздуха, как если смотреть через желтое стекло. Это была рудная пыль – пыль железной руды, скопившаяся годами, приносимая на ногах и в одежде.
Рабочие – все пришлые мужики – частью спали, частью пили чай из почерневших жестяных чайников; кое-кто играл в шашки или читал двухкопеечные лубочные издания Сытина.
Хотя я притворился опытным, разбитным бродягой, однако, по расспросам и разговорам моим, мужички скоро меня поняли и отнеслись добродушно; пил я с ними кирпичный чай, ел их пшеничный хлеб, слушал, присматривался.
Они предлагали мне остаться работать, но обстановка прииска, еще неведомая, тянула меня. Утром я пошел дальше, горя нетерпением и отвагой. Я уже слышал о «хищниках». Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные притоны скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы… Заметив, что докатился до индейцев, я оглянулся, но никто не слышал меня на дикой дороге.
III
Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая старателей.
Порядок приема на работу был очень прост: каждый, кто хотел, приходил в контору, сдавал свой паспорт, получая взамен расчетную книжку и рубль задатка, а затем мог идти и селиться где и у кого хочет; благодаря этому был постоянный резерв свободной рабочей силы. Хотя все, кто выходил утром к наряду, получали работу (я не говорю о шахтерах, забойщиках и крепильщиках-плотниках – эти были как бы штатные, хотя тоже поденщики), в казармах постоянно валялись, дымя махоркой, лодыри; эти день-два работали, а день-два отдыхали, так как, закупив хлеба, мяса и табаку, они ели эти запасы, пока голод не заставлял их снова идти на наряд. Десятник механически отмечал в своей таблице рабочие дни каждого, за отработанное платилось, а прогульные дни абсолютно никого не интересовали.
Наверное, были среди постоянно сменяющейся массы рабочих воры, беглые каторжане, беглые солдаты, но их никто не тревожил. Фальшивый или чужой, краденый, паспорт покрывал все.
Бессемейных, пьяниц, босяков звали обидной кличкой «галах», сибиряков – «чалдон», пермяков – «пермяк – соленые уши», вятских – «водохлебы», «толоконники», волжских – «кацапы», мордвинов – «лягушатники» («Лягва, а лягва. Постой, я тебя съем»). О них рассказывали, как один мордвин ищет другого:
– Васька.
Молчание.
– Василий.
Молчание.
– Василий Иванович.
Молчание.
– Василий Иванович, милый дружка, золотой яблочка, – где ты?
– Под кустом сижу; чилиль (трубку) курю.
Предпочтительной уральской одеждой, предметом мечты, были татарская шапка из завитого барашка с четырехугольным, черного бархата, верхом; высокие «приисковые» сапоги, выше колен, с ремешками под коленом и серебряными подковами; бумазейная рубашка с высоким воротником, застегивающаяся на синие стеклянные пуговицы, и шаровары из черного бумажного бархата (плис).
Щегольской верхней одеждой считался «азям» – род халата из верблюжей шерсти, с широким отложным бархатным воротником. Однако большей частью можно было встретить желтые полушубки да матерчатые пиджаки на вате, а то и на кудели.
Кроме лаптей, валенок и сапог, в ходу были, зимой, «бахилы» – мягкая высокая обувь из коровьей или лошадиной шкуры, шерстью внутрь, а также «поршни» – кожаные лапти.
Контора – большое здание из двухсотлетних бревен – была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку.
Кассир отсчитал ему две тысячи рублей золотыми пятирублевками.
Старатель завязал полную золотом тарелку в ситцевый платок и понес домой – как носят суп, спокойно и независимо.
После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там. Вверху было жарко от железной печки, а в ноги тянуло холодом; между тем, за отсутствием места на нарах мне пришлось бы спать на земле.
Один рабочий направил меня к местному жителю-рабочему, в его избу, и я поселился там в углу, за рубль в месяц. Кроме меня, был еще жилец – рыжий мужик, горький пьяница; вечером он с хозяином напивался, и они пели, сидя за бутылкой:
Скажи мне, звездочка златая,Зачем печально так горишь?Король, король, о чем вздыхаешь,Со страхом речи говоришь?Хозяйка, пожилая беременная женщина, молча работала по хозяйству, ни во что не вмешиваясь.
Я спал в углу, на соломе. Она никогда не убиралась, лишь сметалась на день в кучу.
Таяло, снег сошел по прииску, лежал он еще только в лесу. От сырой грязи мои валенки развалились; сапожник отказался чинить их, – я надел лапти.
Как было не вспомнить ехидную поговорку, которой дразнили меня мои родители за проказы и леность к ученью: «Гули да гули… Ан в лапти и обули».
Однако уметь надеть лапти не так просто. Мои сожители учили меня обвертывать ногу портянкой, чтобы было везде туго, ловко, не давило подошву, и я кое-чего достиг в этом искусстве.
На другой же день, едва в темноте порозовело небо, сквозь лес я вышел к наряду. Нарядчики послали меня качать из шурфов воду. Из бараков вышел народ, бабы и мужики, прибавилось к нему нас, новичков, человек двадцать, и, пройдя с полверсты лесом, мы очутились в лесной долине.
Здесь, на расстоянии пятидесяти сажен один от другого, были «шурфы» – неглубокие шахты для разведки золотоносного слоя, состоящего из песку и гравия. Эти шахты – три-пять саженей глубины – обслуживались ручным воротом с бадьей и обыкновенным насосом, рукав которого, касаясь дна, выбирал воду.
Внизу работали двое: забойщик, то есть шахтер, рывший породу мотыгой, и плотник, ставивший деревянную клеть для избежания обвала стен шурфа.
Время от времени бадья вывертывалась воротом вверх, порода высыпалась, а штейгер, обходя шурфы, делал пробу ковшом: набросав в ковш песку, прополаскивал его водой и смотрел, остаются ли после удаления песка крупицы золота. Однажды он, найдя такие крупицы, стал показывать их мне; я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел: что-то узкой полоской блестело на дне ковша, верно; хотя был то блеск оловянной полуды или воды, я не разобрал.
Я слышал впоследствии, что золото на Урале есть везде, по руслам речек и в старых песчаных слоях долин, но очень различен процент его содержания, – не везде выгодно его добывать.
Я работал с зари до зари. На обед давался нам час, на завтрак полчаса. В полдень штейгер отмечал в таблице крестиком рабочий день каждого; вечером еще раз проверял, кто работает вторую половину дня.
Плата была шестьдесят копеек поденно. На заборную книжку можно было брать в лавке предметы первой необходимости: табак, мыло, спички, белый хлеб, сушку, колбасу, пряники, орехи и т. п.
Расчет происходил по субботам в конторе, с вычетом забора в лавке.
Время от времени старший рабочий командовал: «Закури!» – и мы, старательно, медленно свертывая «козью ножку» – покрупнее, чтобы дольше курилась, так же старательно, медленно досасывали ее и тем нагоняли минут пять-шесть отдыха.
Я работал то на откачке воды, то крутил ворот.
Неподалеку были старатели, и я один раз ходил смотреть, как они там живут. Старатели жили с семьями, в лесу, по берегу речки, в больших избах; кое у кого из них было хозяйство: птица, корова, лошадь. Тут же возле избы стоял вашгерт, промывательный станок, род ступенчатого корыта с задерживающими золотой песок планками. Насыпав в вашгерт породу, старатель прибавлял туда ртути, платина или золото амальгамировались ртутью. Эта смесь оставалась на дне вашгерта, а песок относило прочь водой, качаемой обыкновенным насосом. Впоследствии ртуть удалялась нагреванием. За платину контора платила три рубля пятьдесят копеек за золотник, за золото пять рублей. Мне рассказывали о селениях, где сплошь живут скупщики контрабандного золота, платящие по шесть и семь рублей за золотник.
Вначале я работал каждый день, но, когда хозяйка моего угла родила ребенка, скандалы, пьянство, рев и писк стали неимоверны; я часто не мог заснуть, а потом перебрался в барак. Сознаюсь, здесь было тесно, но веселее, чем слушать каждую ночь – «Король, о чем вздыхаешь?». Однако атмосфера лодырничества, картежа, работы через день-два и бесконечных рассказов, историй о самородках, кладах подействовала на меня: я стал тоже работать на хлеб, чай и табак – не больше, – мои потребности в то время были очень скромны.
Я получил место на нарах по странной оказии: накануне моего появления в бараке два парня шутя возились, боролись, гоготали. Один – тоже шутя – хлопнул приятеля ладонью по спине; тот упал и больше не встал. Таким образом, принимая во внимание полицию и следствие, освободилось два места.
Набрав, у кого мог, лубочных и старых, без корок, книг, я погрузился в чтение, иногда выходя искать среди леса и по берегам еще закрытой льдами речки – самородков. Однако, когда мне переставали давать в лавке провизию, я ходил на работу; между прочим три дня работал ночной сменой в настоящей шахте, где было очень сыро и куда спускались в бадье, стоя в ней и держась за канат.
Отверстие шахты выходило из невысокого холма, со свалкой вокруг него добываемой изнутри породы. Неподалеку была бутора – закрытый деревянный цилиндр, вращаемый в горизонтальном положении, внутри буторы песок обрабатывался ртутью, как в вашгерте.
Нет ничего удивительного, что при такой технически несовершенной добыче золота и платины некоторые старатели брали от конторы разрешение снова промывать отработанные кучи песку и, как говорили на прииске, добывали прилично.
Я стоял в паре с другим рабочим на вороте, выкручивая с десятисаженной глубины тяжелую бадью, полную золотоносной породы, вторая бадья за это время шла пустая вниз, там ее насыпали.
Три ночи я проработал под землей, где забойщик бил киркой впереди себя, я лопатой наваливал породу в тачку и катил ее к бадье, под вертикальный колодезь. Работать надо было все время согнувшись; забойщик, работающий сдельно, с куба, гнал во всю мочь, и это было мне непосильно. Хотя ночная смена оплачивалась рублем, я больше работать не захотел.
Мой интерес к приискам начал проходить. Между тем в бараке появился хищник – настоящий хищник уральской тайги, молодой человек, туалет которого был выдержан по всем правилам описанного мной местного щегольства; у него, видимо, были деньги, потому что он совсем не работал, только жил в бараке – может быть, с какими-нибудь конспиративными целями.
При всеобщем жадном внимании хищник рассказывал о жизни себе подобных.
– Есть, – говорил он, – такие золотые места, о которых знаем только мы, хищники. Есть верховое золото: сорвешь пласт дерна и с корешков травы стряхиваешь, как крупу, чистое золото. Есть речки, ручейки в горах, где на пуд песка – золотник платины. Есть самородное золото, содержат его так называемые «карманы» – гнезда мелких самородков и крупного золотого песка; попади на такой карман, будешь всю жизнь богат.
От этого хищника я узнал, что тайные золотоискатели ходят по три-четыре человека и нападают на жилу по известным только им приметам; больше же делают пробу: бьют шурфы, моют песок речек и ям в ковше. У них всегда с собой ружья, насос из жести, ртуть, толокно и сухари. Восхищенный романтизмом такой жизни, я предложил хищнику работать вместе, на что он согласился, но просил подождать дней десять, когда придет какой-то его знакомый.
Между прочим, он рассказывал, что управляющий одних приисков, известный своей жестокостью, был пойман хищниками в лесу и проработал у них три дня, качая воду. Кончив работу, хищники уплатили ему по одному рублю двадцать копеек за день, а с собой унесли на пять тысяч рублей платины.
Однажды ночью хищник исчез, как пришел, – сразу; кое-кто видел его вечером за бараком в таинственной беседе с двумя бородачами; еще говорили, что его ищет полиция. Незадолго до его исчезновения один старик, серьезный и хворый, часто беседовавший со мной о жизни и людях, сказал мне, что ему один хищник, умерший год назад в больнице, сделал признание о зарытых хищниками двух голенищах, полных золотого песка, под старой березой, в таком-то селе. Название этого села я забыл. Я рассказал историю о голенище мужику с рыжей бородой, Матвею, с которым я сблизился, так как, по словам Матвея, он был, где и я, – на Волге, на Каспийском море, в Баку.
Мы уговорились идти искать клад, взаимно заражая друг друга картиной благоденствия в случае успеха. Однако после того, как я получил расчет (рубля два) и вышел с Матвеем на лесную дорогу, спутник сообщил мне, что он бежал с каторги за – будто бы – клевету на него о поджоге им трех домов в Костромской губернии. Затем на первом же ночлеге (дом стоял на краю деревни) у одинокой женщины с тремя детьми этот благодушный, благообразный старичок, лежа со мной вечером на полатях, предложил мне убить хозяйку, детей и ограбить избу: в избе было чисто, хозяйственно, была хорошая одежда, полотенца с вышивкой, стенные часы и два сундука. Бандит, видимо, думал, что у хозяйки есть деньги. Но он предложил сделать это дня через два, вернувшись к деревне окольным путем, ночью, теперь же прожить здесь еще завтрашний день, чтобы высмотреть, где деньги.
Он говорил так страшно просто и деловито, что я испугался. Видимо, он нуждался в товарище для ряда преступлений и тщательно вербовал меня.
Из опасения быть ночью убитым, я поступил так: притворно то соглашаясь, то сомневаясь, отложил полное решение до завтра и всю ночь не спал, карауля Матвея, который спал крепко, храпя.
За всю ночь золотой дым вылетел из моей головы. Утром, взяв котомки, мы вышли от ничего не подозревающей женщины, которая дала нам на дорогу яиц и хлеба.
Отойдя немного от деревни, я в упор заявил Матвею, что никуда с ним не пойду, так как быть в компании с негодяем и убийцей мне отвратно.
Мужик опешил, он пытался уверить меня, что пошутил, соглашаясь идти только добывать золото, но в его голубых глазах лежала подозрительная муть, может быть, прямо угрожающая; поэтому, наматерившись взаимно, мы расстались. Он побрел вперед, а я вернулся и предостерег женщину, чтобы она не пускала снова этого Матвея ночевать, вкратце рассказав суть дела.
Слушая меня, она была бела, как ее полотенца, и заголосила, что тотчас побежит к уряднику. Я пошел обратной дорогой и застрял на несколько дней на чугуноплавильном доменном заводе, где мне дали работу.
IV
Теперь мне интересно вспоминать свои работы, потому что прошло много лет, стерших ощущение грязи, вшей, изнеможения и одиночества, но тогда это было не так интересно, – было разнообразно и трудно.
Сдав паспорт, получив традиционный рубль задатка и сунув свою котомку на нары в рабочей казарме, я был послан в сарай просеивать древесный уголь на поставленном наклонно большом прямом решете из проволоки. Кроме меня, тут работал еще один человек, дюжий мужик. Плата была семьдесят пять копеек поденно. Мы бросали деревянными лопатками уголь на решето, крупные куски отскакивали, а мелочь просыпалась сквозь петли решета.
Я возвращался вечером в барак более черный, чем трубочист или негр. Кроме того, было тяжело дышать сумерками, составленными из угольной пыли и весенней сырости.
Кое-как отмывшись, я ставил на общую плиту свой жестяной чайник, пил кирпичный чай с молоком и белым хлебом из сибирской муки; иногда жарил свинину. Обычная пища рабочих была – чай, картошка и хлеб; по праздникам они варили мясо, в особенности семейные; здесь было много татар, у которых всегда пахло кониной. По глупости я тогда еще не ел конины, а впоследствии на Благодати, около села Кутвы, не только привык, но полюбил конское мясо.
Казарма была разделена коридором – направо шли помещения для семейных, налево – для холостых и одиноких.
Мне приходилось часто писать письма неграмотным, и меня всегда трогала вечная забота рабочих послать домой деньги, хотя бы пять-три рубля. Письма надо было писать чувствительно, длинно, перечислять поклоны каждому в отдельности, родственнику и знакомому («Еще кланяюсь Тимофею Ивановичу» и т. д.). Ритуал требовал стереотипного начала: или «Во первых строках моего письма», или «Лети, мое письмо, туда, где примут без труда»… Написав, я читал вслух, а отправитель слушал меня с растроганным лицом и, случалось, говорил: «Тебе бы, Лександра, в конторе гумаги писать, а не в галахах ходить».
Однажды несколько человек из нашего помещения чем-то кровно обидели во время стряпни у плиты молоденькую татарку, жену рослого и очень сильного молодого татарина. Этот красавец татарин, на стороне которого я всецело был, бледный от ярости ворвался к нам, когда все сидели за общим столом, за чаем, и завертел тяжелой табуреткой над головой, держа табурет за ножку, с такой силой, что поднялся ветер. Он кричал только одно: «Убью! Убью! Убью!» Хотя было тут человек пятнадцать здоровых мужиков, сразу стало ясно, что сопротивление этому одному – невозможно. Все побледнели, пригнулись.
В таких случаях мне делается весело. Как все молчали, а табуретка почти касалась голов, я встал и, взяв татарина за руки, сказал: «Брось, Абдул, ты видишь, что они дураки».
Он посмотрел на меня столь жутким взглядом, что я мысленно попрощался с жизнью, но, глубоко вздохнув, бросил табурет в угол, и орудие разлетелось на куски; после того татарин ушел, хлопнув дверью так сильно, что зазвенело в ушах.
У меня тоже было столкновение: второй просевальщик угля, здоровенный мужик, забрал мою хорошую лопатку, подсунув плохую свою. После спора я схватил его за горло, и так как я решился бить, то этот впятеро сильнейший меня человек тотчас бросил лопату, а через день мы опять мирно беседовали.
Вскоре меня назначили в ночную смену: возить на домну руду. Рабочие наваливали подводу рудой, я шел рядом с подводой по отлогому, идущему вверх деревянному настилу к отверстию домны, где, вместе с другими рабочими, опрокидывал подводу и съезжал вниз, за новой порцией.
Из домны вырывался озаряющий все вокруг блеск пожара, сеявший бессонное настроение, возбуждение; подмерзший снег и лед луж пахли весной. Я погонял лошадь и мечтал о тепле казармы, потому что мой беличий пиджак давно был сменен на серый матерчатый, подбитый куделью.
После возки руды я работал дней пять внутри завода, таская и укладывая в штабеля отлитые чугунные болванки.
На земле, перед отверстием домны, были вырыты, расходясь во все стороны и соединяясь желобками, плоские формы болванок. Рабочий пробивал пробку внизу домны, и из отверстия брызгал белый блеск, ослепительный, как блеск магния. Белые брызги молнии разлетались снопами, когда лилась струя чугуна. Она медленно растекалась по формам; становилось жарко; чугун подергивался красной пленкой, мерцал, вспыхивал, принимал устойчивый красный цвет и медленно гас, делаясь черным. Когда он остывал, мы таскали эти болванки наружу и складывали их, как дрова.
Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.









