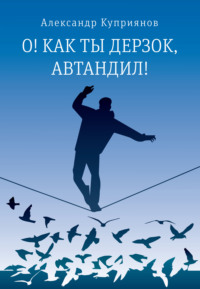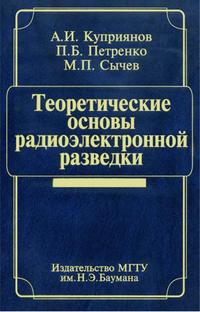Полная версия
Истопник
Через Мыколу отец Климент устроил Костю истопником. Всякий раз, уходя на работу – в тоннель, Костя брал с собой парабеллум. Не знал – зачем? Такая привычка осталась от офицерства. За год ведь здесь ни души не встретишь. Броди не броди по тайге, кричи не кричи. А зимой даже местные птицы-дальневосточницы, что не улетают на юг, прячутся в дальних распадках и в расщелинах скал. Недавно приезжал на дрезине обходчик с Ургала – привез сухари, муку и сахар. И рассказал Косте, что мерзлотную станцию у западного портала собираются расконсервировать. То есть запустить заново.
Наверное, продолжат строить дорогу и станцию.
Значит, скоро здесь снова появятся люди.
Важная новость. Он ведь убегал от людей.
Накануне, складывая поленницу у крыльца, Костя учуял запах дыма. Тянуло ветерком с дальнего портала. Сначала он думал, что пахнет головешками большого костровища. Каждое утро с двух концов он протапливал тоннель. Но тут же заметил, что Кучум, его ургальская лайка – помесь волка с собакой, тоже ведет себя настороженно. Крутится под ногами, уши ставит домиками и, подняв голову, нюхает воздух.
Кучум достался ему щенком в наследство от отца-охотника.
– Кого учуял, старший лейтенант? – спросил Костя и потрепал Кучума по холке. Ладонью почувствовал, что шерсть на загривке у кобеля вздыбилась и пошла волною, поверх ошейника. Ошейник у собаки был особенный. Костя сам его сделал из широкого ремня. Ближе к застежке прикрепил три ромбика, сняв со старой гимнастерки. Потому, стало быть, и старший лейтенант. Может, Костя так сам над собой иронизировал?!
Рассвет тронул розовым вершину хребта. Костя увидел, что уступы бетонного портала тоннеля тоже покрылись белыми узорами. Оттепель. Весенние циклоны приходили издалека, с Охотского побережья. Метеорологи Ургальской станции говорили, что циклоны зарождаются в предгорье Джугджурского хребта, более протяженного и мощного, чем Дуссе-Алинь, проходят амурскими долинами, упираются в Сикачи-Алян и только потом, окрепнув в пути, поворачивают и со страшной силой обрушиваются на Дуссе-Алинь. Пуржило три-четыре дня без остановки. Белая мгла накрывала тайгу, скалы, ручьи и лесотундру. Протяни собственную руку перед глазами – не увидишь в мареве. Кто-то стонал и ухал в ущелье, там, где уже ломала лед дикая река Чёрт. Раскачивались и скрипели над головами вековые кедры. Морока тому охотнику, кого весенняя непогода застанет на тропе. А нередко и беда. Нужно лепить из снега юрту, наподобие эскимосского иглу, и пурговать несколько дней.
Костя заторопился, потому что сегодня решил развести костер и проверить поставленные в распадке на соболя петли. Потому и взял с собой охотничьи лыжи. И старательский лоток, не удержавшись, сунул в рюкзак. Понимал, что еще рановато. Сезон начинался в конце апреля – начале мая. На реке, по берегам, еще синели наледи, но таежные ручьи, впадавшие в Чёрт, уже шуршали камешками. Несли невидимые, но вожделенные золотинки.
И самородки они тоже перекатывали.
Косте не терпелось присесть на корточки где-нибудь в устье ручья, покачать осторожно лотком, смывая песок до тех пор, пока не обнажится шлих, мелкие черные зернышки. В шлихе золото. Дно у лотка шершавое, не ровное. Таким его делают специально, чтобы золотинки цеплялись.
Сердце у Кости заходится…
Вот же они, вот!
Заблестели на дне лотка.
Надо спешить. Золото любит фартовых.
Но была и зупинка.
Заусенец, который возникает на пальце. И болезненно цепляется всякий раз, что бы ты ни делал. Брал ли в руки плотницкий топор или нажимал на спусковой крючок ружья. Зупинка заключалась в том, что вернулся Костя не только к высоким отрогам, чистым ручьям и глубоким распадкам. И к самому белому, и к самому чистому в мире снегу.
Он вернулся к тоннелю, из которого всегда тянуло холодом.
Он вернулся к воспоминаниям.
К баракам, сторожевым вышкам и к видениям сгорбленных зэков.
С вороватыми глазами и скупыми движениями.
Вороватыми-вороватыми – какими же еще!
Только Сталинка, Говердовская, считала их невинно осужденными.
За что и поплатилась.
А командир Бамлага, генерал Френкель, и сам Костя думали по-другому. Скупыми движения заключенных были потому, что опытный зэк-сиделец бережет свое тело каждую минуту. Больше беречь его некому. Френкель сформулировал точно: «Любой заключенный нам нужен первые три месяца…»
На Дуссе-Алине зэки жили подольше. Некоторые – по два-три года.
В студенческой жизни Костя оказался чужим. А там, у тоннеля, среди овчарок, багульника и колючей проволоки, он был свой.
И он был счастлив. Совсем недолго.
Там он встретился со Сталиной Говердовской.
Полюбил ее.
И потерял.
Эх-эх!
Если бы можно было вернуться назад.
Костин охотничий путик большой добычи не приносил. Но за нынешнюю зиму, небывало теплую и снежную, Костя добыл в кулёмки с десяток искристых соболей. Искусство установки самоловов, петель и кулёмок на зверька досталось ему тоже в наследство от отца. Как и охотничья собака.
За лагерные и городские годы Костя опыта не растерял. Не пропил его в кутежах по блатхатам города юности. Так красиво Комсомольск называли тогда в газетах. Для кого-то он был городом юности.
А для большинства – городом смерти.
А еще он торопился по другой причине.
Костя боялся рассветного часа, когда в тяжелом сумраке он ступал на тропинку, ведущую к порталу.
Все чаще ему стало казаться, что зэки шагают следом. Они идут на огонь раздуваемого Костей костра.
У зэков всегда так. Где огонек, там и рай. И блатные и политические костер называли одинаково: Ташкентом. Первыми шли доходяги, совали в пламя свои красные и скрюченные лапки со следами цыпок и чесотки между пальцами. Бригадиры подходили последними. Грубо расталкивали зэков и садились к костру спиной. Грели натруженные кости. Костер – главное спасение для зэка в промозглой тайге. Но и наряд не дремлет: «Занять рабочие места!»
Нет норматива сидения у костра.
Тут как совесть старшему наряда, сержанту, подскажет.
Костя сложил заранее нарубленную сухую щепу шалашиком, в основание сунул бересту. Потом пошли полешки покрупнее, а уже потом березовый швырок. Бревнышки такие, которые можно перекидывать одним броском.
Огонь весело сожрал щепу, перекинулся на поленья, затрещали березовые чурки. Да и ветерок помогал.
К утру он не стих и дул уже не набегами, как тундровый зверек. Ровно, как из трубы, тянуло из глубокого распадка.
Костя спиной чувствовал – идут…
Четыре колонны зэков появлялись каждое утро.
Одна от березовой рощи, где до сих пор виднелся черный шрам просеки. Там валили лес для пилорамы. Другие зэки понуро брели с поляны. Той самой, где раскинулось кладбище. Ровные ряды колышков с затесями. На них химическим карандашом писали номера умерших.
Третья колонна тянулась из промзоны. Шагали бетонщики в почти окаменевших от цемента робах. Крупнотелые тетки-проходчицы, костистые и высокие, наползали по гребню сопки. Снегу наметало там почти по пояс. Казалось, что проходчицы ползут по снегу.
И наконец, тачковозы скрипели тачками по мосткам от склонов сопок.
Там они набирали грунт для отсыпки трассы.
Шли на пламя Костиного костра.
Ну… Зэки да зэки.
Сколько их Костя повидал на своем веку. Жалкие, сгорбленные, выражение лиц или настороженно-злобное – зэк всегда готов к тычку, окрику и удару, – или скорбно-тупое. Мутный взгляд под ноги. Зэк редко смотрит в лицо конвоира.
Колонны объединяла одна странность, она пугала Костю.
Телогрейки и бушлаты у зэков были… красного цвета!
Цвета крови.
Словно четыре кровавых ручья текли по склону сопки и впадали в тоннель. Оттенков красного было несколько. Бригадиры и нарядчики шагали в темно-алом, как будто бы бархатном. Цвета бордовых кулис в каком-то театре. Может, Большом – главном театре страны, который так любил товарищ Сталин. Рядовые зэки шли в кумачовых телогрейках.
Словно лепестки маков, телогрейки трепетали на ветру полами.
Зэчки, все-таки, наверное, потому что женщины, были одеты в малиновые бушлаты. Цвет менялся, если Костя переводил свой взгляд с одной колонны на другую. Потом он внезапно догадался. У него же высокое давление! И потому так кровавит в глазах. Но ничего не мог с собой поделать.
«И мальчики кровавые в глазах». Вспоминалось откуда-то, из тайников студенческой памяти. Только тут были не мальчики, а тетки и мужики. В бушлатах, подпоясанных веревками.
Костя слышал их шаги.
Все ближе и ближе.
Резко поворачивался.
Он надеялся, что видение пропадет.
Не пропадало.
Он видел лица зэков. Прозрачные и белые, словно картонные маски, выкрашенные белилами. Изморозью были покрыты их брови и ресницы. На шапках лежал снег. Некоторые зэчки кутались в грубые солдатские одеяла, подпоясанные обрывками веревок, ремнями и даже тонкой стальной проволокой. Костя понимал, что все они призраки. А не живые люди. Подкладывал и подкладывал поленья в пламя уже вовсю бушующего костра. Костя знал: чем скорее разгорится костер, тем быстрее пропадут видения.
Не дойдут они до портала.
Одна зэчка садится рядом, у костра, и тянет руки к пламени.
Она спрашивает:
– Как тебе живется без меня, Ярков?
Это Сталина Говердовская.
Она гладит Костю по щеке. Он чувствует ледяной холод ее ладони.
Костя развязывает свой вещмешок, достает из потаенного уголка янтарные бусы и протягивает Сталине:
– Вот смотри, смотри… Я сохранил!
Озирается по сторонам.
На снегу лежат желтые бусы.
Никого. Ни колонн зэков в красных телогрейках, ни Сталины.
Только гудит пламя огромного костра. Ветер затягивает его в жерло тоннеля.
Там притаилась вечная мерзлота.
Костя проверяет пистолет под мышкой, забрасывает рюкзак за плечи и скользит в сопку на широких лыжах, подбитых камусом.
Снег еще лежит на ветках елей. Зима никак не отступит. Где-то снег искристый и тяжелый – на иглах стланика. С подтаявшей, а потом и заледеневшей, коркой. А где-то лишь припорошил кусты.
И уступы портала Дуссе-Алиньского тоннеля.
Высоко на портале хорошо виден барельеф Ленина – Сталина. Крупно выбита дата: 1947–1953. На сером бетоне уступов, присыпанных белой крупкой, кто-то оставил мелкие следы. То ли бурундук бегал – вышивал крестиком. То ли белка прыгала, шелуша шишку.
Вон и скорлупки раскиданы.
Оголодали зверушки за зиму.
Мелкие следы обитателей тайги.
И один огромный след людей. Двухкилометровый тоннель в скале.
Уже капель на портале, но и сильно морозит по утрам. А то невесть откуда налетит, как изголодавшийся зверек, буран. Поначалу крутит хвостом между елок, а потом накрывает перевал сизой мглой.
И уже не зверек он вовсе, а седой и косматый медведь. Весна его, что ли, гонит из берлоги.
Чрево тоннеля дышит холодом.
Там весны не бывает. Изморозь на бетонных стенах. Капают тяжелые капли, эхом отдаваясь под сводами.
У портала, на серо-розовом камне, стоит деревянная тачка. Колесом она вмурована в гранит. Памятник такой. Первостроителям Байкало-Амурской магистрали. Скульптор неизвестен. Памятник не комсомольцам-добровольцам 70-х годов прошлого века, а зэкам 30-х.
Изменникам Родины и врагам народа.
Между ручек тачки-памятника висит цепь, похожая на кандалы каторжника. Зэки приковывали себя к тачкам. Потому что единственный инструмент – тачку, которая обеспечивала дневную выработку и хорошую пайку хлеба, ночью могли украсть другие зэки. Те, которые были заняты на вспомогательных работах и получали хлеба гораздо меньше тачковозов.
Знаменитое ноу-хау командира Бамлага, генерала Нафталия Ароновича Френкеля, главного прораба стройки: как потопаешь – так и полопаешь! Мотивация примитивная, но действенная. Когда нужно было рапортовать о досрочной проходке штолен или об отсыпке магистрали в рекордные сроки – к 7 Ноября, или там к 1 Мая, нарядчики вешали на далеко вбитом впереди колышке красный кисет с табаком.
Или крепили алюминиевый бидончик со спиртом.
Махорка и водка на зоне всегда дороже денег.
Но не дороже свидания с Варюхой. И спорить нечего. Варюха, по-зэковски, полюбовница.
Случка зэков и зэчек была в арсенале энкаведов на Дуссе-Алине, как способ поощрения за ударную работу путеармейцев скального фронта. Так их тогда называли в многотиражках стройки. Путеармейцы скального фронта.
Слова «зэк», как и «энкавед», в газетах того времени Костя не встречал. Да и энкавэдэшниками их звали только в народе. И то – шепотом.
А красный кисет – как дойдешь, так покуришь.
А бидончик блескучий – как дойдешь, так выпьешь.
Если будет чем закусить. Да поймать на мушку хариуса в бешеном Чёрте – речка так в распадке, внизу у тоннеля, в каменном мешке бьется, дело плевое! Был бы только крючок, сделанный из иголки. А можно еще из булавки. Только правильно опустить жальце на огне.
Вспоротый по хребту серебристый хариус с оранжевыми пятнышками по бокам, присыпанный сверху сольцой. Нет вкуснее закуски под спирт, разведенный водой из того же Чёрта.
А если еще и горбушка черного хлеба…
Хоть липкого и невкусного, как глина. Зэки его называют кардиф.
Много ли надо зэку! Он летом густо мажет лицо солидолом, чтобы мошка и комар не так жрали. А зимой дышит на контрольный термометр у ворот в промзону. Минус тридцать восемь! Надо бы сорок. Тогда дадут по куску горячего пирога с картошкой. И могут отменить лесоповал.
Молодой еще зэк, студент из Хабаровска по кличке Писатель, дует на столбик: «Поднимется!» Бывалый, бригадир фаланги бетонщиков, весь словно скрученный из мышц, ему отвечает: «Поднимется-поднимется… Колымится!»
Кружка горького, как отрава, пихтового настоя от цинги. Бочка стоит в коридоре каждого барака. И топают оба в строй, на утренний развод.
В бушлатах и в ватных штанах, с прожженными от костра дырами.
В чунях, сделанных из автомобильных покрышек. Бригадир, понятно, в старых, но все еще добротных валенках, подшитых дратвой.
На то он и бугор.
Все остальные в чунях.
Такие резиновые лапти назывались суррогатками.
Они оставляли на снегу ребристый след.
Стоят зэки, сгорбились.
Из чуней торчат клочки мха. А молоденький Летёха – так и надо его называть, с большой буквы, потому что в киноромане Летёха – обобщенный образ офицера-лагерника, он – начкар, уже надрывается. Он творит молитву начальника караула: «Внимание, заключенные! Вы поступаете в распоряжение конвоя! Разобраться под руку пятерками! Шаг влево, шаг вправо – считается побег! Оружие – к бою! Дослать патрон! Конвой применяет оружие без предупреждения! Нарядчики – ко мне! Оркестр – марш! П-шел!»
Самая любимая команда сторожевых овчарок. П-шел!
Пошли зэки.
Пошли…
После них на снегу остается автомобильная елочка шин. Как будто огромная машина прошла своими колесами по зоне.
А может, и по всей ургальской тайге.
Бредут, как на похоронах.
Руки, по привычке, за спиной.
Лица замотаны тряпками.
Путеармейцы скального фронта.
Хрустит и картавит снежок под ногами…
Вообще-то Летёху зовут Василий.
С виду простой деревенский парень.
Но это только с виду. На самом деле он бериевский сокол-сапсан!
Голубая фуражка, синий кант. По околышу бликует звездочками иней. Фуражка-то, конечно, больше для форса. Сейчас прижмет морозец, и Летёха достанет из-за пазухи ушанку. Да ведь и ушанка у него особенная. Каракулевая. Отобрал у очкастого ханурика, по кличке Писатель, из Хабаровска. Того самого, что каждое утро дышит на термометр.
Урки не успели отобрать, а Летёха подсуетился.
На то ведь он и начкар!
Над центральными воротами лагеря висит плакат: «Труд в СССР есть дело чести, доблести и славы!» А чуть ниже, на широкой доске: «Кто не был – тот будет! Кто был – не забудет!»
Прибили доску старые зэки-повторники – еще соловецкие, не добитые троцкисты. Начальство разрешило.
А что?! Точнее ведь не скажешь.
Голосок лейтенанта ломается на утреннем морозе. И он дает петуха. Зато щеки офицера горят румянцем. А поди ж ты плохо! Летёхе не грустно в овчинном полушубке, в серых, новехоньких, валенках и в своей каракулевой шапке. Почти кубанке. Начальник лагпункта недавно пообещал Летёхе третий ромбик. Старлей. Не может быть, чтобы по пьяни болтнул!
Овчарка у ног Василия серо-седой масти. Скалится на людей, как будто смеется над убогими. А потом заходится в утробном лае.
Кажется, овчарку сейчас вырвет. Вот как она ненавидит окружающих ее людей. Говоря по-лагерному, псинка кинет харч.
Овчарка натаскана на людей в бушлатах.
От них пахнет бараком.
Овчарки ненавидят запах бараков.
Ко всему привыкает человек на зоне.
К лаю сторожевых псов привыкнуть невозможно.
Харкают кровью на снег зэки-путеармейцы.
Кто-то из них – тубик, а кто-то болеет цингой.
Десны кровоточат.
Духовой оркестрик на разводе – две трубы, барабан и литавры. Выводит: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»
Еще бы ему вольно не дышать, посланнику города Свободного!
Хрипят простуженные трубы, глухо и размерено бьет барабан.
Литавры предательски, по-стариковски, ухают.
Вот что видит Костя за тачкой на пьедестале.
Сколько раз, по распоряжению кума, тачку сковыривали ночью!
А наутро она возникала вновь. Вмурованная в гранит.
Но не кажется ли нам, что Костя засмотрелся на картинки давно минувших дней. Минувших ли?! Контролер-сержант, хохол-дылда, уже горбатится, бренчит ключами и открывает предзонник. В предзоннике догорает утренний костер конвоя. Грелись вохряки перед службой… Надзиратели бегут с пачками картонных листков-формуляров в контору. Перекличку зэков ведут строго по спискам. Недосчитают одного-двух – начнут шмонать бараки.
Сегодня фаланги в полном составе пошли к тоннелю.
Нет давно никакого лагеря.
И костры вдоль магистрали погасли.
Все поросло бурьяном, подлеском, крепкими осинами и лиственницами. Лес в здешних местах растет быстро. В два раза быстрее, чем в самой России. Где-нибудь под Тверью. Деревья боятся вечной мерзлоты. Потому и торопятся вокруг себя пустить длинные и крепкие корни, чтобы уйти в рост и стать сильными. Чтобы никакая буря не вывернула их из земли.
Так же и здешние люди. Крепкие и кряжистые, жадные до жизни.
Костя знает, почему он бросил студенчество и не стал географом.
Потому что он отчаянно куролесил и пьянствовал. Без меры.
После войны он служил в Бамлаге. Это позже его станут называть печально знаменитым. Сталинские застенки советских крепостных – рабов… Напридумывали, демагоги! Нормальные были рабочие городки.
Они и на картах так назывались.
У Кости была Почетная грамота за подписью Сталина. Подлинная подпись, не факсимиле. Он грамоту спрятал. Точно знал, что пригодится. Костя институт, конечно, бросил. Просто не пошел сдавать экзамены, где нужно было уже говорить не то, что думаешь, а подлаживаться под мнение профессора кафедры истории, недобитого троцкиста по фамилии Царёк.
С такой фамилией только и преподавать историю ВКП(б)!
Сначала Костя ошивался по вокзалам и притонам. Пил и дрался. Уже собирался сколотить бригаду и повести ребят на воровское дело. Но вовремя спохватился. Пошел работать охранником в артель золотарей «Амгунь». В ней верховодил бывший зэк-бандеровец Мыкола, безногий. «Для кого Мыкола, а для кого и Николай Степанович Гринько», – любил говорить он сам, западэнец. Там, на приисках, Костя и подружился со старательским лотком. А потом вернулся на Дуссе-Алинь, в пургу, к кедрачам, к наледям. Один умный человек посоветовал ему уйти подальше от людей. Хотя бы на время. Отец Климент, лагерная кличка Апостол.
Тоже когда-то сидел на Дуссе-Алине.
Апостол говорил: «Тебе надо душу лечить. Золотом и водкой ты ее погубишь».
Сорокаградусные морозы выжимали из скал студеную воду. Прямо из гранита выжимали. Весной цвел багульник, в реке бился таймень, а по бетонным уступам порталов скакали белки.
Прекрасно Косте Яркову, одному, жилось на Дуссе-Алине!
Отец как-то сказал ему: «У нас тут не Дальний Восток, а Дальний Восторг!» Только теперь Костя оценил слова Яркова-старшего. Утром выходишь на улицу, а столб дыма из трубы подпирает небо. Последняя звезда еще не закатилась и не погасла. Но уже кричат в распадках сойки. И носатый лось бредет к ручью на водопой, кося влажным глазом. В глазу отражаются дальние гольцы с белыми шапками снега, который не тает даже летом. На портале тоннеля снуют по бетонным уступам бурундуки. Белка смешно, как маленький человечек, обеими лапками несет стланиковую шишку. Они не боятся Костю. Потому что они видят его каждое утро. И, наверное, принимают за своего. Или за часть окружающего мира.
А еще ручьи…
Конечно же, ручьи добавляли таежного счастья!
Везде, по распадкам и у скальных прижимов, заливаются в горловом клекоте, как соловьи, хрустальные потоки. Душу твою охватывает восторг.
Костя ловил соболей, разводил костры, химическим карандашом писал о стройке-500. Получалось не очень складно. Как было дело по правде – не скажешь. А присыпать глубокие следы выпавшим легким снежком… Пустое занятие! Темные проталины на весенней реке не спрячешь. Ледоход их унесет. Разве что льдины разбросает по берегам.
Но потом и они растают. Ведь река – это жизнь.
И она течет по своим законам. Не по писательским.
Ему давно, во время службы на стройке, досталась неоконченная рукопись. Чужая. Досталась как бы в наследство от крестника, беглого зэка по кличке Писатель. Доходяга и почти фитиль, Писатель кормился у блатных. На память, за горбушку хлеба и щепотку соли, рассказывал «Трех мушкетеров». Миледи, бикса изюбровая, воровала две алмазных подвески у герцога Бекингема, крутого пахана.
Или про Ромео с Джульеттой, про принца Гамлета. Бедный Йорик!
Так Писатель развлекал мастёвых и порчаков.
Они книжек не читали, но любили слушать истории в лицах. Писатель изображал из себя шута, бедного Йорика. Истерично махал руками и кричал: «О! Я – бедный Йорик, шут короля!» Но никогда не изображал миледи. Считалось впадлу изображать женщину. То есть почти гнать сеанс. После такой картинки могли запросто опустить в каптерке бригадира.
Так у Писателя появилась второе погоняло: Бедный Йорик.
Рукопись называлась «Истопник. Записки барачного придурка». Писателя Йорика Костя, конечно, положил. На уже талый снег в рощице, недалеко от разъезда, у речки Солони. Он его покрестил. Так, осклабившись, как псы, говорят между собой офицеры в голубых фуражках. Когда хвастаются друг перед другом успехами в работе. Зэки называют службу в НКВД псарней. А и пусть их! Зато за каждого положенного мордой в снег зэка начальство щедро плещет из котла довольствия НКВД приварок. Да не баланду с развалившейся хамсой, а хрустящие пятихатки. Посмотришь книгу приказов за месяц и диву даешься! Почти каждую неделю бегут зэки. И ничто не может их остановить. А вохра довольна! Пусть чаще бегут.
Глядишь, к лету на путевку в Крым наберется!
На худой конец в Дом пограничника, под Владивостоком.
Не одного только Йорика Костя в тот раз покрестил. За что и получил именную грамоту Сталина. Тогда ушли живыми только двое. Может, Йорик тоже выжил. Костя успел на лошадке довезти его, теряющего кровь, в Ургальский госпиталь. Рукопись «Истопника» была спрятана, как в пенале, в черенке лопаты. Небольшую книжицу «Молитвенный щит» и пенал с тонкими, почти папиросными листочками Костя подобрал на месте ночевки беглецов. Почитал листочки. И ужаснулся! Ни одного светлого эпизода в записках не было. Все офицеры и надзиратели лагеря представлены как изуверы и садисты. Вот тогда он и решил написать сам. Не мог, правда, понять одного. Почему не получается так складно, как в рукописи Йорика? А в школьные тетради Костя заносил цифры. Перепады здешних температур и высоту снежного покрова. Он это делал для себя, понимая, что никому, кроме него самого, ни таежная статистика, ни воспоминания истопника не нужны. А вернуться, хоть на миг, в прошлое хочется все сильнее.
Только в сказке, да еще, пожалуй, в кино время можно повернуть вспять. Костя, конечно, не знает многих литературных приемов.
Может, поэтому и нескладно у него получается?!
Он не знает и о том, что в кинороманах используется флешбэк – обратный кадр. Художественный прием, с помощью которого сюжет на время прервется, и зритель увидит прошлое героев.
Флешбэк
Май 1945 года
Пламя костра Кости Яркова у восточного портала тоннеля трансформируется в пламя камина. Иосиф Виссарионович сидит на скамеечке, в темной комнате, на ближней даче. Сталин вообще любил сидеть у огня. Во время ссылки в Туруханский край, на Курейку, изнывая от безделья, он не уставал бегать на рыбалку и на охоту. Разводил костерки, часами мог смотреть на огонь. Есть легенда о том, что однажды к нему в гости приехали шаманы Севера. Добирались из самых отдаленных уголков тундры. Даже с побережья океана мчались на оленях. Хотели просить совета у мудрого грузина. Хотя и совсем не старого еще.