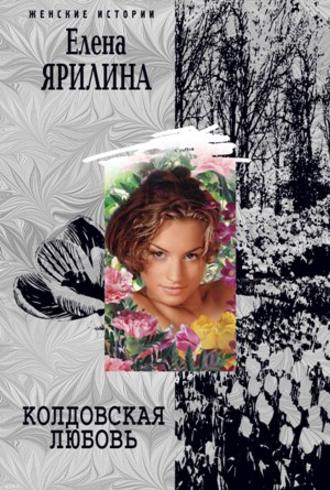
Полная версия
Колдовская любовь

Елена Ярилина
Колдовская любовь
Кире Захаровой посвящается
У нас в деревне народ такой смешно-ой! Взять, к примеру, Марюткиных: в субботу всей семьей ловили поросенка, ох и картина же была! Поросенок у них худой да пронырливый, то и дело убегает. Пятачком своим лаз под загородкой пророет и деру! В процессе ловли сам Марюткин рассадил себе руку об гвоздь в заборе, матюгался! Марюткина упала в лужу, вся испачкалась, хуже этого самого поросенка, да еще колено расшибла, тоже орала. А улизнувший поросенок набегался по деревне, нагулял аппетит и ближе к вечеру сам домой пришел, да прямиком к кормушке. Или еще пример: в прошедшее воскресенье Бабаниха белье стирала, стала белье развешивать, я как раз мимо шла. И только-только я с ней поравнялась, притормозила и думаю, здороваться мне с ней или нет, как она в этот момент с табуретки и свалилась! Падая, схватилась за веревку и так умудрилась в мокром белье запутаться, что мы с Тимохой вдвоем, тоже мимо проходил, еле-еле ее распутали. Сначала Бабаниху из белья выкрутили, а потом долго возились с табуреткой, все никак не могли отцепить от здоровенного белого лифчика. Белье, конечно, грязнее грязи, зато Бабаниха хоть и причитала, но целая осталась. Вот так у нас почти каждый день, не одно, так другое, такая уж у нас деревня. Так, о чем это я? Не помню, да ладно, некогда мне, еще корова недоена, я Чернушку эту терпеть не могу доить, то ли дело Зорька была, рыженькая, ласковая, а эта просто злыдня какая-то!
Я внесла ведро с молоком, стала процеживать и услышала что-то странное: брум-брум, потом тудыть-растудыть началось, не иначе, как у меня галлюцинации сделались слуховые. Таким басом всегда отчим с матерью разговаривал, когда дома был, то есть это ему казалось, что он разговаривает, а на самом деле орал на нее да матом крыл. Может, еще какой пьяница забрел, на бутылку просит? У нас в деревне их хватает, впрочем, где их нет-то? Разлила молоко по банкам, вхожу в избу, и сразу же начинается у меня уже зрительная галлюцинация: сидит за столом отчим, еще страшнее, чем раньше был, то ли немытый, то ли заросший такой, ложкой размахивает и орет. А маманя моя родная по зале летает, словно птичка, и улыбается от радости, а может, и от страху. Поставила она перед этим чучелом миску картошки с тушенкой, а я как увидела, что он картошку уминает не хуже соседского борова, поняла: галлюцинациями, к сожалению, не страдаю. Это каким же ветром его принесло? Амнистия была, а я не слышала? Что ж это у нас за правосудие, что без пяти минут убийцу через полтора года отпускают подобру-поздорову? Посмотрела я на него, посмотрела, потом опомнилась: что же я стою, глазею? Надо ноги уносить, пока цела. А он вслед мне орет:
– Куды пошла, курва? А ну вернись!
Я ушла к себе, но закрываться не стала, если буду у себя прятаться, он вовсе распояшется. Но кочережку все же под руку положила. Тут он ко мне вломился, ну чистая обезьяна.
– Я вернулся, хочу жизнь начать заново, а ты мне на нервы действуешь, зараза! Видно, мало я тебя учил, вот погоди, я уроки пропишу, и уж тогда на Тимоху не надейся, не век он тебя выручать будет. Вот тогда и посмотрим, кто в доме хозяин!
Мать сзади затеребила его за рукав:
– Паш, а Паш, ну что ты к девке-то привязался? Оставь ты ее в покое, Христа ради.
– Ишь жалельщица нашлась, разбаловала девку и все заступаешься!
– Дочь она мне, не чужая ведь. – Мать начала всхлипывать.
– Я в доме хозяин, по-моему жить будет, либо окажет мне уважение, либо вон отсюда!
Он говорил, а сам все косился на кочергу. Мать вздохнула, затеребила отчима сильнее, и он пошел за ней. Я бросила кочергу в угол и задумалась. Выходило, что в одном доме нам не жить, я по его правилам жить не буду, ну так и он по моим не будет! Жаль, дом папки моего покойного, большой, добротный такой дом. С любовью отец его строил для мамки да для меня, а теперь образина в нем барствовать будет. Эх, мамка, мамка! Вещички собирать надо и к бабке перебираться, мамке я все равно помочь не смогу, раз она ему в рот смотрит. На ночь я закрылась, но как рассвело, встала и пошла потихоньку, чтобы мать не видела, а то плакать станет. Бабулька моя всегда рано встает, так что я не боялась, что растревожу ее. Вот только вещи руки тянули, книг у меня всего десятка три, как на полке стоят, так вроде мало, а как нести, то тяжело. Только со двора вышла, а тут и Тимоха подвернулся, подошел, вещи перехватил, легко понес, что ему моя поклажа, так, пустяк один. Улыбается, на меня хитро посматривает. И я ему в ответ улыбнулась, для Тимохи улыбки не жаль, хороший человек он. Живо до бабулькиной избы дошли, а она на лавочке сидит, точно меня дожидается, овчину старую, вылезшую накинула, солнце встает только. Я к бабульке подсела, а Тимоха в дом вещи понес. Бабулька меня к себе прижала, полой прикрыла, а сама теплая, пахнет от нее травами сухими, хорошо, сладко пахнет. Тимоха из дому вышел, поклонился в пояс. Манера у него такая, при встрече головы не наклонит, а как прощается, то кланяется, да и то не всем. Он ушел, а я у бабки спрашиваю:
– Ты что, ворожея? Откуда знала, что приду я сейчас?
Бабка проворчала:
– Не будет тебе жизни в отчем доме. У матери твоей сроду нормальных мозгов не было, а грехи наши большие, стало быть.
– А грехи здесь при чем наши, баб? – заинтересовалась я.
– А то не понимаешь? Раз Бог не прибирает к себе ворога этого лютого, а все на наши головы сваливает, значит, заслужили, и другой жизни не будет нам пока. – Бабулька, кряхтя, поднялась, я за ней. – В зале жить будешь, – на ходу обронила она. Я удивилась: где же еще, если комната одна в доме? – Я на кухню перешла, моим костям теплее там будет, – разъяснила мое недоумение.
У бабушки моей было трое детей: сын, мой отец, и две дочери. Одну дочь бык забодал. Вторая выросла и в город подалась, на завод. Кто говорит, что спилась она и померла от водки, кто утверждает, что от болезни умерла. Лишь один сын ее и радовал, ласковый был, от работы не бегал, пил только по праздникам, потом женился, свой дом выстроил, я родилась. Мне было десять лет, когда сосед уговорил его пойти на охоту, на дальние болота уток пострелять. С той охоты отец не вернулся. Сосед, что был с ним тогда, пришел на третьи сутки, без ружья и добычи, весь мокрый, грязный и в жару. А у нас и фельдшера тогда не было, старый умер, нового не нашлось. Сутки он в жару пролежал, собрались в райцентр его везти, в больничку, а он дорогой умер. Так никто и не узнал, что там на этой охоте приключилось, а об отце с тех пор ни слуху ни духу, через три года бумагу матери дали, что считать, мол, его умершим. Мать года четыре одна мыкалась, а потом это свое сокровище выискала. Бабушка теперь хочет, чтобы я замуж вышла, детишек нарожала, мечта у нее такая – правнуков понянчить.
Завтракали мы не спеша. Только я управилась с мытьем посуды, как в кухонном окне показалась Симкина голова. Увидела меня, закивала. Это она в дом войти боится, вот и шарит по окнам. Бабка к окну спиной сидела, Симка и не шумела, да у бабки и на спине глаза.
– Войди в избу-то, поздоровайся, как все люди, ишь моду взяла в окне торчать!
Симка, конечно, тут же прыснула. Я не выдержала и тоже засмеялась.
– Что ты к ней все цепляешься, бабуль? Она от тебя скоро заикаться со страху начнет.
– Да непутевая она, вот и цепляюсь, – насупилась бабка.
Я удивилась:
– Чем не угодила тебе? Вроде бы ничего плохого не делает?
– А я и не говорю, что плоха, только весу в ней нет никакого, тю – и нет ее.
– Легкомысленная, что ль?
– Я ж и говорю, весу нет.
Спорить я не стала.
Симку я нашла на лавочке, она ерзала и дрыгала ногами, завидев меня, захихикала:
– Тонька, у бабки теперь жить будешь?
– Буду, – вздохнула я.
– Ой! Я как узнала, что твой отчим вернулся, обмерла вся со страху! Правильно сделала, что ушла, а то он тебе и вторую ногу сломает!
Я только вздохнула. Она уж к другой теме перешла:
– Купаться пойдем? Братишка сказывал, водица тепла-ая!
– Да ребятне она и в апреле теплая, но попробовать можно. Подожди, пойду купальник надену.
Купаться мы ходим на речку, которую зовем Воровкой. Речка неширокая, есть места по колено воды, но есть и глубже.
– Как ты думаешь, Сим, – спросила я, щурясь от солнца, – Печоры называются так, потому что пещеры рядом?
– Эва сказала! Пещеры и от нас недалече, а мы вовсе даже Черныши, – возразила мне Симка, энергично отмахиваясь от назойливого овода. И вдруг загорелась. – А давай в пещеры слазим?
Я согласилась, может, там что интересное найдем? Нога у меня сейчас не болит, чего ж не слазить? Раньше никто про эти пещеры и не знал, они прошлой весной только открылись. Берег подмыло половодьем, целый пласт обрушился на той стороне, лаз и открылся. Мальчишки первые обнаружили, наши, чернышовские. Прибежали, кричат: «Там пещера маленькая!» Потом уж парни с девчонками полезли, фонарями посветили и увидели, что за первой маленькой вторая пещера побольше есть, а за ней еще две небольшие. Валяюсь на солнышке, пузо грею, мечтаю, когда в пещеры пойдем, прикидываю, что надо взять с собой, а Симка молчит что-то, уснула, что ли? Голову приподняла, вижу, она не спит, чертит что-то на песке, сопит, не иначе, как что-то случилось.
– Сим, – говорю, – не молчи, давай рассказывай, что у тебя стряслось? Мать отлупила небось?
Мать у Симки вспыльчивая, чистый порох! Симка зарозовела и потупилась.
– Галочка приехала, вчера еще.
Меня словно мешком тяжелым по голове трахнули.
– И ты знаешь, – тут она пригнула ко мне голову и закончила зловещим шепотом: – Брюхата она, по-моему, Галочка-то.
– Ты ее сама видела?
– А то! Видела!
Бабулька полола в огороде грядки, я полезла ей помогать, но бабка замахала руками:
– Поди, я уж кончила все, скоро обедать будем. Дай вон Принцессе моей водицы, жарко, пить хочет.
Принцессой бабка зовет козу. Я напоила животину, подоила и отвела в тенек. В избе было прохладно, пахло травами и немного мышами, видно, кошка не очень справлялась. Бабка руки мыла, когда я спросила у нее, знает ли она, что Галочка приехала. По тому, как напряглась сутулая бабкина спина, поняла, что знает. Ближе к вечеру опять прибежала Симка.
– Тоньк, пойдешь на танцы? У меня платье новое, кра-а-сивое! Пойдем, а?
Я рассердилась: и чего пристает, ведь знает же, что не пойду. Раньше ходила, а как мне отчим ногу сломал, то и не хожу.
– На танцы не пойду, и не проси даже!
Симка вздохнула:
– Ну хоть в кино-то пойдешь со мной?
– А что за картина?
– Не помню, название какое-то длинное, старое, что ль, но про любовь. Пойдешь?
– Пойду. Ты чего, ты ж в платье хотела вроде?
– Ну хотела, да перехотела.
Народу на фильм пришло не так много, и все больше мальчишки. Я нахмурилась:
– Ты ж говорила, что про любовь?
Симка закраснелась слегка:
– Не знаю. И что ты ко мне сегодня цепляешься?
Где-то на десятой минуте фильма как начали палить, чувствую, надо уходить. Тут Симка меня толкает и шепчет:
– Я говорила, любовь будет.
Я мигом раскрыла глаза. На экране пышногрудая блондинка с каким-то небритым мужиком такую любовь изображали, что меня замутило. Глянула на Симку, а та сидит открыв рот, таращится на экран, видно, что нравится ей все это. Я стала пробираться к выходу, подружка не заметила даже, так увлеклась. Совсем не стало в последнее время фильмов хороших, одни страсти-мордасти показывают. Иду я, бормочу себе под нос, вдруг слышу, что вроде гукает кто-то. Чудится, что ли? Клуб-то наш на отшибе стоит, а вдоль тропинки посадки густые. Симка вечером одна здесь ходить боится, да и другие девчата тоже. Ну, кто бы ты ни был, но не на такую напал, подобрала с тропинки ветку хорошую, иду себе. Дошла до места опасного, с одной стороны кустов нет, а есть ямища здоровая. Песок здесь раньше был хороший, вот и брали его, яма почти у самой тропинки и всегда теперь водой залита. Когда земля сырая, ноги так и норовят съехать в эту лужу. Я с умыслом остановилась здесь, пусть, думаю, покажется. А он еще погукал, да и вышел. Темно было, но я сразу узнала Семку Банникова, паршивого мужичишку. С какой стороны ни посмотри, а все неказистый, малый да щуплый, голова здоровая и руки длинные, аж ниже колен. То-то его ребятишки Марсианином зовут. Характер у него паскудный, как выпьет, так начинает колобродить, по деревне шатается, под окнами кричит, в собак камнями кидается, его уж учили мужики уму-разуму, да сколько такого ни бей, умнее не станет.
– Тебе чего надо, Семка? – спрашиваю.
– Тебя мне надо, больно долго в девках ходишь, помочь хочу.
– Помочь? Это ты хорошо придумал, ну так иди сюда, чего встал?
Он сильно удивился, чего это я не визжу и не убегаю, а палку в руке у меня не видит. А все же трусит. Потом решился, сделал шажок и сразу руки протянул, лапать вздумал. Ну я ему и лапнула! Так палкой шарахнула, что он в лужу улетел. И тут что-то сделалось, лужа вздыбилась вся и завизжала. Луна выкатилась из-за облака, стало понятно: по тропинке впереди меня, верхом на громадной свинье, скачет Семка, держится за грязные бока своего скакуна и подвывает со страху, а свинья летит не знаю куда. Когда я пришла в деревню, там уже никто не спал, люди повыскакивали из домов, собаки заходились от лая. Я увидела механика нашего. В трусах, майке, но отчего-то в валенках, он держал в руках здоровый топор и нервно озирался по сторонам.
– Тонь, ты никого здесь не видела? – спросил меня неуверенно, когда я поздоровалась с ним. Видимо, сам не знал, на кого охотится с топором.
– Видела, – ответила я спокойно. – Семка Банников свинью оседлал и катается на ней.
– Тьфу ты, паралик его расшиби! Я уж думал, и правда чего случилось. Чтоб этот гад себе шею сломал! – С этим миролюбивым пожеланием механик ушел к себе.
Но народ еще долго не мог успокоиться.
Я вернулась домой, книжки расставила, осталось лишь подмести (сегодня ребятишки заходили, а после них всегда много сора), как дверь со скрипом отворилась и в нее просунулась голова Симки.
– Тонь, ну ты чего? Я тебя жду, жду, – обидчиво протянула она.
Я удивилась:
– А чего ты меня ждешь?
– У тебя память отшибло? Мы же договаривались с тобой в пещеры идти.
– Разве на сегодня уговор был? – засомневалась я.
– Да какая разница, сегодня или нет, ведь уговаривались же?
– Да ладно, чего ты кипятишься?
На другую сторону нас Марюткин переправил, у него покос на той стороне. Перед лазом я чего-то запнулась, Симка хихикнула и полезла вперед. Первая пещера оказалась маленькой и неинтересной, лаз во вторую – узким и страшно неудобным, но мы пролезли. Свет туда совсем не доставал, поэтому я зажгла огарок и подала его Симке.
– На, убогая ты моя, а то еще шею ненароком свернешь!
– Не дождешься! – клацнула она зубами.
– Подожди, давай уйдем, а? Глядеть тут нечего, не по нутру мне тут. – Я прислушалась, не то где-то что-то капало, не то шуршало. – Может, уж или змея?
Она взвизгнула и ломанулась бежать. Я – за ней следом. Как и надо было ожидать, в узкой щели она застряла и смешно задрыгала ногами. Я стала пропихивать ее, и тут до меня дошло, что лезем мы совсем в другую сторону.
– Симка! – ахнула я. – Погоди дрыгаться-то, сейчас…
Но договорить я не успела, подружка заорала благим матом и исчезла. И что странно, больше не орала, только сопение слышалось и топтание. Может, зверь какой? – со страхом подумала я, вздохнула и тоже полезла. То ли нога подвела меня, но была я настолько неуклюжа, что упала головой вниз.
Когда я разлепила глаза, рядом со мной на травке лежала Симка, глаза у нее были крепко сожмурены, она стонала и скребла по траве руками, словно хотела собрать ее под себя побольше. Я пихнула подружку в бок.
– Домой пойдем?
– Тоньк, ты это? А медведь где?
– Вот горе-то горькое, совсем сдурела? Какой тебе медведь?
– А где мы?
– На речке, загораем, – уверенно ответила я, но тут же меня сомнение взяло, Симка была полностью одета, пошарив по себе рукой, я определила, что тоже не в купальнике. – Странно, – протянула я. – А ты не помнишь ничего?
– Медведя помню, сожрать меня хотел.
– Хотел бы, так сожрал.
Передо мной появились грязные загорелые ноги, пацаненок лет семи с большим интересом рассматривал нас, даже рот забыл закрыть.
– Вина, что ль, напились? – хихикнул он.
– Иди отсюда, а то уши надеру! – заругалась Симка и села, ошарашенно завертев головой. – А ведь это Печоры, Тонька, ей-богу, Печоры! – изумилась она. – Как же мы тут оказались?
С утра у меня на сердце было неспокойно. Ох и не люблю я такое настроение! Видно, надо завязывать по пещерам лазить, права бабка моя. Не верю я ни в какого медведя, мы с Симкой довольно тощие и то в некоторых местах еле пролезли, а медведь – зверь крупный, как он туда попал? А потом что же, он нас вынес лапами своими, да и уложил рядком у самых Печор? Симка так перепугалась, глаз не кажет четвертый день. Дверь заскрипела, я подняла глаза, ни дать ни взять – видение! На пороге стояла моя мать в ярко-красной шляпке с вуалью, синей вязаной кофточке и длинной черной юбке, на ногах у нее красовались лаковые туфли, слегка потрескавшиеся, но все еще нарядные.
– Здравствуй, дочка. – Голосок звучал неуверенно и слегка виновато.
Улыбка плохо держалась на ее губах, то и дело сползала. Ужасно было ее жалко, и в то же время брала злость.
– Что у тебя за праздник такой сегодня?
– Годовщина у меня, – потупилась мать.
– Как отец пропал?
– Свадьбы, – совсем закраснелась мать. – Мы ждем тебя, я и стол накрыла, хороший стол получился, посидим как люди.
– Как люди не получится! – отрезала я.
– Не придешь, значит? – Губы у матери задрожали, но я упрямо отвернулась, чтобы не смотреть в ее заискивающее, испуганное лицо.
Дверь за ней тихо закрылась.
– Вот овца! – специально растравляла я в себе злость, чтобы не зареветь белугой от жалости и тоски.
Не успела я передохнуть, как дверь хрястнулась о стену, влетела возбужденная Симка и забулькала что-то нечленораздельное.
– Остынь, а не то закипишь, как бабкин самовар, – посоветовала я ей с раздражением, предчувствуя, что эта сорока принесла мне на хвосте не лучшие новости.
– Ромка приехал, представляешь?! – выбулькала она наконец.
– Ну и что? И так было ясно, что приедет, что ж такого?
– А то, свадьбу играть будут!
– Кто? – растерялась вдруг я.
– Иван Пихто! Ромка с Галочкой.
– Да она же беременная, ты сама говорила, какая же свадьба с животом-то? – Теперь уже я вытаращила глаза.
– Какая разница! – всплеснула руками Симка. – Теперь даже когда пузо на нос лезет, и то не стесняются, а у Галочки пока не очень заметно. Мать с бабкой мечутся как угорелые, варят, жарят, прямо пыль столбом. Водки накупили много и шампанского! Мамка моя тоже там помогает, они же нам родня, ты знаешь.
– А ты пойдешь на эту свадьбу?
Симка мигом опустила глаза и порозовела до самой шеи. Потом почему-то шепотом ответила:
– Не знаю еще.
– Пойдешь, значит, – заключила я.
Сегодня Ромкина свадьба. Значения она не имеет, он уже давно расписан с бывшей моей подругой, только вот сердце все равно щемит. Прошлым летом я каждый день спать ложилась счастливая и вставала радостная. Очень уж сильно я тогда Ромку любила. Чуб его пшеничный да глаза синие весь свет мне затмили. Только счастье мое коротким оказалось, даже до конца лета его не хватило. Врал мне Ромка, обманывал меня, а я, дурочка, верила, что он меня любит. Как узнала, что Ромка уехал, так недели две ходила будто в тумане, на людей натыкалась. Но это еще не было самым большим горем, самое горькое случилось, когда я письмо от него получила.
«Никогда бы я на тебе не женился, зря ты надеялась. Кто же калеку замуж возьмет?» – вот так мне и написал, а клялся, что нога моя больная его не волнует. Потому теперь и сердце у меня болит. Но ничего, я справлюсь, я сильная. Вот и бабулька моя говорит, что мы, бабы, семижильные. Вон впереди роща, за ней два больших поля, а потом лесом идти, пока в Федосьину избушку не упрешься. Я раза три у нее была, и каждый раз меня поражало, что вроде нет никаких признаков жилья, а вдруг раз – и избушка! Бабулька все посмеивалась надо мной.
– Как же ты не чуешь ничего? И лес видать хоженый, и дымком попахивает, да и козлом, прости господи, подванивает!
Козу свою бабка у Федосьи выпросила. Федосья еще когда в деревне на окраине жила, то одну козу держала, а как в лес на житье подалась, так целую козью ферму развела. Чегодаиха говорила, будто Федосья с волками разговаривает, звериный язык, мол, знает. Вообще-то Федосья нездешняя, из города большого приехала, то ли из Москвы, то ли из Питера. Это давно было. Появилась она уже с Тимохой, когда ему годика два было, только он не сын ей, у них и фамилии разные. Уж не знаю, откуда люди взяли, но несколько лет назад я слышала, что Федосьина незамужняя сестра нагуляла Тимоху неизвестно от кого, родила его, да и оставила в роддоме. Федосья тогда замужем была за большим человеком, ничего не делала, наряжалась только. Потом случилось что-то, Федосья на мужа разозлилась, бросила всю свою сытую жизнь, забрала из детдома ребенка сестры и подалась сюда, к нам в деревню. Приехала она на машине, сама за рулем была, все глаза на нее вытаращили, в то время ни одна баба у нас в округе за баранкой не сидела. Денег у нее с собой было не густо, она и сменяла машину на избу. Была тогда у нас одна пустая, но крепкая, у самой околицы стояла. Да и то, без машины обойтись можно, а без дома как? Поначалу Федосья в совхозной конторе работала, и хорошо работала, да в скандал попала. В райцентре, в исполкоме по сельским делам, в ту пору мужик один был. Указания такие давал, что люди не знали, смеяться им или плакать. Вот с ним и схлестнулась Федосья. Мало того что возразила ему, так еще и от ворот поворот дала, когда он вздумал амуры с ней разводить, она ведь красивая. Ох и взбеленился этот начальник! Не только с треском ее уволил, но и такую бучу в районе поднял, что и в школу бедную женщину на работу не взяли. Деревенские наши решили, что уедет Федосья отсюда, а она осталась. Насадила огород, козу завела, травы стала лечебные собирать, большой талант у нее к этому делу оказался, даром что городская. Начальника того, ее обидчика, посадили вдруг года через два, проворовался, оказывается. Федосью назад в контору звать стали, да только не пошла она туда, гордая. К тому времени Федосья совсем молчаливой сделалась, и взгляд у нее стал такой, что не каждый выдержит. Слухи нехорошие про нее по деревне поползли, что, мол, не только травами она лечит, но и ворожит. Лечила Федосья хорошо, у нас так, кроме нее, никто не может, потому и ходили к ней по надобностям, в основном бабы, конечно. Бабулька моя к Федосье хорошо относилась и куском всегда с ней делилась. Когда Тимоха у Федосьи подрос, лет двадцать ему стукнуло, Федосья опять всех удивила: оставила его одного в избе жить, а сама ушла в старое зимовье в глубине леса. Кому очень надо, и туда к ней ходить стали, нашли дорожку, но вообще-то о ней чуть не забыли. Лишь бабулька моя навещала ее. Изредка и меня брала.
Я спланировала, что выложу продукты, передам от бабки привет, и назад, да не тут-то было. Никогда раньше Федосья не обращала на меня внимания, а тут всю меня оглядела. У меня внутри зябко стало со страху.
– Проходи, Антонина Дмитриевна, гостьей будешь, с утра поджидаю, – вдруг заявила она мне и улыбнулась.
Никогда не видела я ее улыбки, и представить даже не могла, что такие бывают, словно солнце в избу заглянуло. Не успела я опомниться, как уже за столом сидела, передо мной стояла чашка бледного, какого-то зеленоватого чая, а на плетеной тарелочке лежал темный кусок пирога с ягодами.
– Ты уж извини меня, – усмехнулась хозяйка, – что так скудно тебя угощаю, да только чай у меня весь вышел. Травяной вот завариваю, да и мука лишь ржаная осталась.
– Ой! Ведь бабулька прислала вам чай, а я, растяпа, забыла совсем. – Я вскочила, но она коснулась моей руки:
– Не суетись, пей чай, успеешь еще гостинцы достать.
Пока Федосья дела делала, я таскалась за ней повсюду как привязанная, и все говорила, говорила, словно впрок на десять лет наговаривалась. Федосья неспешно хозяйничала, помалкивала, а вот слушала или нет, непонятно. После грибной ее похлебки мне неудержимо захотелось спать.
– Сонные, что ли, грибы? – бормотала я, пристраивая голову на краешек стола.
Как перенесла меня Федосья на топчанчик, я даже не почувствовала. Проснулась теплая, разнеженная, вспомнилось, будто Федосья гладила меня по голове и еле слышно шептала что-то.
– Это мне все приснилось, – отмахнулась я.
– Вставай, Тоня, утро на дворе. Жаль, в баньке я тебя не попарила, ну да придет время, попарю еще.


