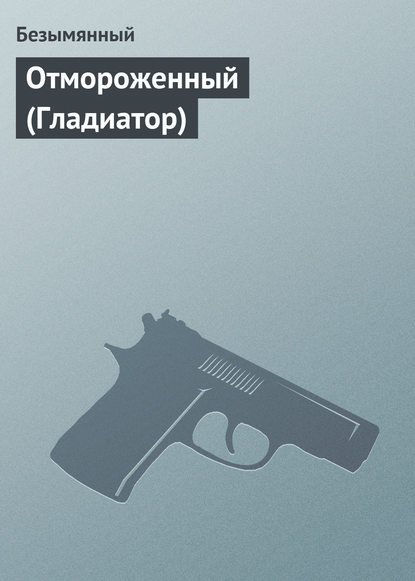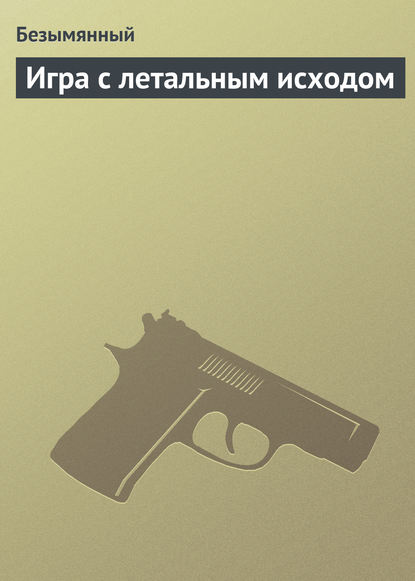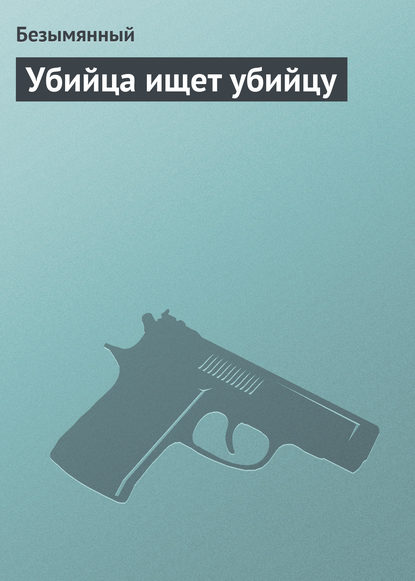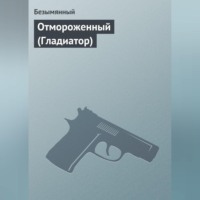Полная версия
Террор гладиатора
Крестный вдруг перестал смеяться и посмотрел на Ивана внимательно и серьезно.
– Только ошиблись они, Ваня. И ты ошибся, когда им поверил. Зачем мне моего лентяя в руки-то брать, когда он уже не годен ни на что? А вот судьбу я еще в руках подержу. Подержу, пока не выдою из нее все, что мне от нее нужно. И ты, Ваня, сделаешь то же самое, вопреки своей пословице. Если ты против, скажи сразу. Я не буду продолжать, и мы оба забудем об этом разговоре.
Иван не встал, не ушел, не сказал «Нет». Он промолчал, соглашаясь, фактически, на предложение Крестного. Иван знал заранее, что за словами Крестного стоит сама Смерть, вестником которой будет он, Иван Марьев. И сразу потянуло запахом промокшего на дожде чеченского редколесья, стукнул в ноздри смрад гниющего человеческого мяса и приторный запах свежей крови, а вслед за этим все перекрыла вонь чеченского дерьма, в котором он сидел, прикованный цепями к столбам в выгребной яме сортира за попытку убежать из рабства. Он тогда пережил свою смерть, и с тех пор остро и болезненно чувствовал ее близость, ее дыхание. И когда Крестный предлагал ему какую-нибудь работу, Иван всегда предчувствовал близкое опьянение от чувственной близости со смертью, потому, что Крестный никогда не предлагал работы, которая не подразумевала бы чьей-то смерти. И смерти Ивана, в том числе, если он не справится.
Иван молчал.
– Ну? – спросил Крестный.
Иван молча и медленно кивнул.
– Я знал это, – сказал Крестный очень серьезно, без тени какого-нибудь ерничества. – Я не мог в тебе ошибиться, Иван.
Иван даже поморщился, так его резануло это «Иван» из уст Крестного, который его иначе, чем «Ваня», никогда не называл. Ну, иногда еще – «сынок»… Крестный явно нагружал его важностью момента и ответственностью за принятое только что Иваном решение.
– Продолжаем разговор, – вернулся к привычной шутовской манере Крестный. – Знаешь, где судьба наша с тобой прописана? Не знаешь… А скажи мне тогда, где еще в России живут на небольшом клочке российской земли не меньше десятка народностей, каждая из которых мечтает стать нацией, достойной самостоятельного государства? И не только мечтает… Есть среди них и такие народы, которые считают величайшей несправедливостью отсутствие собственной полноправной государственности. Тем более, что было, было когда-то и у них свое государство, сильное, на равных разговаривавшее с Россией. И если вокруг него костеришко разжечь, взорвется, помяни мое слово – взорвется. А если уж Казань взорвется – вся Волга запылает. И если когда-то Разин по ней плоты с виселицами пускал, то теперь из трупов придется плоты сбивать. Хочешь быть волжским плотогоном, Ваня? А впрочем, что ж я спрашиваю, ведь ты согласился уже…
…Вот и река. Какая, впрочем, река – речушка. Инсар, что ли, или что-то в этом роде. Главное, что за ней – железная дорога. Иван уже заметил товарный состав, идущий к северу, именно в том направлении, которое его интересовало. Идти вдоль реки до железнодорожного моста – это еще километров двадцать. Гораздо проще переправиться через реку прямо здесь и сесть на любой попутный поезд, не теряя дорогого уже времени.
Иван не рассчитывал найти лодку. Не такие это населенные места, даром, что находится он сейчас в самом центре России.
Пройдя с полкилометра по берегу, заросшему кустами орешника, и поднимая в воздух целые полчища злых как волки комаров, Иван отыскал, наконец, то, что нужно. У самой воды лежало сваленное ветром сухое дерево. Поработав минут пять ножом, он полностью освободил его от цепкой вьющейся травы, и, хотя и с трудом, но без особых проблем, столкнул в воду. Иван срубил молодую березку, сделал из нее довольно крепкий шест, метра два длиной и, оседлав ствол дерева, оттолкнулся от берега.
Речушка оказалась на удивление глубокой, в метре от берега он уже не мог достать своим шестом дна. Но настойчивое, хоть и медленное течение потянуло его на середину реки, ширина которой была всего-то метров пятнадцать-двадцать, и вскоре Иван плыл по серо-стальной в рассветном мареве спокойной поверхности воды, ровная гладь которой нарушалась всплесками проснувшейся уже и голодной с утра рыбы. Судя по тому, что круги от этих всплесков на воде расходились то и дело справа и слева от Ивана, утренний клев сегодня обещал быть неплохим.
Впрочем, Иван не был рыбаком, так же, как не был он и охотником. В рыбалке его раздражала глупость рыбы, которую он воспринимал как какого-то соперника, противника, которого надо обязательно победить. А Иван не мог бороться против глупого противника. Это было просто скучно. Так же скучно, как убивать зверей, лишенных возможности ответить Ивану такой же смертельной опасностью, какую он представлял для них. Иван с оружием в руках был уже не охотником, он был убийцей, никогда не делающем промахов. Можно было бы, конечно, ходить на охоту и без оружия – на кабана, например, или на медведя.
«Но это уже не охота, – усмехнулся Иван. – Это что-то другое, для чего и названия нет…»
Придумывать название для такого экзотического занятия у Ивана не было ни желания, ни времени. Понемногу подгребая своим шестом, он перебрался вплотную к противоположному берегу, оказавшемуся несколько более пологим. Река даже намыла вдоль него небольшой узенький песчаный пляж. Оттолкнув от берега свой «плот» почти на середину реки и пустив вслед за ним березовый шест, Иван поспешил от реки к железнодорожной линии.
Проблемы – как остановить железнодорожный состав, – для Ивана не существовало. Наскоро разбросав из под одного рельса щебень, и очень грубо придав своему подкопу отдаленное сходство с промоиной, Иван выбрал в сухостое две длинных ветки и воткнул их крест-накрест над рельсами в насыпь над тем местом, где сделал подкоп. Оставляют ли такие знаки путевые обходчики, он не знал, но рассчитывал, что это привлечет внимание машиниста поезда как знак опасности. Потом подумал, что этого, пожалуй, будет недостаточно. И устроил на рельсах небольшой завал из молодых березок и осин. Издалека выглядело довольно внушительно, хотя и мало походило на знак предупреждения об опасности.
Затем Иван прошел метров двести в южном направлении, спустился с насыпи, спрятался в кустах и закурил в ожидании состава.
Он выкурил ровно три сигареты, и когда растирал в руках окурок последней, до него донесся сначала равномерный отдаленный стук, который мог исходить только от движущегося железнодорожного состава, а затем и резкий, несколько раз повторившийся гудок тепловоза. Иван приготовился. Состав явно замедлял ход, озадаченные ивановым завалом машинисты пытались рассмотреть, что это за баррикада такая стоит на рельсах. Иван видел, когда тепловоз медленно прополз мимо него, как напряженно всматривается вперед человек в кабине машиниста.
Состав так и не остановился. Но вперед он двигался уже еле-еле. Иван со своего наблюдательного пункта видел, что из тепловоза метров за тридцать до завала выпрыгнул один из машинистов и пробежал, обгоняя состав, вперед. Убедившись, вероятно, что ничего опасного там нет, он махнул рукой и побежал обратно. Состав начал набирать ход. Подождав, пока мимо него пройдет примерно две трети вагонов, Иван выскочил из кустов, в несколько длинных прыжков достиг состава и, ухватившись за торчащую в сторону лесенку, без особого труда забрался на заднюю площадку одного из вагонов ближе к концу состава. Никто его, вроде бы, не заметил. А если и заметил, то – мало ли кто в России по вагонам шныряет со своим личным интересом…
Отдышавшись и закурив, он посмотрел на запад, в ту сторону, откуда пришел этой ночью. Три высоких столба черного дыма поднимались на западе к мрачно-темному еще небу. Средний был пониже и пошире двух крайних. Слабый у поверхности земли и все усиливающийся с высотой северный ветер, сносил дым к югу, и Ивану на мгновение показалось, словно три огромных немилосердно коптящих паровоза мчатся к югу друг за другом по одной колее.
Но Иван хорошо знал, что это иллюзия, игра воображения. Ему было известно происхождение этих дымов. Посередине дымила станция поземного хранения газа, расположенная в сорока километрах к северу от Саранска на нитке газопровода Саранск-Нижний. Точнее – бывшая станция. На ее территории догорало все, что могло гореть. А гореть на месте взрыва нескольких кубических километров газа могло почти все – даже железо.
А два других поднимающихся вверх дыма – это концы разорванного Иваном газопровода. Газ сдетонировал в трубе на расстоянии не меньше километра от эпицентра взрыва. Нитка газопровода по обе стороны от станции взлетела в воздух, словно линейный шнуровой заряд, поднимая вверх тонны земли, валя окружающие деревья, линии электропередач, словно муравьев разбрасывая и насмерть калеча случайно оказавшихся около газопровода людей.
Тем, кто оказался на станции в момент взрыва, повезло больше. Они умерли практически мгновенно, не успев понять, что происходит. Это была легкая смерть, без мучений, без боли, без осознания невозвратности совершающегося, без страха перед неизвестным. Люди просто мгновенно превратились в пепел в потоках расширяющегося и одновременно взрывающегося сжатого газа, и пепел этот уже разнесен по лесистым и луговым просторам их малой родины, лежащей в центре Родины большой.
Первая искра того костра, о котором говорил Крестный Ивану, была зажжена. И зажег ее Иван. А сейчас ехал на север, чтобы зажечь там вторую искру, выпустить на волю еще один язык пламени, в котором, по расчетам Крестного, должна была сгореть Россия.
Глава вторая.
Ивану повезло даже больше, чем он рассчитывал. Вагон, на который он запрыгнул – большая открытая сверху коробка на колесах, – был загружен только лишь наполовину свежей сосновой восьмидесяткой. Иван спрыгнул внутрь и с удовольствием растянулся на широких, больше полутора метров в поперечнике сосновых досках. От густого, плотного, почти осязаемого запаха сосновой смолы временами начинала кружиться голова.
Он, почему-то, был уверен, что полвагона отличной деловой сосны попросту украли предприимчивые, хотя и простецкие с виду аборигены этих мест. За сутки, которые он провел в Мордовии, выбирая наиболее подходящее место для терракта, он насмотрелся на местный народ, наивно-простодушный на первый взгляд, но никогда не упускавший возможности украсть то, что плохо лежит, а то, что лежит хорошо разглядывающий долго и внимательно, словно не веря до конца, что украсть это нельзя.
Иван улыбнулся, вспомнив, как на трассе Пенза-Саранск ранним-ранним утром он остановил своего «жигуленка» на совершенно пустынном шоссе. Облегчиться захотел, поссать, то есть. Едва он спустился к кустам красной смородины, росшим за обочиной, – ягоды, может быть, еще и не созрели, но выглядели очень аппетитно, – как с противоположной стороны, из таких же кустов вышел низкорослый, одинаково широкий как в плечах, так и в бедрах, мужчина в засаленных джинсах и мятом широченном пиджаке, который когда-то был, скорее всего, желтого цвета. Судя по резко очерченным скулам и безмятежно-ясному выражению мясистого лоснящегося лица, вряд ли он был русским.
Не обращая внимания на Ивана, нагнувшегося к кусту за ягодой, мужчина спокойно уселся на место водителя и начал деловито копаться в замке зажигания. Иван знал, что не сможет он завести его «жигуленка», который без ключа упорно не желал заводиться, Иван убедился в этом на своем опыте, когда никак не мог найти ключи, а ехать нужно было срочно. Но, все же поспешил к машине. Дело в том, что в отличие от замка зажигания замок багажника открывался от случайного прикосновения любым предметом. В багажнике у него лежало несколько тротиловых шашек, лишиться которых он не хотел. Мужчина даже не посмотрел на приближающегося Ивана. Он откручивал замок зажигания, рассчитывая, вероятно, соединить провода зажигания напрямую.
– Покататься решил? – спросил его Иван, открыв левую дверцу.
– Не-е, – помотал головой мужчина. – Мне машина нужна.
– Понял, – с демонстративной серьезностью кивнул в ответ Иван. – Понял, не дурак. Но ты знаешь, мне она тоже нужна.
– Если нужна – забирай, – легко согласился с Иваном мужчина.
Он посмотрел на Ивана своим наивно-ясным взглядом и вылез из машины.
– Карманы выверни, – сказал ему Иван.
– Зачем? – спросил тот, моргая на Ивана младенчески-чистыми глазами.
Но полез все же во внутренний карман своего грязного, затертого пиджака и протянул Ивану паспорт и водительские права. Иван открыл паспорт. Тот выл выдан Свиридову Василию Георгиевичу. На фотографии – лицо Ивана. Свиридов – это был он.
– Что еще взял? – спросил Иван.
– Ничего, – равнодушно пожал тот плечами. – Ничего не взял.
– Ладно, – сказал Иван. – Пошли.
– Куда? – спросил мужчина, выражая готовность идти с Иваном куда угодно.
– Туда, откуда пришел, – ответил Иван, имея ввиду нечто иное, чем придорожные кусты, из которых вылез неудавшийся похититель машины..
Иван не хотел его убивать, но выбора у него, собственно, не было. Мужчина мог заглянуть в паспорт или права и запомнить фамилию, под которой Иван сейчас существовал. Кроме того, Иван вспомнил, что, прежде, чем лезть в салон, этот простодушный грабитель заглянул в багажник. Видел он взрывчатку или не видел, теперь было уже безразлично. Судьба его была решена.
Иван хотел застрелить его в кустах смородины и уже наставил ствол пистолета на его затылок, но не выстрелил. Ему захотелось увидеть – какое выражение примет это невозмутимо-спокойное лицо под взглядом самой Смерти? Он тронул мужчину за плечо. Тот обернулся. Иван поднял пистолет, наставив его прямо в глаза, в которых рассчитывал увидеть ужас или хотя бы сильный страх. И – не увидел ничего. Глаза были по-прежнему безмятежно-спокойны, кристалльно-ясны и невозмутимы.
Иван выстрелил. Правый глаз мужчины превратился в кровавую дыру. Левый не утратил своего выражения. Мужчина медленно упал на бок, подвернув под себя правую руку, несколько раз дернулся и затих…
Вспомнив об этом сейчас в вагоне на сосновых досках, Иван снова, как и тогда, после выстрела в кустах смородины, поморщился…
Непривычное, давно забытое им саднящее чувство залило его грудь и заставило коротко простонать. За равномерным грохотом колес он не слышал своего стона, но его левая рука сама потянулась к груди и начала растирать ее, словно это могло облегчить ощущение какой-то тоскливой боли, поселившейся внутри. Мужчина, убитый им на шоссе, лежал точно в такой же позе, в какой лежала Надя, когда он видел ее в последний раз. И выражение ее глаз было таким же ясным и спокойным, отчего Ивану становилось еще тоскливее и еще больнее.
Таким было их расставание – в тот день, когда Иван покидал Москву. Иван, конечно, не сказал ей ничего определенного по поводу того, куда и зачем он должен ехать. Только – что уезжает. На две недели, а то и больше. Как получится. А Надя ничего у него не спрашивала, только смотрела в его глаза с напряженной готовностью сделать все так, как он хочет. С готовностью женщины принять все мужское. Будь то хоть половой член, хоть пуля, хоть удар ножом. От Ивана она примет все.
Иван с усилием поднял руку, коснулся ее щеки, провел пальцами по подбородку, не зная, как сказать ей что-то важное о себе, хотя и сам не знал – что именно. Он не понимал, почему не может просто молча уйти, забыв об этой женщине, случайно ворвавшейся в его жизнь в московском метро, ничего не требующей, ни на чем не настаивающей, ничего не просящей, ничего не предлагающей.
Уже два месяца Иван жил у нее, недалеко от Крымского вала, и ни разу за это время у него не возникло желание скрыться в своей «берлоге» на восемнадцатом этаже высотки на площади Восстания, где он обычно уединялся, прячась ото всех на свете, в том числе и от Крестного. Там на него вал за валом накатывала Чечня, и он вновь и вновь проживал один за другим дни плена, чеченского рабства, дни, в которых растворилась его душа как капля вина в стакане воды, оставив в полном его распоряжении только тренированное тело профессионального убийцы.
У Нади он забыл о Чечне, хотя не смог забыть о смерти, которая влетела в его жизнь чеченским черным вороном и свила гнездо в опустевшем Иване – прямо на холодном куске его обледеневшей, промороженной души. Иван очень мало говорил сам, больше слушал надины рассказы о себе, о матери-наркоманке, той самой, мучения которой он прекратил, легким движением забрав ее жизнь. Он врастал в психологические подробности быта надиной жизни и они становились для него подробностями его жизни, поскольку никаких других подробностей в его жизни не существовало. Кроме подробностей убийств, которые он совершал по заказам Крестного…
Надя подняла голову, уловив его желание погладить ей шею. Иван положил руку спереди ей на грудь, чувствуя себя непривычно неуклюжим и скованным. Он вдруг понял, что не только женское тело, не только физиологический комфорт нужен ему от этой женщины, как это было со всеми женщинами, которых он помнил до нее в своей жизни. Ему нужна была ее по-собачьи беззаветная женская преданность, готовность принять его всегда и целиком, не оценивая и не рассуждая, что бы он ни сделал.
– Я вернусь к тебе, – сказал он, с трудом выговаривая непослушным языком какие-то странные для себя, непривычные слова.
Потом он сделал то, чего не мог объяснить себе и теперь, то, что его самого до сих пор удивляло и даже страшило настолько, что едва вспомнив, он тут же старался выбросить это из головы. Иван не то, чтобы понимал, он просто чувствовал, – начни он раскапывать внутри себя, начни искать ответ на этот вопрос, зашатается, ослабнет все его равнодушие к жизни, дающее ему силы, делающее его неуязвимым. Но как ни пытался он отвернуться от этого воспоминания, в памяти вновь и вновь всплывало это его движение – он наклоняется к Наде и целует ее в открытый, мгновенно покрывающийся испариной лоб.
Это для него была давно и прочно закрытая тема. Впервые после того, как он попал в Чечню, Иван поцеловал тогда женщину…
Состав слегка замедлил ход и Иван прислушался, но никакого, предвещающего крупную станцию и длительную остановку, оживления снаружи вагона не услышал. Он осторожно выглянул наружу.
Мимо проплывала обычная для небольшой станции картина – свалка железнодорожного металлолома, старые облезлые вагоны с выбитыми стеклами окон, кирпичные и деревянные постройки непонятного назначения – что-то вроде складов, огороды, обнесенные реденьким, неизвестно для чего поставленным заборчиком – все это было знакомо до зевоты, и не вызывало у Ивана никакого интереса. Его интересовало лишь одно – остановится состав или нет? Задержка никак не входила в его планы.
Приближение станционного здания, у которого, как издалека разглядел Иван, толкались несколько человек, заставило его спрятаться вновь, так и не узнав, что это за станция. Правда, это не очень его и интересовало. До станции своего назначения, где его должен ждать отправленный им самим груз на его же имя, он явно еще не доехал, покидать гостеприимный вагон было еще рано.
Состав, судя по всему, останавливаться не собирался. Иван лег на одуряюще пахучие сосновые доски и постепенно вновь задремал. В голове крутились обрывки каких-то разговоров то с Крестным, то с Надей, всплывали картины последних двух месяцев его жизни в Москве. Жизни с Надей, с Надеждой…
«А, ведь, я и впрямь на что-то надеялся, – подумал Иван. – И это странно. На что мог надеяться я, убивавший своих друзей, забывший свою жизнь и понявший вкус собственной смерти?»
Он вспомнил удивительное, непривычное чувство безопасности, которое первым проникало в его сознание, когда он просыпался рядом с прижавшейся к нему во сне женщиной. Он никогда после Чечни не чувствовал себя в безопасности, ни на один миг не забывал, что где-то рядом с ним кружит смерть – его и тех людей, которые встречаются на его пути. Чечня забрала его душевное равновесие, его внутреннее спокойствие, дав взамен – безразличие к боли и страданию, ироничное, недоверчивое отношение ко всему живому, способному предать и убить, и уважение к неживому – надежному и постоянному в своей неподвижности – к камням, металлу, оружию, к земле, по которой он ходил и воде, в которой приходилось ему плавать.
Рядом с этой женщиной он забыл о смерти и, поняв это сейчас, впервые после Чечни испугался. Испугался, что не узнает свою смерть, когда она придет, чтобы увидеться с ним еще раз. Иван понял, что он не хочет умереть, можно даже сказать – он боится умереть.
Ему опять стало нехорошо – от этой мысли. Он без малейшего колебания вступил бы сейчас в бой с любым противником, и победил быв его с прежней уверенностью, не задумываясь – зачем это ему нужно. Противник должен быть побежден только потому уже, что он – противник, что он хочет победить тебя, забрать твою жизнь. Но забрать жизнь Ивана имела право только Смерть, с которой у него были свои очень личные отношения. Смерть была почти существом из плоти и крови, существом, которое питалось человеческими жизнями и которое Иван кормил ими регулярно, считая это не только своей обязанностью, но почти – священным долгом. А чтобы подойти к нему близко, кормить из рук, нужно было не иметь страха перед ним. И Иван не боялся умереть, он верил, что смерть сама определит момент, когда забрать его к себе. А сегодня – впервые испугался…
Иван с удивлением прислушивался к себе, лежа на широких сосновых досках и покачиваясь вместе с вагоном на стыках рельс.
«Чего же я боюсь? – думал он, и этот вопрос казался ему самым важным сейчас, важнее самого Задания, которое он выполнял. – Почему я боюсь?»
Он вспомнил, как Надя упала после того как он поцеловал ее в лоб – на правый бок, подвернув под себя правую руку. Казалось, она потеряла сознание, но глаза ее были открыты и она смотрела на Ивана удивительно спокойным и ясным взглядом, принимая его решение, не ропща и не возражая – раз он сказал, что ему надо идти, значит… Значит она будет ждать его. Только вот ноги, почему-то, подкосились, и не хватало сил поднять руку, вообще – пошевелиться. Надя безусловно верила в его слова. Конечно, он вернется – он сказал, что вернется. Но от того, что она в это верила, не было никакой радости, только хотелось плакать, зарыться куда-нибудь с головой, спрятаться, скрыться и застыть там в бесконечном ожидании.
Надя знала, что он вернется. Но ее сознание черной пеленой заливала мысль о том, что она его больше не увидит. Никогда…
Иван мучался, пытаясь осознать свой непонятный страх, и что-то вроде ответа туманно плавало в его голове, не входя до конца в сознание и дразня своей близостью. Но Иван всячески отталкивал этот приближающийся к нем у ответ на свой вопрос, уворачивался от него и искал объяснения в трусости, в усталости, в болезни, слабости, в собственной ничтожности, наконец… Пока не понял – он постоянно убегает от прямого ответа, который все объясняет, но объяснение это не приносит облегчения.
Он даже открыл глаза и рывком сел на досках, схватившись за свои ноги, чтобы сохранить равновесие. Ответ встал перед ним со всей неожиданностью горного хребта, в первые отроги которого упираешься как в стену, хотя перед этим он неделю маячил у тебя перед глазами на горизонте, с каждым днем увеличиваясь по мере приближения к нему.
Он, Иван Марьев, – «Отмороженный», «Гладиатор», «Чеченский Волк» – боялся умереть, и никогда больше не увидеть женщину по имени Надежда…
И еще одно чувство всплывало изнутри Ивана, сопровождая чувство страха, находясь с ним в какой-то непонятной, но тревожной неразрывной связи. Чувство недоверия к Крестному…
До самого Алатыря Иван ни одной минуты не провел уже спокойно. Ему просто на месте не сиделось, состав, казалось, еле ползет, время не движется. Он то и дело смотрел на часы, и с удивлением обнаруживал каждый раз, что прошло не больше пяти минут.
То он начинал отчетливо слышать, как стук колес становится все реже и реже. Он был уверен, что состав останавливается. Иван выглядывал из своего укрытия и с удивлением отмечал, что деревья вдоль железнодорожного полотна проносятся мимо все с той же ничуть не уменьшившейся скоростью. Он опять сползал на свои доски и, уткнувшись в них лицом, пытался отвлечься от раздиравшего его грудь и голову ощущения раздвоенности, раздробленности. Он чувствовал труднопреодолимую потребность быть рядом с Надей, прижимать к себе ее тело и погружаться в ставшее привычным уже для него чувство покоя и безопасности. В то же время, он стремился вперед, он как бы бежал впереди состава, торопя время, торопя тепловоз, он спешил выполнить то, что ему поручили, то, о чем ему говорил Крестный.
Сам Крестный был еще одним центром притяжения для Ивана, который впервые почувствовал, что этот человек имеет над ним какую-то власть. И это было настолько неожиданно, что просто выбивало из равновесия, необходимого для нормальной работы. Иван признавал после Чечни только одну власть над собой – свою собственную. Да, он выполнял для Крестного какие-то поручения, он убивал людей, которых называл ему Крестный, получал от него за это деньги, но всегда Иван сам принимал решение – соглашаться ему на очередное предложение Крестного или нет.