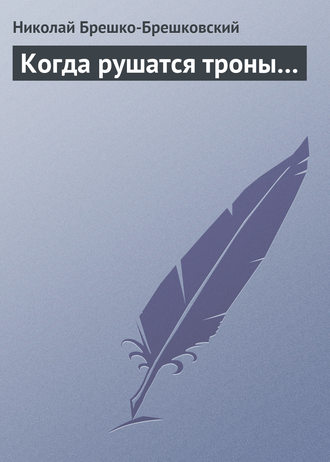 полная версия
полная версияКогда рушатся троны…
Темные, миндалевидные глаза короля встретились с большими светлыми глазами баронессы Рангья, постоянно меняющими свой цвет с каким-то неуловимым очарованием.
Десятки чужих, посторонних глаз отделяло их. Отделял этикет, ибо и здесь, в этом горном, полудиком местечке, король без мундира, в одной рубахе и с лопатой в руке, оставался королем. И потому, что оба не могли двинуться друг к другу навстречу, как пара самых обыкновенных влюбленных, именно потому их запретный, тщательно скрываемый, хотя и явный для многих, роман и почувствован был в момент встречи взглядов с особенной, жуткой, стыдной и интимной остротой. Адриан вспыхнул. Это не было замечено потому лишь, что смугло-матовое лицо его, как гримом, было покрыто пылью. Зато маленькая баронесса предательски зарделась. Предательски, ибо необыкновенная, нежная и чуткая кожа бледного лица выдавала ее с головой, выдавала все ее душевные переживания. И тем горячей и смущенней был ее румянец, заливший и высокий лоб, и бело-молочный подбородок, что в глазах, опушенных длинными ресницами, она прочла:
– Когда же я буду опять всю тебя, точеную, ослепительно-белую, покрывать безумными поцелуями? Когда? Ведь мы уже несколько дней не виделись…
Это было только для нее. А «для всех» он произнес с улыбкой и легким поклоном в ответ на ее глубокий придворный реверанс, такой, как если бы это было на парадном обеде в кирпично-красном дворце, за кирпично-красной стеной:
– И вы здесь, баронесса? Делает честь вашему доброму сердцу, что вы приехали помочь хоть немного этим несчастным…
– О, государь, ваш личный пример может воодушевить самых черствых, может растрогать самое каменное сердце!
Так говорил маленький, нежно-коралловый ротик с чуточку кривой линией губ, – эта неправильность сообщала им что-то особенно милое и детски-капризное, – а глаза, ставшие синими, говорили: «О, как я люблю тебя!»
Все это один миг, да и то прерванный. От имени Лилиан явилась за Зитой одна из фрейлин принцессы и увела ее, – число раненых увеличивалось и все рабочие руки были на счету.
Адриан, довольный сознанием, что любит и любим, что ему тридцать два года и впереди так вольно разлеталась вся жизнь, еще с большей энергией и силой схватился за лопату. Через несколько минут забаррикадированная стихией дверь была освобождена. Адриан первый проник в дом. Из бедного мусульманского жилища он вынес на руках полузадохшегося трехлетнего ребенка. Джунга бережно, как будто опасаясь раздавить своими железными руками, нес молодую мать, от ужаса впавшую в глубокий обморок. Не желавший ни в чем отставать Рангья тащил на спине отца ребенка, тоже обморочного, либо от удушья, либо от страха. На воздухе все трое, вспрыснутые водой, растертые, мало-помалу приходили в себя.
В этой человеческой трагедии, трагедии с декорациями, которых не создать ни одному живописцу мира, – так они созданы были Господом Богом, – трагедии на фоне безмятежных, бирюзовых небес и воздушных фиолетовых горных далей, были разные герои и действующие лица, и пострадавшие, и те, что нуждались в уходе, и те, для которых вместо всякого ухода необходим был вечный покой. Были те, которые облегчали страдания одних и снаряжали других в далекий, далекий неведомый путь. Были равнодушные и праздные, пытавшиеся сочинить из катастрофы политический скандал, зрители вроде Шухтана. Были чиновники долга, – сановники, министры. Высокое положения обязывало их поскучать. Были хищники, почуявшие заработок и во имя этого заработка слетевшиеся: сотрудники газет, иностранные корреспонденты, кинематографисты.
И среди этой пестрой толпы, по разным причинам съехавшейся в расплющенный несколькими сотнями тысяч тонн минеральных пород и земли, крытый чешуйчатой черепицей городок, профессор Тунда единственный был «сам по себе».
Трагедия Чента Чинкванты была для него изумительным по своему драматизму пейзажем. Пейзаж после битвы титанов, швырявшихся обломками поднебесных скал.
И вот их нет уже – титанов. Они скрылись, и вместо них суетятся, хлопочут в этом хаосе какие-то новые человеческие муравьи. Оставаясь спокойным, сошедшим с Олимпа – художником-творцом, Тунда в берете, с погасшей сигарой в зубах, зарисовывал в свой альбом и превращенные в бесформенные груды жилища, и причудливые формы гигантских глыб, и поверженные в прах кипарисы, и с одинаковым маетерством успел набросать и тонкую Лилиан, ухаживающую за ранеными, и величавого графа Видо, окруженного министрами, и миниатюрную фигуру баронессы Рангья, и короля с лопатой, и Джунгу, и везде поспевающего Бузни.
Каждый набросок – шедевр в смысле сходства, движения.
Француз-корреспондент, маленький, кругленький, еврейского типа, следовал по пятам за профессором, через плечо засматривал в альбом, ахая, охая, восхищаясь. Наконец не выдержал:
– Господин министр, за большой рисунок этой катастрофы, специально исполненный для «Illustration», – десять тысяч франков! Чек сейчас!..
– Убирайтесь к черту! – не отрываясь от альбома и не зная, кого он посылает к черту, буркнул художник, сквозь сжимавшие потухшую сигару зубы…
14. Миссия кардинала Черетти Делла Торре
Кардинал монсеньор Черрети делла Toppe был назначен папским нунцием в Бокату, сменив предшественника своего, кардинала Звампу, отозванного в Рим.
Черетти делла Toppe, несмотря на свои пятьдесят шесть лет, считался одним из красивейших князей католической церкви. Он был совершенно седой, имел свежее, молодое бритое лицо и еще более молодые глаза, чернью, жгучие глаза сицилийского пирата. Да он и был родом из Катании. Может быть, в очень отдаленные времена предки его и занимались морским разбоем, но уже пятьсот лет назад Черетти делла Toppe считались далеко не последними в семье сицилийской аристократии.
У женщин кардинал имел такой успех, какой ни одной оперной знаменитости даже не снился.
Но монсеньор отличался в этом отношении большой разборчивостью, выделяя поклонниц, соединявших приятное с полезным – внешнюю красоту с положением в свете и с политическими связями.
Сам человек светский с головы до ног, монсеньор владел собой с великолепной ватиканской выдержкой. Одного не мог только, – гасить яркий разбойничий блеск глаз своих, живых, слишком живых для такой высокой духовной особы… Но этими глазами и покорял он женщин, изнемогавших от их сицилийского зноя…
На другой день после катастрофы в Чента-Чинкванте кардинал был принят в частной аудиенции королевой-матерью в ее белой гостиной с громадным портретом, где на фоне дворцового парка Тунда изобразил Ее Величество в черной амазонке, верхом на белом арабском коне. Эффектное сочетание стройной и сильной фигуры царственной амазонки в черном с белым, как снег, розовеющим на солнце арабским скакуном чрезвычайно удалось Тунде.
Кардинал в темной рясе, подпоясанный широким фиолетовым поясом и в красной шапочке, чудесно оттенявшей его седые волосы, знал, что сообразно выработанному для этой аудиенции этикету, сначала он королеве целует руку, а затем тотчас же она коснется губами его руки.
И так и вышло. Он с явным удовольствием мужчины поцеловал маленькую, надушенную, выхоленную руку Ее Величества, а Ее Величество коснулась губами аметистового перстня на пальце кардинала, давая понять, что ее поцелуй – символ.
Черетти делла Toppe, до мозга костей куртизан, с восхищением оценил этот дипломатический жест Маргареты.
Начал он с того, с чего начинают в таких случаях все политики в пурпуровых мантиях.
Он привез Ее Величеству благословение Его Святейшества. Он бесконечно счастлив быть аккредитованным при дворе, где молодой и красивый король стал мудрым вождем и героем своего народа и где королева-мать восхищает всю Европу своим умом, изяществом, своим обаянием королевы, обаянием женщины, тонкого политика и не менее тонкого ценителя искусств и вообще прекрасного.
Не оставшись в долгу, королева ответила той же монетой:
– Монсеньор, я очень рада. Мое искреннее желание осуществилось. Когда я узнала, что кардиналу Звампа предлагают пост в Риме, я написала Его Святейшеству, прося назначить в Бокату вас, монсеньор.
И светлые глаза королевы встретились со жгучими разбойничьими глазами Черетти. Лукавый нунций знал, что королева не писала ничего о нем папе и что вообще, если даже имела о нем, Черетти, какое-нибудь представление, то весьма смутное, однако рассыпался в таких благодарностях, как если б он был скромный, незаметный каноник и от Маргареты зависела вся его карьера в дальнейшем.
Лгал вкрадчивый голос с таким богатством вибрирующих интонаций, лгала выразительная актерская улыбка, но полные дерзкого огня глаза не могли лгать.
Он это чувствовал и был недоволен собой.
Дальше он выразил, опять-таки без участия глаз, свое соболезнование по поводу катастрофы в Чента Чинкванте.
– Это ужасно, ужасно! – повторяла королева, – столько несчастных жертв! Ах, монсеньор!..
– Божья воля, – со вздохом развел он руками. – Весь город только об этом и говорит… Его Величество, рискуя в порыве христанского человеколюбия драгоценной жизнью своей…
– Ах, не вспоминайте, монсеньор… Мне даже сейчас жутко. Не правда ли, странное чувство? Бояться за близкое, дорогое существо по миновании опасности. Так бояться, как если бы опасность все еще грозила. К великому сожалениию, я не могла поехать. Я была не совсем здорова.
«Да и вообще, как я слышал, ты избегаешь показываться при свете дня. Особенно же на солнце», – подумал кардинал, соболезнующе качая головой.
А она, смотря на него сощуренными глазами, думала в этот же самый момент, что ему, с его лицом и глазами, больше был бы к лицу расшитый золотом костюм испанского матадора, чем кардинальская мантия.
Так, мысленно критикуя друг друга, они все же оставались довольны: королева пандуров – монсеньором Черетти, монсеньор Черетти – королевой. А главное, дальнейшая беседа послужила причиной резкой перемены в судьбе главных героев нашего романа.
Путь из Рима в Бокату лежал через Трансмонтанию. В столице Трансмонтании монсеньор был принят и обласкан королевской четой. Хотя королевская чета, подобно всей трансмонтанской династии, отличалась особенной исключительной преданностью Святейшему Престолу, – королеву и короля многие называли вассалами Ватикана, – однако прием, оказанный монсеньору Черетти, таил в себе еще и другое кое-что, кроме верноподданнических чувств к наместнику Христа на земле.
Кардинал покинул страну, пожалованный в счет будущих заслуг своих высшим орденом. Сейчас, в белой гостиной Маргареты, он хотел оправдать доверие. Он дипломатически стал нащупывать, как относится королева-мать к Трансмонтании и к тем, кто ею правит.
Маргарета высказалась:
– Внешние добрососедские отношения не оставляют желать лучшего, и в прошлом году мы обменялись визитами. Королева Элеонора, король Филипп и прелестная Памела гостили у нас три дня. Было сделано все, чтобы они не скучали. Мы большие друзья, а между тем, всегда какие-то пограничные инциденты… Но это пустяки… А вот главное… Трансмонтания в последнее время является базой революционной пропаганды, направляемой в Пандурию.
– О, Ваше Величество! – горячо воскликнул монсеньор. – Я уверен, что об этой базе королевской чете ничего не известно.
– И я уверена. Однако… Однако остается какой-то неприятный привкус…
– Ваше Величество, к сожалению, конституция в Трансмонтании еще либеральнее, чем в Пандурии. Венценосец Филипп, этот прямой потомок Людовика Святого, изволил с горечью обмолвиться мне, как он опутан по рукам и по ногам этой конституцией. Парламентаризм – вот зло.
– Зло, – вдумчиво согласилась Маргарета, – и не как идея, – идея прекрасная, подобно большинству идей, – а как осуществление. Для вершения с парламентской трибуны судьбами государства идут, увы, гораздо чаще глупые, тупые, продажные, с низкой и грязной душой, чем умные, образованные, неподкупные и с чистым сердцем. И уже потому это именно так, что первых неизмеримо больше на свете, чем вторых.
– Золотые слова! – согласился монсеньор, склоняя голову. После некоторой паузы он спросил, с виду меняя тему, а на самом деле логически развивая ее.
– Ваше Величество, вы тонкий знаток женской души. Каково мнение ваше о принцессе Памеле?..
«А, вот где зарыта собака», – подумала королева, ожидавшая этого вопроса.
– Я уже сказала, монсеньор… Она прелестна. Будь жив Веласкес, он написал бы с нее одну из своих инфант. Памела хорошо образована и воспитана, далеко не в пример многим теперешним принцессам, которые убегают с какими-то чуть ли не настройщиками и берейторами из цирка. Когда она выйдет замуж, она будет красива, горда, величественна. Последнее совсем не легко, – носить и свою мантию, и свою корону. Одного боюсь…
– Да? – насторожился своими жгучими глазами кардинал.
– Что при ее слабом здоровье она или совсем не будет иметь детей, или же первые роды явятся для нее, бедняжки, фатальными.
– О, я полагаю, что в данном случае опасения Вашего Величества напрасны, – поспешил возразить папский нунций, и с такой уверенностью, как если бы он всю свою жизнь был лейб-акушером.
– Дай Бог, чтобы вы были правы, монсеньор, и я ошибалась… Дай Бог…
Теперь кардинал ощутил под собой более твердую почву. Он понял, что Маргарета согласна увидеть Памелу супругой своего сына и только одно смущает, – возможная бесплодность Памелы.
– Когда она гостила у нас, – продолжала Маргарета, – от меня не ускользнуло ее увлечение Адрианом, – да и в самом деле, разве он может не понравиться? Он, с его внешностью, с его обаянием?..
– С героической легендой, обвеявшей его славное имя? – подхватил кардинал. – Самый завидный жених в Европе, увы, слишком долго остающийся женихом, – вздохнул Черетти так глубоко, словно женитьба короля Адриана была для него вопросом жизни или смерти.
Поэтому он как бы вскользь упомянул, что Памела далеко не бесприданница. Королевской четой положена крупная сумма на ее имя в один из лондонских банков. Но самое главное не в этом, а в драгоценностях, доставшихся Памеле, когда она была еще ребенком, от ее покойной бабушки, графини Шамбор.
Кардинал видел эти драгоценности. Королева-мать показывала ему. Среди них очаровательная бриллиантовая диадема Марий-Антуанетты. Настоящий шедевр в смысле подбора камней и тончайшей художественной работы.
Отпуская нунция, Маргарета обнадежила его:
– Монсеньор, мною будет сделано все в пределах моих слабых материнских сил… Я приглашу принцессу Памелу на свое пятидесятилетие, чтобы она ближе могла познакомиться с Адрианом. А вас милости прошу пожаловать сегодня к обеду. Вы где остановились?
– В отеле «Мажестик», Ваше Величество.
– В семь вечера адъютант сына заедет за вами…
И опять он поцеловал ее руку, а она коснулась губами аметистового перстня.
15. Неожиданный удар
Маргарета сама ничего не имела против того, чтобы породниться с правящим домом Трансмонтании, почти великодержавной соседки своей. Это давно приходило ей в голову. Больше чем приходило – не давало покоя. Но сейчас, после беседы с папским нунцием, она с какой-то особенной выпуклой ясностью поняла: этот брак необходим, неизбежен. Осуществить его надо возможно скорей и во что бы то ни стало. Гибкий ум королевы подсказывал: идти прямой дорогой, как это было до сих пор, убеждать сына, переходя от угроз почти к мольбам, и наоборот, – никакого успеха не будет…
Она так и сказала секретарю своему, камергеру ди Пинелли.
– Он влюблен в Зиту Рангья. Натура глубоко честная, прямая, чистая, – Адриан не способен делить себя между королевой-супругой и любовницей. Не способен. Бывают такие мужчины, их очень мало, но все же бывают…
– В таком случае создается невозможное положение, Ваше Величество! – озабоченно развел руками жгучий, уже седеющий красавец.
– Невозможных положений нет, – улыбнулась Маргарета, – есть трудные, очень трудные. Мы имеем дело с очень трудным положением, но это еще не значит – невозможным. Выход есть. Победа возможна. Но там, где победители, там и жертвы. В данном случае придется пожертвовать маленькой Зитой, которую я очень люблю, как за нее самое, – ведь она же прелестна, – так и за то, что она искренно любит моего сына. Да, да, не делайте таких глаз и не возражайте! У меня сердце чуткое, – сердце жещины, и я вам скажу: ее не привлекает в нем блеск обстановки, высокое положение. Если б мановением волшебной палочки он из короля пандуров превратился вдруг в скромного офицера или чиновника, Зита… Вы понимаете, вот за что я ее ценю и люблю, и вот почему мне так тяжело сознавать ее роль жертвы, жертвы, увы, неизбежной! Позвоните и от моего имени пригласите ее к пяти часам.
В пять часов Зита Рангья удостоилась особенной чести.
Вдвоем с королевой она пила чай в том самом голубом будуаре, порог которого еще не переступила еще ни одна из самых знатных и заслуженных дам Двора.
Обласканная, Зита сияла. Королева похвалила ее светлый весенний туалет, цвет лица и, указывая на картину Ватто, где на лужайке резвились напудренные маркизы, молвила:
– Дитя мое, вы точно сошли ко мне прямо оттуда. Вам даже не надо мушек. Сама природа позаботилась. Эти два родимых пятнышка… До чего они в стиле вашей капризной и хрупкой красоты…
– О, Ваше Величество, вы так незаслуженно милостивы и добры ко мне, – отвечала маленькая Зита с кроткой улыбкой, с дивным сиянием глаз и чуточку искривленной линией маленьких, едва подкрашенных губ.
– Дитя мое, не знаю, добра ли я, но вы сейчас увидите, что я умею быть жестокой. У нас с вами будет сейчас очень серьезный и для нас обеих очень тяжелый разговор.
И это предисловие, и тон, каким оно было сказано, и лицо Маргареты, хотя по-прежнему обаятельно-ласковой, но уже какой-то другой, – все это вместе омрачило Зиту, застало врасплох, и не только ее, но и ее улыбку. Линии губ, выражение черт еще не успели встретить готовящийся неведомый зловещий удар, но глаза уже потемнели тревогой, как подернутые тучами небеса.
Не давая опомниться, выскользнуть из-под уже создавшегося настроения, королева продолжала быстро, убедительно и едва ли не впервые в жизни своей – горячо:
– Дитя мое, я знаю все! Сначала, помните, я относилась к вам с недоверием, я изучала вас, ревниво изучала, как изучает мать избранницу своего сына. Потом, когда я убедилась в глубине вашего чувства, я полюбила вас! Настолько полюбила, что если бы Адриан не был королем, а его младшим братом, моим вторым сыном, я первая, слышите, первая благословила бы ваш морганатический брак. Но, к сожалению, у меня один сын-король, король, до сих пор еще холостой. Это невозможно. Династия не может пресечься из-за того, что монарх влюблен в свою подданную, к тому же еще супругу своего министра. И вот, дитя мое, если вы действительно любите настоящим чувством, готовым на самопожертвование, – в чем я ни на один миг не сомневаюсь, – вы принесете свое личное счастье… – королева не договорила, увидев крупные, заблестевшие на ресницах молодой женщины слезы. Углы губ Зиты подергивались. Подергивалось личико. Гордость и сильная воля, сильная в этой миниатюрной женщине, удерживали ее от рыданий.
С сочувствием и затаенной тревогой наблюдала королева происходившую в Зите борьбу. Сейчас, в маленьких ручках своих, баронесса держала участь династии Ираклидов. Победит в ней эгоизм женщины, не выпускающей своего, – рухнет план королевы Маргареты и нунция Черетти.
И пятидесятилетняя волшебница, привлекши Зиту к себе, обняв, покрыла поцелуями ее щеки, большой выпуклый лоб, сияющий золотом, яркие, густые волосы.
– Дитя мое, дитя мое… Мне так же больно, как и вам.
Зита, на ласку отвечая лаской, прижала к губам сначала одну руку матери Адриана, потом другую, потом, решительным движением отстранив их, отстранилась сама, как стальная пружина, одним движением выпрямившись. Это уже не была готовая разрыдаться маленькая женщина, линия губ уже не была детски-капризной, а выражение сухих, еще более потемневших глаз было почти вызывающим. Какие-то снопы огненно-синих искр метали эти глаза.
– Ваше Величество, я бросила жребий. Я взяла в руки себя, свое сердце и готова поступиться своим личным счастьем, моим чувством, которое до сих пор было всего дороже на свете. Приказывайте…
– Какие слова… Зита, я могу только просить, и я прошу вас… – королева запнулась. – Боже, как это мучительно… Зита, я не скажу ничего больше… Вы умная, чуткая, и эти ваши чуткость и ум подскажут вам…
– Они уже мне подсказали, – твердо подхватила Зита. – С этого момента мое поведение будет по внешности таковым, чтобы Его Величество имел полное основание считать меня дрянной, гадкой, недостойной. Отвернувшись от меня с презрением, вылечившись от своей любви, он бросится туда, куда уже давно зовут его долг монарха и долг последнего из династии Ираклидов… Клянусь, я сделаю так. Клянусь! Довольны ли вы мною, Ваше Величество?..
Королева молча смотрела на нее. Смотрела, как до сих пор еще никогда ни на кого не смотрела. До сих пор это был взгляд сверху вниз. А сейчас перед ней было существо, не только равное ей, но и высшее, высшее через принесенную жертву, через свой подвиг, такой благородный, прекрасный, такой величественный. Маленькая баронесса, изящная фея из балета кукол, выросла вдруг до таких исполинских размеров, что королева сама себе показалась рядом с ней такой маленькой-маленькой.
И, отпуская Зиту, она уже не утешала ее. Теперь ее высокая, больная душа не нуждается ни в чьем утешении. Да и всякое утешение будет лишним, ничтожным. И королева ограничилась безмолвным поцелуем в лоб, а баронесса Рангья – таким же безмолвным реверансом.
16. Условия Зиты
Таких, как Зита Рангья, называют «дитя любви». Она была незаконной дочерью герцога Тосканского и Паулины Гварди, танцовщицы. Мать дала своей дочери отличное воспитание, образование и, покончив с артистической карьерой своей уже чуть ли не на пятом десятке, отяжелев, потеряв гибкость движений и пластику, переехала из Италии в Бокату, предполагая открыть здесь балетную школу.
Балетная школа Паулины Гварди наполнилась учениками и ученицами. Преподавались не только характерные и классические танцы, но и салонные. Тайком, под секретом, постигал премудрость всех этих модных фокстротов и шимми не кто иной, как сам Рангья, министр путей сообщения, желавший превратить себя из неуклюжего леватинского увальня в светского человека. Тяжелый, неповоротливый министр потел, заплетаясь ногами. Потел над ним балетмейстер, говоривший потом директрисе, что охотнее предпочел бы иметь учеником своим лесного медведя, чем министра путей сообщения.
Паулина Гварди сумела хорошо поставить себя в столице Пандурии. Ее частые, в уютном особняке, вечера посещались и артистами, и гвардейской молодежью, и финансовой знатью, и людьми общества. Миниатюрную Зиту окружали блестящие поклонники. Некоторые ухаживали за ней из снобизма как за дочерью герцога из владетельного дома, и незаконной хоть, но все же дочерью.
Увлекся ею по-своему, как мог и как умел, и господин Рангья. Восточные маслянистые глаза его, плотоядно блестевшие в мякоти набухших, тяжелых век мысленно раздевали Зиту, как раздевали по-настоящему предки господина министра, левантийские пираты, своих рабынь, захваченных где-нибудь на дальнем чужом берегу.
Для ценителя, подобного министру путей сообщения, Зита была слишком хрупка и тонка. Ее узкие, покатые, девичьи, как бы еще недоразвившиеся, плечи были в его глазах скорее, пожалуй, минусом, чем плюсом.
Ее небольшая грудь – то же самое. Но линии бедер и ног, в особенности бедер, упругие, чистые, законченные линии, говорящие, что девушка эта может распуститься в великолепную женщину, в любовницу, волновали его.
И когда он проверял железнодорожные сметы, вместо прозаических скучных цифр видел красивые бедра Зиты!..
Рангья был не из тех мужчин, которые вздыхают, объясняются в любви, ищут взаимности… Человек практический, деловой, он решил побеседовать прежде всего с мамашей. Он сказал ей:
– Вот что, почтеннейшая и уважаемая синьора Гварди, мне нравится ваша дочь, и я буду очень рад, если вы благословите наш брак. Я еще далеко не стар, мне всего сорок четыре года. Из всех министров Его Величества – я самый молодой. Ваша дочь образованная, изящная и умная особа, со вкусом одевается, умеет держать себя в свете. Я не обещаю ей какой-нибудь сказочной роскоши, но у нее будут бриллианты, парижские туалеты и как супруга министра она попадет ко Двору. Понимаете, ко Двору, уважаемая синьора Гварди! Это должно щекотать ваше материнское самолюбие. Многие дамы всю жизнь тщетно добиваются высокой чести быть принятыми у Их Величеств. Что же вы скажете на все это?
– Что я скажу?.. – развела руками директриса балетной школы. – Я ничего не могу обещать, не переговорив с Зитой. Пока ее сердце свободно вполне, но я не знаю, бьется ли оно учащеннее по отношению к вам, господин министр.









