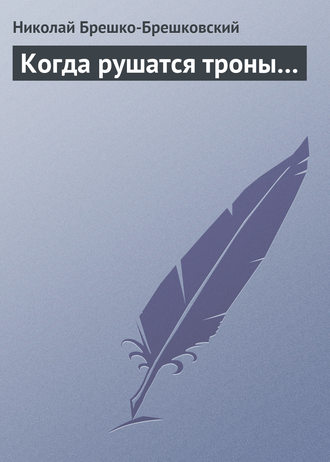 полная версия
полная версияКогда рушатся троны…
Новые пытки. Новая боль от мощной струи: то горячей, то ледяной. Захватывает дух. Взвизгивает Поломба. Кончив одно дело, шведка приступает к другому. Тут же, на узкой, покрытой белой мохнатой простыней кушетке, стальными пальцами своими массирует она королеву, после чего растирает ее всю докрасна жесткой волосяной перчаткой, смачивая в тарелке, наполненной душистой эссенцией.
А дальше – безмолвно исчезает шведка. Королева, чувствующая себя восемнадцатилетней девушкой, переходит в малую уборную. Здесь она пудрит лицо фиолетовой пудрой, кладущей нежный, почти естественный румянец, слегка, чуть-чуть, подкрашивает губы, подводит брови и, едва тронув чем-то розоватым тонкие ноздри, отдает свои ноги и свои волосы в распоряжение Поломбы.
У Поломбы, открытой, наивной, не было и тени подхалимства. Она искренно любила свою королеву и столь же искренно фамильярничала с ней… Это выходило иногда грубовато, но никогда не было ни нахальным, ни навязчивым, ни противным.
В течение восьми лет Поломба не переставала восхищаться:
– Ах, Ваше Величество, какое у вас тело! Какое тело! Смотришь – не налюбуешься! Какая грудь! Ноги! А спина, – и весело-весело поблескивали живые, шельмовские глаза, и румяное лицо расплывалось в улыбке.
– Ты находишь? – снисходительно улыбалась в ответ, королева. – А по-моему, эта белая негритянка Мариула гораздо лучше сложена. Моя фигура тяжелей. У Мариулы больше гибкости, я хотела бы иметь ее длинные ноги, ее небольшую грудь. Такие женщины – стильные!..
– Тоже сравнение! – фыркала Поломба. – А что длинные ноги у этой Панджили, – у цапли еще длиннее.
– Ты ничего не понимаешь. У тебя дурной вкус. У нее ноги Дианы. Эти ноги сводят с ума мужчин, хотя она некрасива со своим вздернутым носом и вывороченными губами. Ты знаешь, кто была Диана?
– Знаю. Богиня, которая охотилась на оленей с борзыми собаками. Я на картинке видела…
– Вот как! Моя Поломба смыслит кое-что в мифологии…
Иногда королева противопоставляла себе вместо Мариулы Панджили – Зиту Рангья.
– Вот у кого точеная фигура. Живая статуэтка. А такой нежной, молочно-розоватой кожи я не встречала ни у одной женщины. Она вся изящна, вся!.. Я понимаю увлечение сына. И ко всему – аромат и какая-то звенящая упругость молодости… Зите всего двадцать четыре года… двадцать четыре года, – мечтательно, с легким вздохом повторяла королева.
А Поломба упрямо твердила:
– Им, Ваше Величество, далеко до вас! Переберите всех придворных дам, ни одна не может соперничать с вами.
– Я предпочла бы, моя Поломба, чтобы вместо тебя так говорили мужчины.
– И говорят! Говорят! Что вы думаете! – с жаром подхватила Поломба.
– Кто ж говорит?
– Все! Ну решительно все! Даже Тунда!
– Тунда?.. Тунда – большой художник. Его мнением нельзя не дорожить. Так что ж он говорит?
– Он говорит… Знаете, Ваше Величество, раз он писал в белом зале портрет короля Адриана. Король куда-то ушел после этого… ну… сеанса, а Тунда еще вырисовывал что-то, кажется, мундир… Ну и, как всегда, перед ним был коньяк.
– Милый Тунда, он «черпал вдохновение»… Дальше…
– Дальше, – я проходила мимо… Никого не было больше… Тунда, с сигарой в зубах, перехватил меня… «Куда спешишь, плутовка, не пущу тебя»… Потрепал меня по щеке и сунул за корсаж золотую монету. «Откуда, плутовка»? – «От Ее Величества». – «А как поживает Ее Величество?» – Великолепно, говорю, поживает… А он смотрит на меня… уже немного навеселе, и говорит: «Если бы она не была королевой, я написал бы с нее Венеру, выходящую из пены морской… Какая это была бы Венера!» И, знаете, Ваше Величество, даже глаза под лоб закатил…
– Что ж, не будь я королевой, с удовольствием позировала бы Тунде для его Венеры, – молвила Маргарета, – и все на выставке любовались бы. Но я королева, и мною любуется только одна Поломба…
– А ди Пинелли? – чуть было не сорвалось у камеристки, но она вовремя прикусила язык, зная, что и для нее существуют границы, переступать каковые не рекомендуется…
8. Секретарь ее величества
Грехом было бы сказать, что королева Маргарета вся отдалась целиком поддержанию своей неблекнущей красоты и неувядаемой молодости. На это уходило вечером около часу, утром приблизительно столько же, – в общем приблизительно два часа. Все же остальное время она читала, принимала живейшее участие в государственных делах, а ее дипломатический ум и такт ценился далеко за пределами Пандурии.
Корреспонденты французских, английских, американских газет, избравшие себе специальностью интервьюирование высочайших и коронованных особ, разносили по всему свету про удивительную начитанность королевы пандуров, про ее тонкое знание литературы, про ее любовь к живописи, про изящную скромность ее туалетов. Действительно, трудно было представить что-нибудь более скромное. Почти всегда темное, гладкое, без всяких украшений платье, великолепно охватывающее дивную фигуру. Никаких драгоценностей, ничего, за исключением жемчужной нитки на шее.
Это – в обычной, повседневной жизни. Но в моменты парадных, торжественных выходов в тронном зале, в горностаях и в короне, с голубой лентой и звездой на груди, королева поражала царственным величием, великолепием своим, поражала и тех даже, для кого зрелище это далеко не было новым. Совсем другой, но одинаково чарующей волшебницей была она верхом на коне, одетая в белый уланский мундир, и в кивере с белым султаном, когда производила смотр шефским гвардейским уланам своего имени. Старые, много видавшие на своем веку царедворцы сравнивали Маргарету в смысле чудесной посадки и особенного умения носить амазонку с единственной женщиной в Европе, да и то давным-давно угасшей, – Елизаветой Австрийской.
При жизни короля Бальтазара у Маргареты не было ни одного романа. Самая злая сплетня, даже и та не могла указать любовника, молодой красавицы-королевы. Не изменяла мужу Маргарета не из любви к нему, – нет, брак этот был не по чувству, скорее политический брак, – а из гордости. И хотя муж – суровый солдат, солдат с головы до ног, не внушал ей ничего, кроме холодного уважения, именно, быть может, в силу этого самого уважения, не допускала она и мысли, чтобы дерзнул кто-нибудь назвать короля «Его Величеством-рогоносцем».
А велик был соблазн. Каждый гвардейский офицер, каждый молодой человек из общества, принятый при Дворе, был влюблен в свою королеву. У многих влюбленность эта переходила в обожание. И были среди этих обожателей писаные красавцы. Подданными королевства, кроме господствующих пандуров, высоких, мужественных, были еще сухощавые, пергаментные мусульмане, изящные итальянцы и белокурые, богатырского сложения славяне. Цвет молодежи всех этих четырех племен служил в гвардии, занимал гражданские места в привилегированных канцеляриях, и, пожелай Маргарета изменить своему вечно занятому реорганизацией армии супругу, было бы на ком остановить свой выбор.
Но жена цезаря должна быть выше всяких подозрений, и на всех своих явных и тайных воздыхателей она производила впечатление мраморной красавицы, не знающей, что такое страсть, что такое темперамент.
А между тем и страсти, и темперамента, и даже просто здоровой чувственности, – всего этого много было у королевы. Но было у нее еще более умения владеть собой, дисциплинировать и призывать к порядку голос бунтующей молодой крови.
Когда же Бальтазар, простудившись и схватив воспаление легких на горных зимних маневрах, скончался и был погребен с пышными, подобающими почестями, под девяносто девять выстрелов береговых батарей, королева Маргарета почувствовала себя раскрепощенной. Жены цезаря нет больше, – есть вдова цезаря. Она может позволить себе то, чего не могла позволить раньше, конечно, в железных рамках самой строгой тайны. Жажда любви, знойных, сжигающих тело и душу наслаждений охватила тридцатисемилетнюю красавицу. Выбор пал на чиновника министерства Двора, итальянца ди Пинелли. Он был моложе королевы на четырнадцать лет. В его южной красоте было много хищного, чувственного, сводящего с ума самых добродетельных женщин. И ко всему этому он обожал королеву, обожал еще юным студентом, имея богатейшую коллекцию ее фотографий: и в горностаевой мантии, и в уланском мундире, и в темном гладком платье, и в бальном туалете с обнаженными плечами и с пышным длинным треном, что, как живой, повиновался легкому движению ног.
Королева родилась политиком. Далеко неспроста приблизила она к себе ди Пинелли. Сперва узнала о нем всю подноготную. Узнала, что он не болтун и хорошо воспитан не только в смысле внешнего лоска, но и житейских принципов. В духовном и моральном отношении – джентльмен. Узнала, что он никогда не болел тем, чем болеет девяносто процентов молодежи. А о том, что ди Пинелли боготворит ее, об этом и узнавать не было никакой нужды, – это она отлично сама знала. Оставалось одно – приблизить его к себе, так приблизить, чтобы их ежедневные официальные встречи были неизбежными…
Личный секретарь королевы, почтенный пожилой кавалер Кнор, сам попросился на покой и вышел в отставку с полной пенсией и орденом Ираклия первой степени. Министр Двора настойчиво рекомендовал Маргарете в личные секретари своего чиновника ди Пинелли. И вышло вполне естественно, как будто иначе и не могло быть, что в небольшом кабинете, рядом с приемным залом королевы, в этом самом кабинете, где в течение шестнадцати лет ежедневно просиживал от десяти до трех кавалер Кнор, спустя год после кончины короля Бальтазара водворился кавалер ди Пинелли.
Однажды королева пригласила его пить кофе в свой интимный маленький голубой будуар, где не бывал никогда никто из посторонних и где висели две небольшие картины Ватто. Кофе подан был опустившей свои плутовские глаза Поломбой, тотчас же исчезнувшей.
Говорили об искусстве, вернее, говорила одна королева. Секретарь молчал, ни жив, ни мертв, поднося дрожащими пальцами к ярко-чувственным губам своим крохотную чашечку с густым, горячим, ароматным кофе.
– Вы любите Ватто? – спросила Маргарета. – Я почти не знаю художника с такой чарующей нежной блеклостью, именно блеклостью красок…
Ди Пинелли поспешил согласиться. Он готов был согласиться на смертный приговор себе, произнесенный устами своего божества.
Королева от живописи перешла к скульптуре.
– Я не люблю драпировок и одежд в скульптуре. Я люблю за то греческих ваятелей, что они богов и богинь своих изображают нагими. Красивая нагота уже сама по себе нечто божественное. И если смертные хотят приблизиться к богам в своих любовных успехах, – никаких прикрытий, никаких одежд, отзывающих отдельным кабинетом и мещанством. Но я не выношу босых ног. Не выношу! Музейных Аполлонов, Диан и Венер мне всегда непременно хотелось обуть в сандалии или в котурны. Хотя… В мраморе и в бронзе еще можно кое-как примириться, но у живых людей – это совсем отвратительно, – и по тонким чертам Маргареты скользнула легкая брезгливая гримаса.
9. Тайна комнаты без окон
Казалось, королева совсем забыла об эстетической беседе в голубом будуаре. Относилась к ди Пинелли как к своему секретарю, не более. Каждое утро он получал обширную корреспонденцию, кипу иностранных газет, и, бегло ознакомившись и с тем, и с другим, докладывал Маргарете о самом важном, существенном, достойном внимания.
Королева диктовала ему ответные письма и на пандурском языке, и на нескольких иностранных. Да и не только письма. Диктовала заметки, целые статьи для напечатания в заграничной прессе.
Ди Пинелли оказался редким – нахвалиться нельзя было – секретарем, но душа его полна была вся отчаянием. Он терзался. Теперь, когда он так близок к своему божеству, он в то же время так бесконечно далек от него, как если бы они находились на разных планетах. Голубой будуар чудился ему волшебным сном, который никогда, никогда не повторится больше…
Он был близок уже к самому безысходному горю, и вдруг – опять голубой будуар, опять кофе, на этот раз с ликерами и с другой темой, нежели искусство. Королева интересовалась его семьей, интересовалась тепло, задушевно, насколько вообще могла быть задушевной и теплой. Фамилия секретаря ей далеко не чужда. Ди Пинелли известны в королевстве, но кто была его мать, была, потому что, по его же словам, ее нет в живых?
– Моя покойная матушка – славянка из рода Матачич.
– А, славянка! Этим объясняется ваша способность глубоко переживать, чувствовать. Итальянский темперамент отца и славянская душа матери – это… это очень интересно и… красиво, – добавила как бы про себя Маргарета.
Потом она спросила его, щуря свои светлые, молодые, блестящие после паровой ванны глаза:
– А скажите, вы любили уже?.. Захватывающе, сильно, отдавая целиком всего себя?
– Любил и люблю… – не сразу ответил он, ответил чуть слышно, не смея поднять глаз.
На лице ее дрогнула тень, дрогнула, мгновенно исчезнув.
– Что же, она была достойная вас… особа? Вы были счастливы? – продолжала она с внешним безразличием.
– Достойна ли меня? О, Ваше Величество, я прах и человеческая пыль в сравнении не только с ней, а с ее мизинцем. Что же до счастья – одна лишь смутная надежда на взаимность свела бы меня с ума от блаженства.
– Вот как!.. Право, такой очаровательнице можно позавидовать, – молвила каким-то странным голосом королева, и сухая, надменная линия габсбургских губ ее стала еще надменнее. – Кто же она, эта волшебница? Имени я не спрашиваю, конечно… Опишите ее.
– Описать? Не знаю, хватит ли красок. У нее дивные пепельные волосы, она сложена, как богиня… она… – Тут нервы молодого секретаря не выдержали, и он осекся, вот-вот готовый разрыдаться.
Награда ему – нежный, томный взгляд. Королева Маргарета никогда еще ни на кого не глядела так томно за все тридцать восемь лет своей жизни. Миг – и это мягкое, нежное, исходящее из собственной души и проникающее в чужую душу, сменилось обычным твердым, холодным блеском.
– Кавалер ди Пинелли, пейте ваш ликер. Он густ, маслянист, переливается, как жидкий рубин, и, право же, стоит попробовать.
Ликер, действительно превосходный, показался ему расплавленным свинцом, который лили в горло еретикам отцы святой инквизиции. Да и в самом деле, разве не был он сейчас жертвой терзающих если не тело, то душу инквизиционных пыток? За что, за что эти нестерпимые муки? Переходы эти от надежды к отчаянию и, наоборот, от отчаяния к надежде? Эта жестокая игра женщины, знающей силу и своих чар, и своей безграничной власти над ним?
Прошло еще несколько дней, таких будничных, деловых. Просмотр иностранных газет, писем, диктуемые ответы, – все в строго официальных рамках. Он похудел, он клялся, что идет во дворец в последний раз и, бессильный бороться со своей неразделенной страстью, размозжит себе череп…
И вновь нежданно-негаданно, уже в третий раз – голубой будуар… Был гаснущий осенний вечер, и хотя осень в этом краю благодатная, теплая, но горел камин, и было тепло, как в оранжерее. Не успел он войти, чьи-то руки, охватив его шею, привлекли к себе и, опьяненный этим прикосновением, знакомым ароматом духов и близостью упругой и теплой груди под гладким простым темным платьем, груди, касавшейся его груди, он с мучительным блаженством ощутил на губах поцелуй… Поцелуй королевы… И хотя этот поцелуй дал ему такое острое, нечеловеческое напряжение, за которое он готов был заплатить жизнью, чувственность, пылкая чувственность итальянца, до этой вожделенной минуты загнанная в клетку, как дикий зверь, уступила свое место, – славянская кровь матери, – молитвенному благоговению. Он как-то соскользнул весь вниз, вдоль прекрасного, трепещущего желанием тела Маргареты и, упав на колени, в священном экстазе коснулся губами подола ее платья, пахнувшего теми же самыми духами, и ее телом, и еще каким-то неуловимо дорогим, уютным запахом любимой женщины.
А дальше, дальше совсем не помнил, как она его подняла с колен, смутно помнил, как они сидели вдвоем на узеньком диване, прижавшись друг к другу. В мягких сумерках пылающий камин дышал им в лицо сухим жаром. Смутно помнил что-то похожее у себя на легкий нервный припадок, окончившийся какой-то детской, покорной истомой и, если и не детскими, то, во всяком случае, обильными слезами… И, как сквозь сон, ощущал прикосновение холеных, мягких пальцев. Они нежно успокаивали и вместе с тем обещали. Гладили его лоб, лицо, волосы. И это все тихо, тихо, – без слов. Они сейчас не нужны были, такие бледные, слабые в сравнении с тем, что безмолвно говорила и пела душа…
А когда он выплакался и, не вздрагивая больше, затих, эта же самая рука с мягкой властностью потянула его за собой. Он шел, пьяный нечеловеческим счастьем своим, шел, не замечая на пути мебели, наталкиваясь на нее. И когда ему казалось, что перед ним сплошная стена, а он на нее наткнется, вдруг в этой самой стене, точно в сказке, открылась маленькая незаметная дверь.
Принимать любовника в спальне королева считала вульгарным и не снизошла бы до этого никогда. Вот почему перед секретарем Ее Величества открылась маленькая потайная дверь. Она ввела его в квадратную небольшую комнату, сплошь в драпировках и без окон, освещаемую электричеством, в мягких, цветных полутонах и с широким низким восточным диваном посредине. К этой комнате примыкала крохотная уборная. Комната, где раньше складывались чемоданы и дорожные сундуки, превращена была в уютное затерянное гнездышко. Только одна Поломба посвящена была в новое назначена комнаты без окон и с широкой оттоманкой. Но Поломба умела молчать. Заботливой рукой сервирован был столик с шампанским, конфетами, вазой фруктов. Но еще большая была проявлена заботливость в широком, очень широком халате, шелковом на черной подкладке, брошенном на диван, и в бело-розоватых, как человеческая кожа, мягких котурнах, стоявших на ковре.
Смягченная голубоватым матерчатым абажуром лампочка создавала призрачный свет, какое-то призрачное настроение. Лица королевы и ее секретаря чудились голубоватыми.
И когда начали пить шампанское, холодное, бодрящее, так легко и ярко возбуждающее, и начали есть шоколадные конфеты и груши, как ни был захвачен счастьем своим темпераментный итальянец со славянской душой, от него все же не ускользнуло, что гордая, неприступная Маргарета, под впечатлением новых поцелуев и вина, превращается в вакханку.
Да и раньше в ней под этим холодным великолепием жила вакханка, жила вместе с королевой, но королева подавляла вакханку, подчиняла ее сильной воле своей до тех пор, пока считала это необходимым. И вот в тридцать семь лет, когда минула вторая, вернее, третья молодость, она с ужасом спохватилась: еще каких-нибудь десять лет, и все будет кончено. Увянет сначала лицо, увянет вслед за ним и тело, могущее более сопротивляться времени, и конец – осень, безотрадная осень с завыванием холодного ветра, гонящего скрюченные, пожелтевшие листья…
Так для чего ж, так зачем берегла и тщательно холила и сохраняла она себя, обжигая лицо паровыми ваннами и перенося ежедневные пытки водой? И тем ужасней, тем трагичней это все, что множество самых красивых, самых видных, самых элегантных мужчин всегда и неустанно желали ее и желали мучительно… Желали, не подозревая, что под этим гладким, темным, почти монашеским платьем ответным желанием трепещет прекрасное тело вакханки…
Судьбе угодно было, в конце концов, чтобы пал ее выбор на самого пламенного, самого романтического поклонника. И вот они вдвоем пьют искрящееся вино, пьют из узких длинных бокалов, пьют из уст друг друга, и замороженное шампанское кажется им раскаленной лавой, огнем, зажигающим кровь, зажигающим все тело, все существо… И вдруг резким движением она поднялась. Его сердце перестало биться. Он подумал, что она уходит, уходит, совсем, отравив его смертельным ядом и обрекая его на новые страдания, еще более мучительные, чем предыдущие.
Тихое, как шелест:
– Тебе жарко в этом… Жди меня, я приду… жди… – и, легонько тронув его за борт черной визитки и бросив скользящий взгляд на широкий японский халат и на котурны телесного цвета, Маргарета исчезла.
Он понял все, понял ее «ты». Понял, что ей таким же самым «ты» он никогда не ответит. Никогда. Ее же «ты» особенное, деспотическое, – «ты» какой-нибудь древнеегипетской или вавилонской царицы, приблизившей к себе молодого всадника из фаланги дворцового конвоя. И понял он, что ему надо раздеться донага и облечь свое молодое тело в этот освежающий прикосновением холодного шелка халат…
Он вспомнил их первую беседу об искусстве в голубом будуаре, вспомнил, что любовный пир богов – это пир наготы, но и вспомнил также, что и боги должны быть обуты в сандалии или котурны. И когда, запахнувшись в халат, в который можно было бы запахнуться втроем, он ждал изнемогающий, неутоленный, бесшумно открылась и закрылась маленькая дверца. Он увидел свою королеву в таком же, как и он, халате. Увидел сверкнувшую руку из откидного широкого рукава. Пальцы тронули выключатель, и мягкий голубоватый свет мгновенно сменился густыми потемками.
Она подошла к нему. Еще не было прикосновения, и он уже чувствовал ее, чувствовал какое-то неотразимое, влекущее, притягивающее тело… У него подгибались колени. Она толкнула его; еще толчок и еще, заставивший подойти вплотную к дивану и опуститься на него правым плечом. Он ничего не видел, но услышал едва уловимое шуршание медленно спадающего на ковер шелка. И вслед за этим почувствовал рядом с собой тело своей богини. Она прижалась к нему, ласкающая и требующая ласк, упругая и нежная, сводящая с ума. Он запахнул ее в свой халат, и они стали еще ближе, теснее, а две руки двумя гибкими лианами крепко и судорожно обвились вокруг него. И вспыхнули какие-то горячие молнии, подхватили их, закружили в своем огненном вихре, и трудно сказать, где начиналось неизъяснимое, острое наслаждение и кончалось такое же острое, неизъяснимое страдание…
10. В мастерской знаменитого художника
Профессор Тунда был крупным талантом, весьма и весьма многогранным. С одинаковой легкостью, с одинаковым блеском, с одинаковой изумительной яркостью волшебных красок своих писал он и эффектные великосветские портреты, и пейзажи, и картины – батальные, исторические, жанровые, и в то же время почти не знал себе соперников в области декоративной живописи.
Если бы он не так любил женщин, вино, игру и вообще веселую кипучую жизнь, он творил бы гораздо больше и, пожалуй, творчество его было бы серьезнее и глубже. Но этого маленького подвижного человека с густой шапкой вьющихся пепельно-седых волос надо брать таким, каким он был. И, кто знает, если б от профессора Тунды отнять его увлечение прекрасным полом, у которого он имел успех, несмотря на свой более чем почтенный возраст, если б отнять у него дорогие сигары, коньяк, азартные игры, – почем знать, может быть, лишившись всех этих возбуждающих удовольствий, он утратил бы и свою богатую, неистощимую фантазию, а его яркие краски побледнели бы…
Ранним утром в своей студии, такой же, как он, хаотической, где музейные драпировки и дворцовые гобелены покрывались пылью, не обмахиваемые ничьей заботливой рукой, Тунда, с неизменной сигарой в зубах, в бархатной куртке и в бархатном берете, напевая мотив из «Сильвы», рылся в углу среди потускневших золоченых рам, подыскивая резную овальную старинную рамочку для небольшого, почти миниатюрного, овального портрета баронессы Зиты Рангья, заказанного ему королем.
Звонок. Ленивый, распущенный своим добрым и мягким господином, лакей, не спеша, с независимым видом, пошел отпирать.
Однако вернулся уже более подтянутый.
– Камергер ди Пинелли, секретарь Ее Величества!
– А, милый мой ди Пинелли, – радушно двинулся навстречу профессор, – очень, очень рад вас видеть… Вот вам сигары, пожалуйста, курите… вот коньяк!
– Сигару с удовольствием, но коньяк в девять утра?.. Я думаю, это немного рано, господин министр, – с улыбкой ответил выдержанный, корректный и, как всегда, изящный ди Пинелли.
– Эх, вы, молодежь! Тренируетесь, бережете себя, соблюдаете какой-то режим… Старое поколение, – мы не разграфливаем своей жизни по клеточкам, а зажигаем ее со всех четырех концов. Что лучше, ваша ли воздержанность, наша ли цыганская удаль, – судить не берусь… Я вообще не охотник философствовать… И картины свои пишу, как поет птица на ветке. Поет, потому что не может не петь… Итак, закуривайте… Вот огонь, вот гильотинка, а я… – и с этими словами профессор налил себе коньяку, выпил залпом и, смакуя, облизал красные, не по возрасту красные губы.
Выпустив из-под холеных маленьких черных усиков голубоватое облачко дыма, да Пинелли начал:
– Господин министр, я обеспокоил вас вот по какому поводу… Вы, вероятно, еще не изволите знать, что ровно через месяц исполняется пятидесятилетие Ее Величества королевы Маргареты.
– Что такое? – привскочил Тунда. – Что такое? Одно из двух: или я ослышался, или это мистификация…
– Господин министр, это была бы неуместная, совсем неуместная мистификация…









