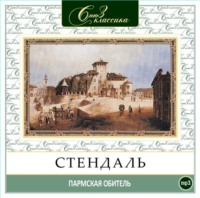Полная версия
Красное и черное
– Я подумал, сударь, – сказал Жульен мэру однажды, – что было бы весьма неприлично, если бы славное дворянское имя Реналей появилось в грязной бухгалтерии книгопродавца. – Чело господина де Реналя прояснилось. – Было бы также предосудительно, – продолжал он более смиренным тоном, – для бедного студента богословия, если бы когда-нибудь узнали, что мое имя находится в списке книгопродавца-библиотекаря. Либералы могут обвинить меня в том, что я брал самые позорные книги; кто знает, они, может быть, не остановятся перед тем, чтобы выписать названия самых гнусных книг под моим именем. – Но Жюльен зашел слишком далеко. Он увидал, что физиономия мэра снова выражала досаду и замешательство. Он умолк. «Теперь я его понимаю», – сказал он себе.
Несколько дней спустя старший из мальчиков спросил у Жюльена в присутствии господина де Реналя об одной из книг, объявленной в «Ежедневнике»:
– Чтобы избегнуть всякого повода к торжеству якобинцев, – сказал молодой наставник, – и в то же время дать мне возможность отвечать на вопросы господина Адольфа, можно было бы взять абонемент на имя одного из ваших лакеев.
– Это недурно придумано, – сказал господин де Реналь, по-видимому очень обрадованный.
– Во всяком случае, следует приказать, – сказал Жюльен с серьезным и почти жалким видом, появляющимся у некоторых людей, когда они видят успех своих долго лелеемых намерений, – следует приказать, чтобы лакей не смел брать никаких романов. Раз попав в дом, эти вредные книги могут развратить горничных госпожи де Реналь и самого лакея.
– Вы забываете еще политические памфлеты, – добавил господин де Реналь высокомерно. Он хотел скрыть восхищение, в которое он пришел от хитроумной полумеры, придуманной наставником его детей.
Жизнь Жюльена складывалась, таким образом, из целого ряда маленьких сделок; их успех занимал его гораздо больше, чем заметное предпочтение, которое ему было легко подметить в душе госпожи де Реналь.
Морально он чувствовал себя у верьерского мэра как и дома. Здесь так же, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, с которыми жил, и чувствовал, что и они его ненавидят. Каждый день он убеждался по рассказам супрефекта, господина Вально и других друзей дома относительно вещей, происходивших у них на глазах, как мало их идеи согласовались с действительностью. Если какой-нибудь поступок возбуждал его восхищение, то непременно он вызывал порицание окружающих. Он постоянно повторял про себя: «Что за чудовища!» или «Что за болваны!» Самое забавное было то, что при его гордости он часто ничего решительно не понимал в разговоре.
В жизни он говорил искренно только с одним старым хирургом; все его сведения исчерпывались походами Бонапарта в Италию или хирургией. Его юношеской отваге нравились подробные рассказы о самых мучительных операциях; он говорил себе:
– Я бы и глазом не моргнул.
В первый же раз, когда госпожа де Реналь завела с ним разговор, не касавшийся воспитания детей, он стал говорить о хирургических операциях; она побледнела и попросила его перестать.
Кроме этого, Жюльен ничего не знал. Вследствие чего, когда ему приходилось оставаться вдвоем с госпожою де Реналь, воцарялось самое странное молчание. В гостиной, как бы смиренно он себя ни держал, она находила, что он превосходит умом всех, кто ее посещал. Оставаясь с ним на минуту одна, она замечала его видимое смущение. Это тревожило ее, ибо своим женским чутьем она угадывала, что это смущение проистекает далеко не из нежных чувств.
Неизвестно, вследствие какого представления, заимствованного из рассказов хирурга о высшем обществе, Жюльен чувствовал себя всегда словно виноватым, если разговор прекращался в присутствии женщины. Это ощущение становилось еще во сто раз тягостнее наедине с дамою… Его воображение, полное самых чрезмерных, самых сумасбродных понятий о том, что мужчина должен говорить наедине с женщиной, внушало ему в его замешательстве самые неприемлемые мысли. Душа его парила в небесах, а вместе с тем он не мог нарушить самого презренного молчания. Вследствие этого его суровый вид во время долгих прогулок с госпожою де Реналь и ее детьми еще усиливался от жестоких мучений. Он безумно презирал себя. Если, на свое несчастье, он заставлял себя говорить, то говорил только самые смешные вещи. К довершению несчастия, он сознавал и даже преувеличивал свое нелепое положение; но он не видел выражения своих глаз, которые были так прекрасны и отражали такую пламенную душу, что, подобно хорошим актерам, зачастую придавали очаровательный смысл тому, в чем его вовсе не было. Госпожа де Реналь заметила, что наедине с нею ему случалось говорить хорошо, только когда, отвлеченный каким-нибудь непредвиденным обстоятельством, он не заботился о том, чтобы говорить комплименты. И так как друзья дома не баловали ее новыми блестящими идеями, она с восхищением ловила блестки ума Жюльена.
Со времени падения Наполеона всякое подобие любезности было беспощадно изгнано из провинциальных нравов. Все боялись лишиться мест. Плуты искали поддержки в конгрегации; лицемерие торжествовало даже среди либералов. Скука возрастала. Оставалось только развлекаться чтением и сельским хозяйством.
Госпожа де Реналь, богатая наследница набожной тетки, вышедшая замуж в шестнадцать лет за знатного дворянина, никогда не видела и не испытывала в своей жизни ничего, что походило бы хоть сколько-нибудь на любовь. Только ее духовник, добрый священник Шелан, говорил с ней о любви по поводу ухаживаний господина Вально, причем он изображал ей любовь в таком отвратительном виде, что она представляла ее себе в виде самого гнусного разврата. Она смотрела как на исключение или как на что-то сверхъестественное на любовь, о которой читала в весьма ограниченном количестве романов, случайно попавшихся ей на глаза. Благодаря этому неведению госпожа де Реналь, вполне счастливая, постоянно занятая Жюльеном, была далека от того, чтобы в чем-то себя упрекать.
Глава 8. Мелкие события
Then there were sighs, the deeper for suppression,
Ant stolen glances, sweeter for the theft,
And burning blushes, though for no transgression.
Don Juan. С 1, st. 74И вдох тем глубже, чем вздохнуть боится,
Поймает взор и сладостно замрет,
И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться.
Байрон. Дон Жуан, п. 1, ст. 74.Ангельское настроение, которым госпожа де Реналь обязана была своему характеру и своему настоящему счастью, слегка омрачалось, когда она думала о своей горничной Элизе. Эта девица получила наследство и, отправившись исповедоваться к священнику Шелану, призналась ему в своем намерении выйти замуж за Жюльена. Священник искренно порадовался счастью своего друга; но велико было его изумление, когда Жюльен объявил ему с решительным видом, что предложение девицы Элизы ему не подходит.
– Остерегайтесь, дитя мое, того, что происходит в вашем сердце, – сказал священник, наморщив брови, – если вы отказываетесь по причине вашего призвания от такого более чем приличного состояния, то я приветствую вас. Я служу в Верьере уже пятьдесят шесть лет и, несмотря на это, по всей видимости, буду смещен. Это меня огорчает, хотя у меня есть восемьсот фунтов ренты. Я сообщаю вам эти подробности, чтобы вы не строили себе иллюзий насчет того, что вас ожидает в положении священника. Если же вы намерены угождать сильным мира, вы обречены на неминуемую гибель. Вы могли бы сделать карьеру, но для этого придется вредить обездоленным, льстить супрефекту, мэру, всем людям с положением, потакать их страстям; этот образ действий, называемый умением жить, быть может, для мирянина и совместим со спасением; но в нашем положении нужно выбирать; середины нет, – хотите преуспевать в этом мире или в другом. Ступайте, дорогой друг, подумайте и через три дня дайте мне окончательный ответ. С грустью замечаю я на дне вашей души мрачное пламя, не обещающее сдержанности и отречения от земных благ, необходимых священнослужителю; я ожидаю многого от вашего ума; но позвольте мне вам сказать, – прибавил добряк священник со слезами на глазах, – я трепещу за вас в положении священника.
Жюльену было стыдно за свое волнение; в первый раз в жизни он видел, что его любят; он плакал от умиления и отправился скрыть его в большой лес за Верьером.
«Что со мною? – спросил он себя наконец. – Я чувствую, что отдал бы сто раз жизнь за этого добряка священника, а между тем он только что убеждал меня, что я дурак. Мне нужнее всего провести его, а он видит мою душу. Скрытое пламя, о котором он говорил, это мое намерение сделать карьеру. Он считает меня недостойным звания священника и, как раз тогда, когда я воображал, что, жертвуя рентой в пятьдесят луидоров, я внушу ему самое высокое представление о моей набожности и моем призвании. В будущем, – продолжал Жюльен, – я буду рассчитывать только на те черты моего характера, которые удастся испытать. Кто сказал бы мне, что я буду, с восторгом проливать слезы? Что буду любить человека, который меня убеждает в том, что я дурак!»
Через три дня Жюльен придумал предлог, которым должен был воспользоваться с первого дня; это была клевета, но что из этого? Он признался священнику, что его отвратила от предполагаемого брака причина, которую он не может открыть, ибо она может повредить третьему лицу. Это бросало тень на Элизу. Господин Шелан нашел в его поведении какую-то светскую пылкость, совсем не соответствующую тому, что должно было воодушевлять юного левита.
– Мой друг, – сказал он ему еще раз, – лучше быть хорошим зажиточным крестьянином, уважаемым и просвещенным, чем священником не по призванию.
Жюльен ответил очень красноречиво на эти новые увещания; он говорил словами юного, пылкого семинариста; но его тон и плохо скрываемое пламя, сверкавшее в его глазах, продолжали тревожить господина Шелана.
Не следует слишком дурно думать о Жюльене; он только тщательно подбирал лицемерные и осторожные слова. В его возрасте это еще не свидетельствует о дурном. Что касается тона и жестов, то ведь он жил среди простонародья и не видел великих образцов. Впоследствии, лишь только ему удалось приблизиться к таковым, он быстро приобрел изумительные жесты и не менее изумительные выражения.
Госпожа де Реналь была удивлена, что полученное ее горничной состояние не сделало ее более счастливой; она заметила, что та беспрестанно ходит к священнику и возвращается с заплаканными глазами; наконец Элиза рассказала ей о своем намерении.
Госпожа де Реналь словно сделалась больна; лихорадка лишила ее сна; она жила только тогда, когда видела свою горничную или Жюльена. Она не могла ни о чем думать, – только о них и о счастье, которое ожидает их в браке. Их убогое хозяйство, которое они должны были вести на пятьдесят луидоров ренты, рисовалось ей в самых пленительных красках. Жюльен может сделаться адвокатом в Брэ, в супрефектуре в двух лье от Верьера; в этом случае она будет его изредка видеть.
Госпожа де Реналь всерьез вообразила, что сходит с ума; она сообщила об этом мужу и наконец занемогла. В тот же вечер, когда ей прислуживала горничная, она заметила, что девушка плачет. В эту минуту она ненавидела Элизу и накричала на нее; она тотчас извинилась. Слезы Элизы еще усилились; она сказала, что, если барыня позволит, она поведает ей свое горе.
– Говорите, – сказала госпожа де Реналь.
– Ну так вот, барыня, он от меня отказывается; злые люди наговорили ему обо мне, а он поверил им.
– Кто от вас отказывается? – спросила госпожа де Реналь, еле дыша.
– Кто же, барыня, как не господин Жюльен? – продолжала горничная рыдая. – Господину священнику так и не удалось убедить его; а господин священник находит, что не следует отказываться от честной девушки только оттого, что она служит горничной. Ведь уж если пошло на то, отец господина Жюльена – простой плотник, да и сам он, чем занимался, прежде чем поступил к вам?
Госпожа де Реналь больше не слушала; чрезмерная радость почти лишила ее рассудка. Она заставила Элизу повторить несколько раз, что Жюльен окончательно отказался от брака, так что нет никакой надежды, заставить его изменить решение.
– Я попытаюсь еще в последний раз, – сказала госпожа де Реналь своей горничной, – и сама поговорю с Жюльеном.
На следующий день, после завтрака, госпожа де Реналь доставила себе восхитительное удовольствие ходатайствовать за свою соперницу и видеть, как рука и состояние Элизы отвергались непреклонно в течение целого часа.
Постепенно Жюльен исчерпал свои придуманные ответы и стал разумно возражать на увещевания госпожи де Реналь. Она не смогла противостоять обуревавшему ее восторгу после стольких терзаний и отчаяния. Ей сделалось дурно. Когда она пришла в себя и очутилась в своей комнате, она выслала всех из комнаты. Она была чрезвычайно удивлена.
«Уж не влюблена ли я в Жюльена», – сказала она себе наконец.
Это открытие, которое в любой другой момент повергло бы ее в глубочайшее волнение и раскаяние, теперь показалось ей чем-то странным, безразличным. Ее душа, истощенная предыдущими испытаниями, не в состоянии была реагировать на страсть.
Госпожа де Реналь хотела поработать, но впала в глубокий сон; проснувшись, она не испугалась, как должна была испугаться. Она чувствовала себя слишком счастливою, чтобы видеть что-либо в дурном свете. Наивная и невинная, эта милая провинциалка никогда не уродовала своей души, выискивая какой-нибудь новый оттенок горя или радости. До появления Жюльена, всецело поглощенная домашней работой, которая выпадает вдали от Парижа на долю каждой хорошей матери семейства, госпожа де Реналь относилась к страстям так же, как мы относимся к лотерее: наверняка – обман, счастье, которого ищут одни безумцы.
Раздался звонок к обеду; госпожа де Реналь сильно покраснела, услыхав голос Жюльена, ведшего детей. Научившись немножко притворяться, с тех пор как она влюбилась, она стала жаловаться на ужасную головную боль, чтобы объяснить свой необычный вид.
– Вот каковы женщины, – ответил ей господин де Реналь с громким смехом. – Вечно нужно что-нибудь исправлять в этих сложных организмах.
Хотя госпожа де Реналь и привыкла к такого рода шуткам, но этот тон ее покоробил. Чтобы отвлечься, она посмотрела на лицо Жюльена; и будь он самым безобразным мужчиной в мире, он бы понравился ей в этот момент.
Старательно подражавший аристократическому образу жизни, господин де Реналь с первыми весенними днями переселился в Вержи; это была деревушка, получившая известность после трагической истории Габриэли. В нескольких стах шагов от живописных развалин старинной готической церкви господин де Реналь имел старый замок с четырьмя башнями и сад, разбитый наподобие Тюильри, с множеством бордюров из букса и каштановыми аллеями, которые подрезают дважды в год. Соседнее поле, засаженное яблонями, служило местом для прогулок. Восемь или десять великолепных ореховых деревьев находились в конце фруктового сада; их пышная листва возвышалась почти на восемьдесят футов вышины.
– Каждое из этих проклятых ореховых деревьев, – говорил господин де Реналь, когда его жена восхищалась ими, – стоит мне пол-арпана жатвы: хлеб не может вызреть в их тени.
Деревня показалась госпоже де Реналь теперь в новом свете; ее восхищение было беспредельно. Воодушевлявшее ее чувство придавало ей рассудительности и решительность. Когда на следующий же день после переезда в Вержи господин де Реналь вернулся в город по делам мэрии, госпожа де Реналь наняла за свой счет работников. Жюльен подал ей мысль устроить песчаную дорожку среди фруктового сада и под ореховыми деревьями, где дети могли бы гулять с утра, не опасаясь замочить ноги росою. Не прошло и суток, как эту затею привели в исполнение. Госпожа де Реналь провела весь день очень весело, командуя рабочими, в обществе Жюльена.
Когда верьерский мэр возвратился из города, он был очень удивлен, найдя аллею готовой. Госпожа де Реналь также удивилась его приезду; она забыла о его существовании. Целых два месяца он потом говорил с насмешкой о смелости, с которою она предприняла, не посоветовавшись с ним, такую значительную работу, но госпожа де Реналь сделала ее на свой счет, и это его немного утешило.
Она проводила целые дни бегая с детьми по саду и гоняясь за бабочками. Смастерили большие сетки из светлого газа, при посредстве которых ловили бедных чешуйчатокрылых. Этому варварскому названию Жюльен научил госпожу де Реналь. Она выписала из Безансона прекрасный труд господина Годара, и Жюльен рассказывал о странных нравах этих насекомых.
Их безжалостно прикалывали булавками на большой картон, сооруженный также Жюльеном.
Наконец у госпожи де Реналь и Жюльена явился предмет для разговора, и он уже больше не подвергался ужасной пытке минутами молчания.
Они болтали беспрестанно, с огромным интересом, хотя всегда о вещах весьма невинных. Эта деятельная жизнь, полная веселья и занятий, нравилась всем, кроме Элизы, обремененной работою.
– Никогда во время карнавала, – говорила она, – даже когда в Верьере готовился бал, барыня не занималась столько своим туалетом; теперь она меняет платья по два или три раза в день.
Так как в наши намерения не входит никому льстить, то мы не скроем от читателя, что госпожа де Реналь, обладавшая изумительной кожей, нашила себе платьев с открытою шеей и руками… Она была очень хорошо сложена, и такая манера одеваться чрезвычайно шла к ней.
– Никогда вы еще не казались такой моложавой, – говорили ей ее верьерские друзья, приезжавшие в Вержи пообедать.
Странная вещь, которой весьма немногие из нас поверят, – госпожа де Реналь так усиленно занималась собою без особо определенных намерений: она находила в этом удовольствие без всяких других помыслов; все время, когда она не охотилась за бабочками с Жюльеном и детьми, она занималась с Элизой шитьем платьев. Ее единственный выезд в Верьер был вызван желанием приобрести новые летние ткани, привезенные из Мюлуза.
Она привезла в Вержи свою молодую родственницу. После своего замужества госпожа де Реналь незаметно сблизилась с госпожою Дервиль, своей прежней подругой по монастырю.
Госпожа Дервиль много смеялась над тем, что она называла сумасбродными идеями своей кузины: «Самой бы мне никогда этого не пришло в голову», – говорила она. Этих неожиданных мыслей, называемых в Париже остротами, госпожа де Реналь стыдилась, словно глупостей, если говорили их при муже. Но присутствие госпожи Дервиль придавало ей мужества. Сначала она говорила ей их вполголоса; когда эти дамы долго находились вдвоем, ум госпожи де Реналь оживлялся, и долгое утро пролетало как мгновение, оставляя обеих подруг в чрезвычайно веселом настроении. Но в этот праздник рассудительная госпожа Дервиль нашла свою кузину гораздо менее веселою, хотя и более счастливою.
Жюльен, со своей стороны, жил в деревне как настоящий ребенок, гоняясь за бабочками с такою же радостью, как и его ученики. После стольких стеснений и дипломатических хитростей, один, вдали от мужских взглядов и инстинктивно нисколько не опасаясь госпожи де Реналь, он отдавался радостям жизни, столь живым в его годы, среди самой прекрасной горной природы.
С самого приезда госпожи Дервиль Жюльену показалось, что она отнеслась к нему дружески; он поспешил показать ей вид, который открывался в конце новой дорожки под большими орехами; в сущности, он был так же хорош, если не лучше, чем красивые виды Швейцарии и итальянских озер. Если взойти на косогор, начинавшийся через несколько шагов, открывались огромные пропасти, окаймленные дубовыми лесами, тянущимися почти до реки. На вершину этих почти отвесных утесов Жюльен, счастливый и свободный, почти правитель дома, сопровождал обеих подруг, наслаждаясь их восхищением этими превосходными видами.
– Для меня это как музыка Моцарта, – говорила госпожа Дервиль.
Зависть братьев, присутствие грубого и деспотичного отца испортили в глазах Жюльена все места в окрестностях Верьера. В Вержи у него не было больше этих горьких воспоминаний; в первый раз в жизни он не был окружен врагами. Когда господин де Реналь бывал в городе, что случалось довольно часто, Жюльен осмеливался читать; вскоре вместо того, чтобы читать по ночам, да еще спрятав лампу под опрокинутым цветочным горшком, он стал предаваться сну; днем же, в промежутках между уроками детей, он приходил на эти скалы с книгою, единственным предметом его восхищения, и в ней он черпал все правила поведения. Там он находил сразу счастье, экстаз и утешение в минуты уныния.
Некоторые вещи, сказанные Наполеоном о женщинах, рассуждения о романах, бывших в моде во время его правления, в первый раз навели Жюльена на мысли, которые давно бы пришли в голову всякому другому юноше его возраста.
Наступила жара. Они обычно проводили вечера под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там царствовал мрак. Однажды вечером Жюльен оживленно говорил, наслаждаясь удовольствием ораторствовать в присутствии красивых женщин, и, жестикулируя, он коснулся руки госпожи де Реналь, опиравшейся на спинку одного из крашеных стульев, обычно находящихся в садах.
Она быстро отдернула руку, но Жюльен подумал, что его долг – добиться того, чтобы руку, которой он касается, не отдергивали. Мысль о долге – о смешном и унизительном положении, которому он подвергнется, если это не удастся, – моментально омрачила его радостное настроение.
Глава 9. Вечер в деревне
La Didon de M. Guérin, esquisse charmante!
Strombeck«Дидона» Герена – прелестный набросок!
ШтромбекСтранным взглядом смотрел на другой день Жюльен на госпожу де Реналь; он изучал ее, словно врага, с которым ему придется сразиться. Этот взгляд, столь непохожий на вчерашний, заставил госпожу де Реналь потерять голову; она была к нему так добра, а он, кажется, сердится. Она не могла оторвать от него глаз.
Присутствие госпожи Дервиль позволяло Жюльену менее разговаривать и более отдаваться своим мыслям. Единственным его занятием в течение всего этого дня было чтение книги, вдохновлявшей и укреплявшей его душу.
Он сократил занятия детей и затем, встретившись с госпожою де Реналь, напомнившей ему о его честолюбивых замыслах, решил, что сегодня вечером он безусловно добьется того, чтобы она не отнимала своей руки у него.
На закате солнца, с приближением решительного момента сердце Жюльена странно забилось. Спустился вечер. Он заметил с радостью, облегчившей ему грудь, что ночь будет темная. Небо заволокли большие облака, гонимые теплым ветром; казалось, оно возвещало бурю. Подруги гуляли допоздна. Все их поведение казалось странным в этот вечер Жюльену. Они наслаждались этой теплой погодой, которая для некоторых нежных душ усиливает сладость любви.
Наконец сели – госпожа де Реналь рядом с Жюльеном, госпожа Дервиль возле своей подруги. Озабоченный своими намерениями, Жюльен не мог ни о чем говорить. Разговор не клеился.
«Неужели я буду так же дрожать и трусить при первой предстоящей мне дуэли?» – сказал себе Жюльен; он слишком недоверчиво относился и к себе, и к другим, чтобы не сознавать своего душевного состояния.
Он предпочел бы всевозможные опасности этой мучительной тоске. Как он желал, чтобы госпожу де Реналь позвали в дом из сада по какому-нибудь делу. Жюльен делал над собою такие усилия, что его голос заметно изменился; вскоре голос госпожи де Реналь также задрожал, но Жюльен не обратил на это внимания. Ужасная борьба между «долгом» и застенчивостью слишком поглощала его, чтобы он мог заметить что-либо другое. Без четверти девять пробило на часах замка, а он все еще не решался. Возмущенный своею трусостью, Жюльен сказал себе: «Как только часы пробьют десять, я исполню то, что в течение целого дня обещал себе сделать вечером, или же пойду к себе и пущу себе пулю в лоб».
В тот момент, когда чрезмерное волнение, ожидание и боязнь довели Жюльена до невменяемости, десять часов пробило на часах над его головою. Каждый удар этого рокового колокола отдавался в его груди, причиняя физическое страдание.
Наконец, когда замирал последний десятый удар, он протянул руку и взял руку госпожи де Реналь, которая ее тотчас отдернула. Жюльен, не зная сам, что делать, схватил ее снова. Несмотря на свое волнение, он был поражен ледяной холодностью взятой им руки; он сжал ее конвульсивно; слабым усилием попытались вновь отнять ее у него, но в конце концов он удержал ее.
Душа его утопала в блаженстве не потому, чтобы он любил госпожу де Реналь, а потому, что прекратились ужасные мучения. Для того чтобы госпожа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить; голос его звучал громко и звучно. Голос же госпожи де Реналь, напротив, обнаруживал такое волнение, что ее приятельница сочла ее больной и предложила идти домой. Жюльен почувствовал опасность момента: «Если госпожа де Реналь вернется домой, я снова впаду в ужасное состояние, в котором провел весь день. Я держал эту руку слишком недолго, для того чтобы считать это за приобретенную милость».