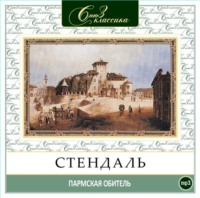Полная версия
Красное и черное
Ответ Сореля заключался прежде всего в долгом перечислении всех формул почтения, которые он знал наизусть. И в то время, как он повторял эти пустые слова с неловкой улыбкой, подчеркивавшей фальшивое, почти мошенническое выражение его лица, деятельный ум старого крестьянина старался угадать, какие причины могут заставить такого влиятельного человека брать к себе его негодного сына. Он был очень недоволен Жюльеном, а за него-то господин де Реналь и предлагал ему неожиданную сумму в триста франков ежегодно, с содержанием и даже с одеждою. Последнее условие, которое отец Сорель выдвинул в первую очередь, было, однако, принято господином де Реналем.
Это требование озадачило мэра. «Если Сорель не восхищен его предложением свыше меры, как должен, то ясно как божий день, – сказал он себе, – что ему сделано подобное предложение со стороны; и откуда же оно могло исходить, как не от Вально?» Напрасно господин де Реналь хотел заставить Сореля немедленно покончить с делом: хитрый старик упрямо воспротивился; он хотел, по его словам, посоветоваться с сыном, точно в провинции богатый отец когда-нибудь советуется – если только не ради проформы – с сыном, у которого ничего нет.
Водяная лесопилка помещается в сарае на берегу ручья. Крыша лежит на стропилах, опирающихся на четыре толстых деревянных столбах. В восьми или десяти футах над полом, посреди сарая, поднимается и опускается пила, а весьма простой механизм подталкивает к ней бревна. Ручей приводит в движение колесо, оно и управляет этим двойным механизмом, – тем, что поднимает и опускает пилу, и тем, что легонько подталкивает бревно к пиле, распиливающей его на доски.
Подойдя к своей мастерской, папаша Сорель начал громко звать Жюльена, но никто не отвечал. Он увидел только старших своих сыновей, похожих на великанов; вооруженные тяжелыми топорами, они обтесывали еловые стволы, прежде чем отнести их к пиле. Стараясь попасть точно на черную отметку, сделанную на деревьях, они обрубали взмахами топора огромные щепы. Голоса отца они не слыхали. Последний направился к сараю, но, войдя туда, он не увидел Жюльена на должном месте возле пилы. Тот сидел на одной из балок кровли, выше пятью-шестью футами. Вместо того чтобы внимательно следить за механизмом, Жюльен читал. Ничего не могло быть более ненавистного для старика Сореля; он еще, пожалуй, простил бы Жюльену его щуплое сложение, мало подходящее к физическому труду и так отличавшее его от старших братьев, но эта мания чтения была ему отвратительна: сам он не знал грамоты.
Тщетно окликнул он Жюльена два или три раза. Внимание, с которым молодой человек предавался чтению, более, чем шум пилы, мешало ему услыхать грозный голос отца. Наконец, несмотря на свой возраст, старик проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилою, и оттуда – на поперечную балку, подпиравшую крышу. От сильного удара книга, которую держал Жюльен, полетела в ручей; от второго, не менее сильного удара в голову он потерял равновесие. Он упал бы на двенадцать или пятнадцать футов вниз на рычаги машины, которые исковеркали бы его, если бы отец при падении не удержал его левой рукою.
– Ну что ж, лентяй! Так и будешь читать свои проклятые книги вместо того, чтобы наблюдать за пилой? Читай их на доброе здоровье вечером, когда теряешь время у кюре.
Жюльен, оглушенный затрещиной и окровавленный, направился к своему служебному посту возле пилы. Слезы выступили у него на глазах – не столько от физической боли, сколько от огорчения из-за потери книги, которую он обожал.
– Спускайся, скотина, я с тобой поговорю.
Шум машины снова помешал Жюльену услыхать этот приказ. Его отец уже спустился вниз, не желая утруждать себя новым подъемом, схватил длинную жердь, служившую для сбивания орехов, и ударил ею сына по плечу. Лишь только Жюльен спустился на землю, как старик Сорель, грубо подгоняя его, толкнул по направлению к дому. «Бог знает, что он со мной сделает!» – сказал себе молодой человек. Проходя мимо, он с грустью поглядел на ручей, куда упала его книга; это была его любимая книга – «Мемориал Святой Елены».
Щеки его пылали, глаза были опущены. Это был юноша невысокого роста, лет восемнадцати-девятнадцати, на вид слабый; черты лица его были неправильны, но тонки; нос с горбинкою. Большие черные глаза, в спокойные минуты выражавшие вдумчивость и страстность, в этот момент пылали самой яростной ненавистью. Темно-каштановые волосы, росшие очень низко, суживали его лоб, что в минуты гнева придавало ему злое выражение. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц, быть может, нет ни одного, которое бы отличалось такой разительной особенностью. Тонкая и стройная фигура его обнаруживала скорее легкомыслие, чем энергию. С детства его чрезвычайно задумчивый вид и сильная бледность внушили его отцу мысль, что он не жилец, а если и будет жить, то в тягость семье. Предмет насмешек всего дома, он ненавидел братьев и отца; по воскресеньям во время игр на площади его постоянно поколачивали.
Уже с год его смазливое лицо начинало привлекать молодых девушек… Презираемый всем светом как слабое существо, Жюльен обожал того старика-хирурга, который однажды осмелился сделать мэру замечание по поводу платанов.
Этот хирург иногда оплачивал папаше Сорелю рабочий день Жюльена и учил его латыни и истории, то есть тому, что знал сам – истории итальянского похода 1796 года. Умирая, он завещал ему свой крест Почетного Легиона, остатки пенсии, тридцать-сорок томов книг, самая драгоценная из которых только что полетела в общественный ручей, подведенный к лесопилке благодаря влиянию господина мэра.
Едва войдя в дом, Жюльен почувствовал на своем плече мощную руку отца; он задрожал в ожидании новых побоев.
– Отвечай мне правду, – услыхал он над ухом грубый голос старого крестьянина, между тем как рука повернула его, подобно тому как детская рука поворачивает оловянного солдатика. Большие черные глаза Жюльена, полные слез, очутились против маленьких серых глаз старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в душу.
Глава 5. Переговоры
Cunctando restituit rem.
EnniusМедлительностью спас положение.
Энний.
– Отвечай мне, если можешь, без лжи, собачий чтец, откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда ты с ней говорил?
– Я с нею никогда не говорил, – ответил Жюльеи, – я только видел эту даму в церкви.
– Но ты на нее глядел, бесстыдник?
– Никогда! Вы знаете, что в церкви я не вижу никого, кроме Бога, – лицемерно прибавил Жюльен, надеясь, что так он избежит тумаков.
– Но здесь что-нибудь да есть, – возразил хитрый крестьянин и на мгновение смолк. – Но от тебя ничего не добьешься, проклятый притворщик. Дело в том, что я скоро избавлюсь от тебя, и мое дело от этого только выиграет. Ты просил священника или кого другого, но он достал тебе отличное место. Собери свои пожитки, и я тебя отведу к господину де Реналю, где ты будешь наставником детей.
– Что я буду получать за это?
– Содержание, одежду и триста франков жалованья.
– Не хочу быть лакеем.
– Скотина, кто тебе говорит про лакея. Разве я захотел бы, чтобы мой сын был лакеем?
– А с кем я буду садиться за стол?
Этот вопрос смутил старика Сореля, он почувствовал, что может сказать чего не следует, разозлился на Жюльена, осыпал его бранью, обвиняя в чревоугодии, и пошел посоветоваться с другими сыновьями.
Жюльен вскоре увидел, как они совещаются, опираясь на свои топоры. Он долго смотрел на них, но, поскольку не мог догадаться о предмете разговора, пошел и спрятался за лесопилкой, чтобы его не могли найти. Ему хотелось подумать об этом неожиданном предложении, меняющем его судьбу, но чувствовал, что неспособен на благоразумие и стал мечтать о том, что увидит в прекрасном доме господина де Реналя.
«Лучше отказаться от всего этого, – сказал он себе, – чем позволить сажать себя за стол с прислугой. Отец захочет меня к этому принудить, нет, лучше умереть. Я скопил пятнадцать франков и восемь су и убегу сегодня ночью; через два дня окольными дорогами, где нечего опасаться жандармов, я дойду до Безансона; там поступлю в солдаты, а если понадобится, переберусь в Швейцарию. Но тогда прощай карьера, прощай прекрасное звание священника, открывающее дорогу ко всему».
Этот страх оказаться за одним столом с прислугой не был свойствен Жюльену; чтобы добиться положения, он пошел бы на испытания гораздо более тяжелые. Он почерпнул это отвращение в «Исповеди» Руссо. Это была единственная книга, по которой он представлял себе свет. «Журнал великой армии» и «Мемориал Святой Елены» дополняли его коран. Он готов был умереть за эти три сочинения. Никогда он не верил ничему другому. Храня заветы своего старого лекаря, он смотрел на все остальные книги, как на лживые, написанные плутами с меркантильными целями.
Обладая пламенной душой, Жюльен отличался также удивительной памятью, так часто сопровождающей глупость. Чтобы расположить к себе старого священника Шелана, от которого, как он видел, зависело его будущее, он выучил наизусть по-латыни Новый Завет; он знал также книгу о Папе де Местра, но не верил ни той, ни другой.
Словно по взаимному согласию, Сорель и его сын избегали в этот день разговора. Вечером Жюльен отправился к священнику на урок теологии, но не счел нужным говорить ему о странном предложении, сделанном его отцу. «Быть может, это какая-нибудь ловушка, – говорил он себе – нужно сделать вид, что я об этом позабыл».
На другой день, рано утром, господин де Реналь велел позвать старика Сореля, который, заставив себя прождать час или два, наконец явился, начав еще у дверей извиняться и раскланиваться. После долгих расспросов Сорель понял, что его сын будет обедать вместе с хозяевами дома, а в те дни, когда будут гости, – в отдельной комнате с детьми. Становясь все требовательнее по мере того, как он замечал, насколько господин мэр заинтересован в его сыне, но все еще удивленный и полный сомнений, Сорель пожелал видеть комнату, где поместят его сына. Это была большая комната, прилично обставленная, в которую уже переносили кровати троих мальчиков.
Это обстоятельство кое-что прояснило для старого крестьянина; он тотчас настойчиво попросил показать ему одежду, которую дадут его сыну. Господин де Реналь открыл конторку и вынул оттуда сто франков.
– Пусть ваш сын отправится с этими деньгами к суконщику господину Дюрану и закажет себе этот костюм.
– А если бы я взял его от вас, – сказал крестьянин, вдруг словно позабывший свой почтительный тон, – у него останется эта черная пара?
– Конечно.
– Ладно! – сказал Сорель, растягивая слова, – теперь нам остается условиться только насчет денег, которые вы ему будете платить.
– Как! – воскликнул господин де Реналь в негодовании. – Мы ведь вчера условились: я даю триста франков; полагаю, что этого достаточно, если не слишком много.
– Вы это предложили, я этого не отрицаю, – сказал старик Сорель, еще более растягивая слова; и в порыве вдохновения, способного удивить только тех, кто не знает крестьян Франш-Конте, прибавил, глядя в упор на господина де Реналя: – мы найдем и получше, в другом месте.
При этих словах лицо мэра исказилось. Впрочем, он быстро овладел собою и после искусного разговора в течение целых двух часов, где ни слова не было сказано зря, хитрость крестьянина восторжествовала над хитростью богача, который не нуждался в ней, чтобы жить. Все многочисленные пункты, определявшие новое существование Жюльена, были установлены с точностью; и не только его жалованье было определено в четыреста франков, но оно должно было уплачиваться вперед, первого числа каждого месяца.
– Итак, я ему выдам тридцать пять франков, – сказал господин де Реналь.
– Для круглого счета такой богатый и щедрый господин, как наш мэр, – сказал крестьянин льстиво, – не пожалеет тридцати шести франков.
– Хорошо, – сказал господин де Реналь. – Но на этом покончим.
Он был возмущен и вследствие этого принял твердый тон. Крестьянин увидал, что следует прекратить выпрашивание. Но тут господин де Реналь перешел в наступление. Он ни за что не согласился выдать деньги за первый месяц старику Сорелю, спешившему их получить за сына. Господин де Реналь подумал, что ему придется рассказать жене о роли, которую он играл во всех этих переговорах.
– Отдайте мне сто франков, которые я вам дал, – сказал он с досадой. – Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном выбирать черное сукно.
После этого резкого выпада Сорель благоразумно вернулся к своему почтительному тону; и это заняло у него еще добрую четверть часа. Наконец, видя, что он окончательно ничего больше не добьется, он удалился. Его последний поклон сопровождался словами:
– Я тотчас пошлю сына в замок.
Так подчиненные господина мэра называли его дом, когда хотели ему угодить.
Вернувшись на лесопилку, Сорель напрасно искал своего сына. Опасаясь того, что может произойти, Жюльен ушел посреди ночи. Ему хотелось оставить в надежном месте свои книги и крест Почетного Легиона. Он снес все это к молодому лесоторговцу, своему другу Фуке, жившему на вершине горы над Верьером.
Когда он появился, отец сказал ему:
– Ах, проклятый ленивец, хватит ли у тебя совести перед Богом, чтобы заплатить мне за все, что я тратил на твое содержание столько лет! Бери свои лохмотья и убирайся к господину мэру.
Жюльен, удивленный, что его не поколотили, поспешил отправиться. Но, едва скрывшись из глаз своего грозного отца, он замедлил шаг. Он рассудил, что было бы неплохо зайти в церковь и подкрепиться в своем ханжестве.
Слово «ханжество» вас удивляет? Прежде чем дойти до этого, душа юного крестьянина должна была много претерпеть.
С раннего детства, когда он увидал драгунов шестого полка (Автор был подпоручиком шестого драгунского полка в 1800 году), в длинных белых плащах и касках с черными султанами, – они, возвращаясь из Италии, останавливались в Верьере и привязывали лошадей к решетке окна его отца, – с тех самых пор он стал восторженным поклонником военной службы. Позже он с увлечением слушал рассказы отставного лекаря о сражениях на мосту Лоди, в Арколе, в Риволи. Он подмечал пламенные взгляды, которые старец бросал на свой крест.
Но когда Жюльену было четырнадцать лет, в Верьере начали строить церковь, которую можно было назвать великолепной для столь маленького города. В особенности поразили Жюльена там четыре мраморные колонны; они прославились во всей округе из-за смертельной ненависти, возбужденной ими между мировым судьей и молодым викарием, присланным из Безансона и слывшим за соглядатая конгрегации. Мировой судья чуть не лишился из-за этого своего места, – по крайней мере, все так думали. Как он посмел вступить в разногласия со священником, который каждые две недели ездил в Безансон, где, как говорят, он имел дело с самим монсеньором епископом?
Тем временем мировой судья, отец многочисленного семейства, вынес несколько приговоров, показавшихся несправедливыми: все они были направлены против читающих «Constitutionnel». Правоверные торжествовали. Правда, что потерпевшим приходилось уплатить не более трех или пяти франков; но один из этих штрафов пришелся на долю гвоздаря, крестного отца Жюльена. Разгневавшись, он воскликнул: «Какая перемена! И сказать, что двадцать лет тому назад мировой судья считался честным человеком!» Отставной лекарь, друг Жюльена, был тогда уже в могиле.
Тогда вдруг Жюльен перестал говорить о Наполеоне; он объявил о своем намерении стать священником, и его постоянно можно было видеть на лесопилке его отца, занятого заучиванием наизусть латинской Библии, одолженной ему священником. Добрый старик, изумленный его успехами, по целым вечерам занимался с ним, толкуя ему теологию. Жюльен выказывал перед ним лишь самые благочестивые чувства. И кто бы мог угадать, что это женственное лицо, такое кроткое и бледное, скрывало непоколебимую решимость скорее подвергнуться тысяче смертей, чем не сделать карьеры?
Для Жюльена сделать карьеру означало, прежде всего, вырваться из Верьера; он ненавидел свою родину. Все, что он здесь видел, сковывало полет его воображения.
С детства он испытывал моменты экзальтации. Тогда он мечтал с восхищением о том, что однажды он будет представлен прекрасным парижским дамам и сумеет привлечь их внимание каким-нибудь блестящим поступком. Почему бы одна из них не могла полюбить его, подобно тому, как Бонапарта, который был тогда еще беден, полюбила блестящая госпожа де Богарнэ? В течение многих лет не проходило, должно быть, и часа, когда бы Жюльен не говорил себе, что Бонапарт, неизвестный и бедный офицер, сделался властелином мира благодаря одной своей шпаге. И эта мысль утешала его в несчастьях, казавшихся ему ужасными, и увеличивала радости, выпадавшие ему на долю.
Постройка церкви и приговоры мирового судьи точно вдруг открыли перед ним свет; мысль, которая пришла ему в голову, сделала его почти одержимым на несколько недель и наконец овладела им со всей властностью первой идеи, которую страстная натура считает своим изобретением.
«Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция опасалась вторжения иноземцев; военная доблесть была тогда необходима и в моде. Теперь сорокалетние священники получают сто тысяч франков жалованья, то есть в три раза больше, чем получали прославленные генералы Наполеона. Им нужны помощники… Вот этот мировой судья такой умный, до сих пор такой честный, уже на старости лет позорит себя из боязни не понравиться молодому тридцатилетнему викарию. Надо стать священником».
Однажды, в разгар своего нового увлечения, когда Жюльен уже два года изучал теологию, он выдал неожиданно для всех пламя, пожиравшее его душу. Это случилось у господина Шелана; на обеде священников, которым добрый старик представил его как чудо знания, он вдруг начал горячо восхвалять Наполеона. Осознав ошибки, он привязал себе правую руку к груди, сказав, что вывихнул ее, переворачивая еловые бревна, и два месяца носил ее в этом неудобном положении. После этого телесного наказания он простил себя. Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему едва можно было дать семнадцать лет, входивший с маленьким свертком под мышкой в великолепную верьерскую церковь.
В церкви было темно и пустынно. По случаю праздника все окна здания были завешены пунцовой материей; получался эффект ослепительного света от солнечных лучей, проникавших внутрь… Жюльен затрепетал. Очутившись один в церкви, он уселся на самую красивую скамью. На ней находился герб господина де Реналя.
На скамье Жюльен заметил клочок печатной бумаги, положенный словно для прочтения. Он взглянул на него и увидал: «Описание казни и последних минут Луи Женреля, казненного в Безансоне, сего…»
Бумажка была разорвана. На обороте можно было прочесть два первых слова строки: «первый шаг».
– Кто мог положить эту бумажку сюда? – сказал Жюльен. – Несчастный! – прибавил он со вздохом, – его имя оканчивается как мое… – И он смял бумажку.
Когда Жюльен выходил, ему показалось, что он видит кровь возле кропильницы: это была пролитая святая вода: отблеск красных занавесей, закрывавших окна, делал ее похожей на кровь.
Наконец Жюльен устыдился своего тайного страха.
– Неужели я трус? – спросил он себя. – К оружию!
Это слово, так часто повторявшееся в рассказах о сражениях отставного лекаря, было для Жюльена символом героизма. Он встал и быстро направился к дому господина де Реналя.
Несмотря на свою решимость, лишь только он увидел этот дом в двадцати шагах, им овладела непобедимая робость. Железная решетка была открыта; она показалась ему великолепной. Надо было войти. Жюльен не был единственным, чье сердце сжималось при входе в этот дом.
Крайне застенчивая госпожа де Реналь смущалась при мысли, что этот чужой человек в силу своих обязанностей будет постоянно находиться между нею и детьми. Она привыкла, чтобы сыновья спали в ее комнате. Утром, увидав их кроватки перенесенными в комнату, предназначенную для наставника, она пролила немало слез. И тщетно просила мужа, чтобы кровать Станислава-Ксавье, самого младшего, была снова перенесена в ее комнату.
Женская чувствительность была чрезвычайно развита в госпоже де Реналь. Она представила себе грубое, нечесаное существо, которое будет бранить ее детей исключительно потому, что он знает латынь – варварский язык, за который ее мальчуганов будут сечь.
Глава 6. Неприятность
Non so piu cosa son Cosa facio.
Mozart. FigaroНе знаю, что со мной и что я делаю.
Моцарт. Свадьба Фигаро.Госпожа де Реналь, со свойственной ей грацией и живостью, проявлявшихся, если она не чувствовала на себе взглядов мужчин, спускалась из гостиной в сад, когда она заметила у входной двери молодого крестьянина, еще почти подростка, чрезвычайно бледного, с заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубашке и держал под мышкой опрятную куртку из лиловой шерстяной материи.
Лицо этого юного крестьянина было так бело, глаза так кротки, что из-за романического воображения госпожи де Реналь сначала приняла его за молодую переодетую девушку, пришедшую с какой-нибудь просьбой к господину мэру. Ей стало жаль это бедное существо, стоявшее у входа, очевидно не решаясь дотронуться до звонка. Госпожа де Реналь подошла, на мгновение забыв о том огорчении, которое ей причинял приезд наставника. Жюльен, обернувшийся к двери, не заметил ее приближения. Он вздрогнул, услыхав вдруг у самого уха нежный голос:
– Что вам здесь нужно, дитя мое?
Жюльен быстро обернулся и, пораженный полным кротости взглядом госпожи де Реналь, несколько оправился от своего смущения. Затем, пораженный ее красотою, он позабыл все, – даже зачем он пришел сюда. Госпожа де Реналь повторила свой вопрос.
– Я пришел сюда в качестве наставника, сударыня, – сказал он ей наконец, смущенный своими слезами и стараясь их как-нибудь вытереть.
Госпожа де Реналь была изумлена; они стояли, глядя друг другу в глаза. Жюльен никогда не видал, чтобы так прекрасно одетое существо, и в особенности дама с таким ослепительным цветом лица, говорила бы с ним так любезно. Госпожа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по бледным, а теперь порозовевшим щекам молодого крестьянина. Вскоре она начала смеяться с веселостью молодой девушки: она смеялась над самой собою, сама не веря своему счастью. Как, это и был воспитатель, которого она воображала себе в виде грязного обтрепанного священника, который будет бранить и бить ее детей.
– Как, сударь, – спросила она его наконец, – вы знаете латынь?
Слово «сударь» так удивило Жюльена, что он на мгновение задумался.
– Да, сударыня, – отвечал он робко.
Госпожа де Реналь была так счастлива, что решилась спросить Жюльена:
– Вы не будете очень бранить этих бедных детей?
– Бранить их, – ответил удивленный Жюльен, – да за что же?
– Не правда ли, сударь, – прибавила она, немного помолчав, голосом, в котором заметно было возрастающее волнение, – вы будете с ними добры, обещайте мне это.
То, что его еще раз всерьез назвала сударем так прекрасно одетая дама, превосходило все ожидания Жюльена: строя в юности свои воздушные замки, он решил, что ни одна порядочная дама не удостоит его разговором, пока у него не будет красивого мундира. Госпожа де Реналь, со своей стороны, была совершенно поражена нежным цветом лица, большими черными глазами Жюльена и его красивыми волосами, вившимися более обыкновенного, ибо для освежения он окунул голову в общественный фонтан. К ее великой радости, она нашла, что воображаемый страшный наставник грубого и противного вида, которого она так боялась для детей, походил больше на застенчивую молодую девушку. Для мирно настроенной души госпожи де Реналь контраст между ее опасениями и тем, что она видела, составлял большую неожиданность. Наконец она оправилась от своего изумления. И удивилась тому, что стоит у входа в дом с молодым человеком в простой рубашке и так близко от него.
– Идемте, сударь, – сказала она ему несколько смущенным тоном.
Еще никогда в жизни такое приятное чувство не волновало так глубоко госпожу де Реналь; никогда еще такое милое явление не сменяло таких тревожных опасений. Итак, ее милые мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в лапы грязного и ворчливого священника. Войдя в переднюю, она обернулась к Жюльену, робко следовавшему за нею. Его удивление при виде столь прекрасного дома еще увеличивало его привлекательность в глазах госпожи де Реналь. Она не верила своим глазам; она воображала себе наставника всегда одетым в черное.
– Неужели это правда, сударь, – сказала она, снова останавливаясь и смертельно боясь ошибиться, она так обрадовалась, а вдруг это ошибка, – вы знаете латынь?
Эти слова задели гордость Жюльена и рассеяли очарование, в котором он пребывал целую четверть часа.
– Да, сударыня, – отвечал он, стараясь принять гордый вид, – я знаю латынь не хуже нашего священника, а в иных случаях он по своей доброте признает мои знания выше.