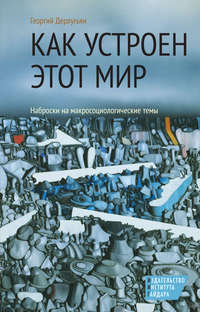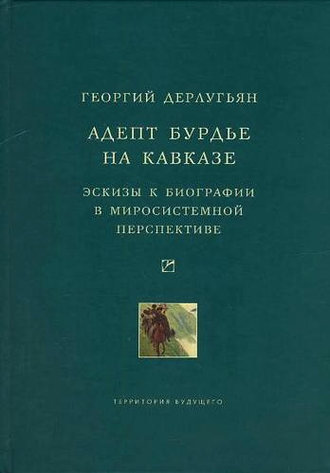
Полная версия
Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе
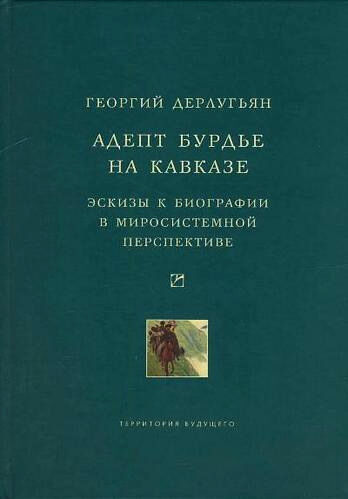
Георгий Дерлугьян
Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе
Предисловие к русскому изданию
Простой советский черкес
На Кавказе все хорошие истории имеют тенденцию ветвиться.
Фазиль ИскандерИстория, служащая лейтмотивом этой книги, довольно долго оставалась в папках с материалами полевых исследований. Тому было три веские причины: теоретические затруднения, политические соображения и этические дилеммы. Поясню вкратце и в обратном порядке, чтоб не задерживать с чтением книги.
Непременно записывать личные наблюдения было напутствием Бенедикта Андерсона перед моей очередной поездкой на Кавказ. Автор «Воображаемых сообществ» – славный ирландец, родившийся в Шанхае и, кстати, бравший уроки русского языка у эмигранта князя Ливена, – воспитывал во мне убеждение, что глобальные тренды и структуры не имеют реальности без понимания действий, представлений и надежд людей, на долю которых выпало жить среди этих структур и трендов. Бен Андерсон всегда ценил показательную для своей эпохи историю. Он любит слушать и сам умеет хорошо рассказывать[1]. Так появилось длинное письмо-отчет о нескольких днях зимы 1997 г. в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, ставшее основой первой главы.
Письмо вместе с фото кабардинского политика Мусы (Юрия Мухамедовича) Шанибова попало в руки Пьера Бурдье на первый взгляд достаточно случайно. Иммануил Валлерстейн, глава моего диссертационного комитета в Университете штата Нью-Йорк, предпочитал проводить весенний семестр в Париже. В конце отчета я весело приписал, что если ему случится где-то на бульваре Сен-Жермен столкнуться с Бурдье, то можно озадачить французского коллегу фото его «тайного адепта» в папахе. Лишь отправив письмо шефу, я сообразил, что, скорее всего, сморозил глупость. Нигде в своих обширнейших библиографиях Валлерстайн не упоминает Бурдье – как и Бурдье никогда не ссылался на Валлерстайна. Едва ли это могла быть случайность. Два знаменитых социолога занимались совершенно разными вещами и на абсолютно разных уровнях. Кроме того, Бурдье был известен нелегким и задиристым характером, а Валлерстайн, напротив, принципиальный противник полемики. Но сомнения разрешились через каких-то три недели. В почтовом ящике обнаружился конверт с простым логотипом Collège de France, Pierre Bourdieu. Писал Бурдье быстрым почерком, только по-французски, очень сердечно и энергично. Конечно, ему было любопытно, что за почтенный кавказец в папахе держит в руках русский перевод его труда[2].
Поди-ка вкратце объясни Пьеру Бурдье, как бывший прокурор и комсомольский работник, преподаватель научного коммунизма из Кабардино-Балкарского госуниверситета, в годы перестройки становится президентом Конфедерации горских народов Кавказа и ведет на войну в Абхазии отряды добровольцев, среди которых Шамиль Басаев и Руслан Гелаев, а затем выведенный из активной политики случайным ранением, штудирует в госпитале политическую социологию Бурдье… Человеку с советским жизненным опытом многое тут до боли знакомо – один из моих питерских друзей с готовностью определил типаж: «Собчак Кавказа!» – но именно потому малопонятно западному читателю (как, впрочем, становится непонятным и нашим собственным детям). В самом деле, Шанибов типичен для поколения интеллигентов-шестидесятников, в ответ на гласность взявших в руки микрофон и мгновенно превратившихся в народных трибунов. Сколько подобных людей некогда стало знаменитыми публицистами и народными депутатами – и куда они потом все делись? Тот же Шанибов в конце 1990-х возвращается к мирной преподавательской деятельности и безвестности[3].
То, что писать об этом стоит, подтвердил Бурдье, добавив несколько смущенно, что с удовольствием бы опубликовал мой «замечательный текст» в своем журнале, если бы сам не выступал «в некотором роде героем этой истории». После неожиданно ранней смерти Бурдье в январе 2002 г. пришло осознание, что долг памяти требует двинуть концепции французского социолога в новом направлении, которое он сам бы вероятно одобрил. Бурдье не раз признавал свою идейную близость с Чарльзом Тилли, чьи историко-эмпирические теории становления современного государства, протестных мобилизаций и демократизации веско противостояли обычной ортодоксии в таких вопросах. Подход Тилли давал, в частности, продуктивную альтернативу однолинейной «транзитологии» – господствующему взгляду 1990-х гг. на переход бывших соцстран к рынку и либеральной демократии[4]. Вопреки репутации эпистемолога и социолога культуры, Бурдье в первую очередь занимала проблематика социальной власти, особенно латентно скрытой в структурах и практиках обыденности. Его знаменитая полемичность объясняется не только приобретенной задиристостью крестьянского сына, вторгшегося в рафинированную среду парижских интеллектуалов. Пьер Бурдье рубил направо и налево глубоко укорененные в современном интеллектуально-политическом сознании схемы как официального либерализма, так и политического марксизма, выявляя противоречия ортодоксий, обычно принимаемых за данность. В совершенно ином ключе Иммануил Валлерстайн, по его собственному выражению, занимается «рубкой цепкого подлеска» унаследованных от XIX в. великих ортодоксий[5]. Наконец, те же самые задачи ставил Тилли, предлагая свои в целом структуралистские решения[6].
Дает ли эта общая идейная направленность трех крупнейших социологов конца XX в. возможность совместить их теоретические подходы? Что выйдет, если попытаться применить подобный синтез к рациональному анализу распада СССР? Можно ли надеяться получить целостную картину, которая увязывает структурные исторические факторы с социальными мотивациями и действиями отдельных групп и их представителей? Двигаясь в принципе в одном и том же направлении, Бурдье, Тилли и Валлерстайн фокусируют свои теории на трех различных уровнях. Их можно соотнести со знаменитым делением исторических процессов у Фернана Броделя на три горизонта времени (темпоральности) и структурные «три этажа»: человеческой повседневности (Бурдье), мезоуровня социальных сетей материального и политического обмена (Тилли), и длительной макроисторической протяженности, или longue durée (Валлерстайн). Идею оставалось проверить в реальном деле, написав такую книгу.
И тут вставала масса политических дилемм. Советский исторический опыт и распад СССР остаются обостренно актуальной историей. Пример иного уровня – как писать о войне в Абхазии, зная, что книга будет прочитана и в Грузии? Или о Карабахе, когда фамилия автора явно армянская? Крайний случай – как рационально анализировать действия Шамиля Басаева или Салмана Радуева, не впадая в манихейскую риторику «войны с террором»? Дилеммы отнюдь не абстрактные. Несколько раз во время полевых интервью, когда собеседник вдруг уходил в травматичные воспоминания и начинал изливать душу, оказывалось, что я разговариваю с человеком, участвовавшим в чудовищных жестокостях. Хуже того, было ясно, что это вовсе не психопат, наркоман или садист, а, в целом, вполне нормальный мужик, мотивирующий свои действия, как правило, местью или обстоятельствами войны. Не уверен, что и сейчас знаю, как правильнее поступить.
Проблема остро возникла в конце 2003 г., когда вскоре после трагического захвата заложников в Москве на Дубровке Издательство чикагского университета попросило меня написать научное предисловие к книге репортажей Анны Политковской[7]. Выручил панорамный социологический взгляд Бурдье, позволявший расположить в поле социальных взаимодействий и Политковскую как носительницу давней русской обличительной традиции, восходящей к Радищеву, Короленко и советским диссидентам, и официальных представителей вроде Ястржембского, знакомого мне еще со времен его диссертации о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Португалии национально-освободительными движениями африканских колоний, и чеченских повстанцев, и российских солдат, и их жертвы, и самих западных читателей, которым предстояло сделать свой выбор, прочтя эту нелегкую книгу репортажей, наконец, самого себя как профессионального проводника-социолога согласно принципу рефлексивности исследователя, выработанному Бурдье.
Ограничусь двумя необходимыми заявлениями. Во-первых, О деталях операций боевиков и силовиков мне не известно ничего сверх описанного в открытой печати, и я сознательно избегал такого рода информации. Дело социолога – прояснять социальную структуру из которой возникают различные действия вплоть до самых крайних. Во-вторых, я не стремился показать Шанибова ни злодеем, ни великим борцом. Это во многом типичный советский человек своего времени, чем он и ценен науке. Книга, в сущности, не о нем, а о его времени. Жизненная траектория Юрия Мухамедовича удивительно полно воплотила в себе взлет и падение советского проекта догоняющей модернизации. Здесь нам открывается возможность связать вместе микро– и макроуровни анализа недавней истории. Не в последнюю очередь Шанибов еще и вполне типичный представитель национальной группы кабардинцев, одного из некогда многочисленных черкесских народов. Это подводит нас непосредственно к возможности понять роль «национального фактора», сыгравшего такую (но какую именно?) роль в распаде СССР.
Легко было бы сосредоточиться на кавказской идентичности. Но Шанибов более интересен как раз тем, что националистом он становится довольно поздно в своей биографии. К началу перестройки ему уже исполнилось пятьдесят. Это зрелый человек с довольно длинной биографией, в которой много всего советского и абсолютно ничего антисоветского. Еще в первые годы горбачевской реформации он остается верным коммунистом, да и сегодня искренне сожалеет об утрате СССР. И вместе с тем, это давний и весьма характерный оппозиционер, чьи взгляды, ожидания и политические мотивации сформировались в период хрущевской «оттепели». С тех пор он противостоит местной номенклатуре – довольно долго в качестве коммуниста-реформатора, затем националиста, неизменно же обличителя и правдоискателя.
С поправкой на провинциальность Нальчика (но, опять же, что задает «провинциальность» в социальном поле?), наш университетский оппозиционер-шестидесятник вполне сравним с прогрессивной интеллигенцией Ленинграда или Праги. Тогда почему он в итоге становится не либералом Гавелом или Собчаком, а националистом Шанибовым? Почему на Кавказе революции против госсоциализма вовсе не «бархатные»? Почему, наконец, провалом заканчивается перестройка и попытки демократизации осколков бывшего СССР? Какие силы и процессы вместо ожидаемого вхождения в круг «нормальных стран» Европы отбрасывают большую часть нашего района мира на периферию, едва не в Третий мир? Если не впадать в иллюзию, будто Центральная Европа отдельный континент, то тестом на надежность теории распада СССР в первую очередь должна стать ее способность рационально объяснить дивергентное расхождение траекторий всех бывших соцстран.
Ох, проверка теории… Вечная проблема академической карьеры в Америке. Прибегну к анекдотической истории, какими еще не раз будут иллюстрироваться теоретические постулаты этой книги. Впервые попав в 1993 г. на крупную и весьма престижную конференцию, проводившуюся Фондом Макартуров и Советом по исследованиям в социальных науках, я едва не потерпел полное фиаско. Вежливо выслушав мой доклад о социальных типажах вождей националистических движений на Кавказе (ведь не случайно же среди них оказалось столько моих прежних коллег-востоковедов, а также поэтов, кинорежиссеров и художников), весьма формально одетая молодая дама, политолог из элитного университета, осведомилась тоном отличницы, к которой прикрепили второгодника, каковы критерии фальсификации моей теории и не кажется ли мне, что я впадаю в риск «тестирования по зависимой переменной»? Чувствовалось, что меня публично заподозрили в каком-то грехе, но каком?! Со всем своим советским образованием и научным любопытством, я до тех пор и не слыхивал подобных выражений. К счастью, мое оторопелое молчание прервала другая женщина, куда менее формально одетая в какой-то цветастый восточный бурнус и увешанная экзотической бижутерией, которая оказалась культурным антропологом из того же элитного американского университета. Она стала горячо отстаивать преимущества мультивокальности, интердискурсивности, радикального сомнения и «плотного описания идентичности». Похоже, мне пытались прийти на выручку, только я совершенно не понимал, как. Развернулась нешуточная перепалка, захватившая всех американских участников. Это вдруг напомнило далекую африканскую ночь посреди Мозамбика, когда наша геологическая партия вместе со мной, студентом-переводчиком, попала в перестрелку между «контрас» из Национального Сопротивления и бойцами Народной Армии. Стреляли и те и другие почем зря, преимущественно в воздух. Оставалось залечь и наблюдать, как высоко в бархатно-черном небе переливались очереди трассирующих пуль.
Конфуз, испытанный на той первой конференции, заставил провести годы в библиотеках ради самообразования как условия научного выживания. Все это так или иначе нашло выражение в книге, однако отечественного читателя ни к чему мучить критическими выкладками насчет политологического формализма и антропологического постмодернизма. В русском варианте книги сведен до минимума обязательный занудный разбор альтернативных гипотез и нет чуточку ёрнически названной главы о «Сложных триангуляциях», которая имела значение в основном при выдвижении на пожизненную профессорскую должность в Чикаго. В таком виде, надеюсь, книга становится стройнее и легче для восприятия.
Главная задача – при помощи исторической социологии наметить подходы к прояснению того, что произошло с СССР, со всеми нами, с современным миром и с героем нашего повествования Юрием Мухамедовичем Шанибовым. Теоретические принципы уже минимально обозначены в этом предисловии, а остальное должно проясниться по ходу повествования. Книга строится по нарастающей, от микроэмпирической картинки первой главы к теоретико-эмпирическому описанию последующих частей и завершающему макрообобщению. Остается поблагодарить тех, кто помог осуществить русское издание: переводчика Тиграна Ованнисяна, добровольного корректора Наталию Белых, главного редактора Валерия Анашвили и, конечно, Александра Львовича Погорельского. Особо хочу поблагодарить Юрия Мухамедовича Шанибова, достойно сносившего свое превращение в протагониста социологического разбора и мое не всегда почтительное отношение к его делам и идеям. Остальное в руках читателя.
Глава 1
Поле
Самое удивительное вознаграждение в ремесле социолога – возможность войти в жизнь других людей и приобрести опыт, на основе всех накопленных ими знаний.
Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology. (Chicago, 1992)Прежде чем перейти к историко-теоретической реконструкции связей, ведущих из прошлого в настоящее и будущее (что и является главным методом данной книги), следовало бы приобрести практическое чувство сложной и, возможно, даже экзотичной среды, которую нам предстоит исследовать[8]. Практическое восприятие составит нам то, что проницательный австриец Шумпетер называл «видением» поля и немало ценил как «доаналитический акт познания, поставляющий сырьевой материал для аналитического рассмотрения»[9]. В этой вводной главе я постараюсь передать первые впечатления и наблюдения, которые обычно возникали у людей, посещавших в 1990-e гг. места вроде Чечни и Кабардино-Балкарии. Эта глава станет социологическим подражанием тому, что естественным путем приходит к опытным журналистам-международникам, в особенности когда им предоставляется достаточный простор для выражения. Имеется в виду не повседневная новостная заметка, а более крупные итоговые материалы, которые предполагают обретение значительной глубины и композиционной свободы при написании и последующем редактировании. Именно из такого процесса возникают лучшие журналистские книги или длинные повествовательно-аналитические статьи, подобные тем, которыми славится элитарный еженедельник «Нью-Йоркер». Журналисты основываются на практическом знании реалий, возникающем из опыта многолетнего нахождения в определенном районе мира. Высшее мастерство журналиста состоит в умении перевести свое глубокое интуитивное знание необычных реалий в понятные своему читателю образы, ситуативные сценки и поясняющие сравнения, которые позволяют аудитории войти в логику событий и человеческих характеров.
Будучи социологом, а не журналистом, я соотношу полевые наблюдения с теоретическими концепциями, почерпнутыми из современной социологической науки, и строю свою интуицию (без которой никуда не денешься и в науке) более сознательно и рефлексивно на профессиональном знании исследовательских методов. По ходу дела попробуем выдвинуть некоторые предварительные гипотезы, увязывающие эмпирические наблюдения, собранные на поверхности, с более глубинными структурными процессами исторических изменений, которые могут быть реконструированы лишь теоретически.
Американец или европеец, впервые очутившийся на Кавказе (а точно так же, надо признать, будет себя чувствовать и большинство русских), оказывается посреди хаотического потока ярких и порою слишком сильных впечатлений. Поначалу это просто ошеломляет. В качестве нормальной, предсказуемой реакции мозг пытается заузить поток информации, поставить заслон мельтешению все новых впечатлений, прикрыться какими-нибудь привычными стереотипами и схемами насчет иноязыкого разноголосья. Замечу, что одним из самых распространенных способов защиты от избытка впечатлений как раз и выступает переэкзотизация чужой жизненной реальности. За непривычными одеждой, речью, поведением, прочими внешними этническими и классовыми признаками мы нередко отказываемся разглядеть знакомые человеческие типажи – таксист-«водила», старушка, женщина с ребенком, молодой щеголь, уличный жулик, группка зевак, интеллигентного вида прохожий, полицейский-«мент», чиновник, торговка – людей со вполне обычными житейскими заботами, комплексами, слабостями, предпочтениями. Кто-то из них нам может быть полезен, кого-то лучше бы избегать, большинство просто обтекает нас в потоке жизни.
Приведенные в данной главе впечатления представлены в виде серии отдельных «фотоснимков», запечатленных мгновений из повседневности Северо-Кавказского региона, которые нам предстоит исторически контекстуализировать и подвергнуть аналитическому разбору в последующих главах. А пока будем просто наблюдать и записывать – хотя это занятие может оказаться не столь простым, как кажется. Следует сознательно обращать внимание на вещи и явления, которые могут быть сочтены слишком обыденными и общеизвестными, чтобы удостоиться письменного упоминания. Например, путешественник родом из страны, где рис является основой национальной кухни, в своих записках наверняка пропустит то обстоятельство, что местные жители также едят рис. Упоминание о «хлебе насущном» обитателей других стран появится лишь в том случае, если в пищу идут необычные для нашего путешественника продукты – скажем, жареные бананы либо выпекаемые в печи-тандыре лепешки из пшеничной муки, просяная или кукурузная каша-мамалыга или такое американское диво, как неделями не черствеющий нарезанный хлеб в пластиковой упаковке. Историки и этнографы, конечно, профессионально подготовлены замечать подобные преломления действительности в письменных источниках. Но это далеко не единственное из грозящих нам заблуждений.
Иногда наблюдаемое явление может быть искажено нашими собственными ожиданиями определенных результатов. (Методологи позитивистского толка на своем жаргоне именуют это «сбором данных по зависимой переменной».) Например, иностранный ученый, приехавший изучать роль ислама в политике на Кавказе, может настолько сконцентрироваться на предмете своего исследования, что не заметит важные вариации и взаимосвязи в более широких рамках социальной среды и исторического контекста. Разумеется, физики или химики, чья область исследований предоставляет роскошь работы в лабораторных условиях, преднамеренно и тщательно изолируют предмет эксперимента от интерференций окружающей среды – с тем чтобы рассмотреть вещество в клинически чистой и концентрированной форме. В соответствии с подобным сверхнаучным подходом старательный исследователь, взявшись за изучение нынешнего движения исламского возрождения, может потратить все свое экспедиционное время на посещение мечетей-новостроек и беседы с муфтиями и активистами, а эксперт по партизанской войне потратит уйму сил и, вероятно, пойдет на изрядный риск, чтобы пообщаться с боевиками и их политическим руководством. Разумеется, в данном случае мечети и боевики есть наиболее концентрированные проявления избранной проблематики. Такого рода проблематику, конечно, можно заподозрить в юношеском мачизме на грани поиска приключений, чем, надо признать, грешит немало начинающих журналистов, которые видят ценность информации в самой ее недоступности. Тем не менее ничуть не меньшую сфокусированность на искусственно изолируемой теме и респондентах легко обнаружить и во многих гендерных исследованиях, которые не без интеллектуального апломба начинают и заканчивают абстрактно-идеологической категорией женщин. Это вовсе не означает, что гендер не важен – о чем ниже. Однако какое социальное явление может существовать в изоляции от своей исторической системы? Стоит исследователю воспринять подобный научный педантизм, как она или он оказывается на краю ловушки идеологического штампа. Тогда в фокусе исследования вместо людей со свойственными им внутренними противоречиями, грузом прошлого, текстурой социальных взаимосвязей и зачастую парадоксальным сочетанием нескольких с трудом сопрягаемых социальных ипостасей возникают яркие, но совершенно плакатные образы, олицетворяющие те или иные идеологемы: бойца, исламиста, демократа, женщины.
Примером может служить приводимое ниже описание моей первой встречи с Мусой Шанибовым. Если бы не моя случайная обмолвка, резко повернувшая ход разговора, Шанибов мог бы быть занесен в полевой отчет лишь в качестве пламенного идеолога и вождя горского национализма, гордо носящего свою традиционную каракулевую папаху. Однако в таком случае могла бы ускользнуть от нашего внимания вся предыдущая, глубоко советская жизнь этого незаурядно одетого человека, точнее, его обыденное для брежневского периода существование в карьерном застое и провинциальной ограниченности возможностей, в то же время наполненное дружескими контактами, музыкой, чтением книг, включая ту классику критической социологии, которая была доступна в тогдашнем Нальчике, и нереализованными мечтами об общественных преобразованиях.
Для пояснения метода данной книги также необходимо с самого начала честно оговорить, что я здесь выступаю не только ученым-социологом, но еще и местным «папуасом» (как все мы есть «туземцы» в каком-то родном уголке мира). Я родился и вырос в Краснодаре, одном из наиболее крупных, многонациональных, хотя одновременно и более русских городов Северного Кавказа. По мере взросления я неизбежно приобретал интуитивное практическое знание местных реалий. Однако данная социализация так и не дошла до уровня «естественного» безотчетного габитуса. Сразу после десятого класса, в шестнадцатилетнем возрасте, я уехал на учебу в Москву, где в МГУ изучал африканские языки и культуры. Затем несколько лет работал переводчиком португальского в Мозамбике, где впервые оказался на войне, а как социолог профессионально сформировался уже в Америке после 1990 г. Честно говоря, самому не верится, что эта книга написалась на изначально мне совершенно чужом английском языке. Когда я учился в седьмом классе, наша полная собственной значимости завуч-«англичанка» без обиняков предложила моим расстроенным родителям перевести их сына, не проявлявшего способностей к языкам, в менее престижную школу для «нацменов», что в Краснодаре означало адыгейцев, греков, ассирийцев и армян. Завуч щедро пожелала мне подучиться нормальному русскому – хотя это мой родной язык, конечно, от рождения я «гыкал» как заправский кубанец. Мой отец-армянин и мама-казачка говорили между собой только по-русски, хотя и неизбежно с мало ими осознаваемыми особенностями местного говора. Впрочем, моя бабушка Еля – Елена Мироновна Тарасенко – до конца своей долгой и очень нелегкой жизни так и не заговорила на нормативном русском. От нее в основном я и унаследовал навык балакать по-станичному.
Для социологических целей оказалось неожиданно полезным, что при работе на Северном Кавказе во мне сочетались способность образованного чужестранца подмечать свежим взором местные особенности (например, манеры или блюда национальной кухни) и усвоенное с младых ногтей знание данной социальной среды (скажем, почему именно эти блюда подаются на стол в данном случае). Это означает, что в отличие от антропологов, страноведов или журналистов-международников, в данном случае мне не требовалось годами вживаться в иноэтническую среду, потому что я и без того в ней вырос. В этой книге я исследую свою собственную родину. Пьер Бурдье называл это «удачной двойственностью» наблюдателя. Он и сам использовал подобное преимущество при изучении провинциальной жизни в юго-западных областях Франции, в горах Беарна, откуда Бурдье был родом[10].