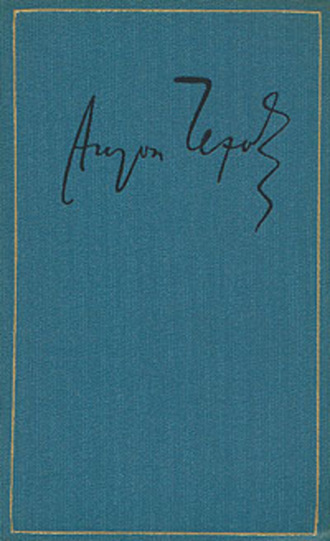
Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885
Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги… Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно увал на ширмы и… представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки – стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.
«Какая оказия! – подумал я. – Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо…»
И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и… и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.
– Это чёрт знает что такое! – услышал я в то же время женский голосок. – Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!
Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и – знакомство готово. Но как предложить?
– Это ужасно!
– Сударыня, – сказал я возможно сладеньким голосом. – Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то…
– Ах, пожалуйста!
– В таком случае я сейчас… надену только шубу, – обрадовался я, – и принесу…
– Нет, нет… Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!
– Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь…[50]
– А кто вас знает! Народ вы проезжий…
– Гм!.. А хоть бы и за ширму… Тут ничего нет особенного… тем более, что я доктор, – солгал я, – а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.
– Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?
– Честное слово. Так позволите принести вам порошок?
– Ну, если вы доктор, то пожалуй… Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам… Федя! – сказала брюнетка, понизив голос. – Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.
Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило… Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко… На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.
– Вы очень любезны, доктор… – сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. – Merci… И вас застала пурга?
– Да! – проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. – Да!
– Так-с… Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!
– Можешь, – засмеялась Зиночка. – Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!
– Зиночка, при постороннем человеке… (вздох). Вечно ты… Ей-богу…
– Свиньи, спать не дают! – проворчал я, сердясь сам не зная чего.
Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час… и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шёпотом браниться.
– Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! – проворчал Федя. – Так их много, этих клопов! – Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?
Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне…
– Ты, Зиночка, не стесняйся… Ведь он доктор! – услышал я шёпот после разговора об Эдисоне. – Не церемонься и спроси… Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет.
– Спроси сам! – прошептала Зиночка.
– Доктор, – обратился ко мне Федя, – отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли… теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то…
– Это длинный разговор, сразу нельзя сказать… – попытался я увернуться.
– Ну, так что ж, что длинный? Время есть… всё одно, не спим… Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов… Человек-то он хороший, но… кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.
Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.
– Покажите язык! – начал я, садясь около нее и хмуря брови.
Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.
– Гм!.. – промычал я, не найдя пульса.
Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.
Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:
Rp. Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0[51]
Aquae destillatae 0,1
Через два часа по столовой ложке.
Г-же Съеловой.
Д-р Зайцев.
Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:
– Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!
Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.
Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных…
Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте – кого бы вы думали? – Федю! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине… Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла… рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами…
– Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., – начал председатель.
Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.
– Ну, быть бане! – подумал я.
По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал…
Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва… Сейчас будет речь прокурора.
Что-то будет?
Новейший письмовник
Что такое письмо? Письмо есть один из способов обмена мыслей и чувств; но так как очень часто письма пишутся людьми бессмысленными и бесчувственными, то это определение не совсем точно. Придется остановиться на определении, данном одним образованным почтовым чиновником: «Письмо есть такое имя существительное, без которого почтовые чиновники сидели бы за штатом, а почтовые марки не были бы продаваемы». Письма бывают открытые и закрытые. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожностью и по прочтении вновь тщательно запечатываемы, дабы адресат не мог впасть в сомнение. Чужие письма читать вообще не рекомендуется, хотя, впрочем, польза ближнего и предполагает это прочтение. Родители, жены и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мыслей и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчетливо и с разумением. Вежливость, почтительность и скромность в выражениях служат украшением всякого письма, в письмах же к старшим надлежит помимо того руководствоваться табелью о рангах, предпосылая имени адресата его полный титул, например: «Ваше превосходительство, отец и благодетель, Иван Иванович! Просвещенное внимание Ваше и проч. …»
Литераторы, артисты и художники чинов и титулов не имеют, а посему письма к этим лицам начинаются с простого: М. г.!
Образцы писем:
К начальнику. Ваше превосходительство, милостивый отец и благодетель! Осмеливаюсь почтительнейше донести Вашеству, что помощник бухгалтера Пересекин, будучи вчера на крестинах у Чертоболотова, неоднократно высказывал мысль о необходимости перекраски полов в правлении, покупки нового сукна на столы и проч. Хотя в сей мысли и нет ничего вредоносного, но нельзя не подметить в ней некоторого недовольства существующим порядком. Жаль, что среди нас есть еще люди, которые по легкомыслию не могут оценить благ, получаемых от Вашества! Чего они хотят и что им нужно?! Недоумеваю и скорблю… Вашество! Благодеяния, в коих вы неутомимы, не имеют числа, но довершите, Вашество, благостыню Вашу и исторгните из среды нашей людей, кои и сами гибнут и других влекут к гибели. Примите, Вашество, и проч. … Ваш молитвенник Семен Гнуснов.
P. S. Осмелюсь напомнить Вашеству о месте помощника бухгалтера, которое Вы изволили обещать племяннику моему Капитону. Человек хотя необразованный, но почтительный и трезвый.
К подчиненному. Третьего дня, подавая мне и жене моей калоши, ты стоял на сквозном ветру и, как говорят, простудился, от каковой причины и не являешься на службу. За такое небрежение к своему здоровью объявляю тебе строгий выговор…
Любовное письмо. Милостивая государыня, Марья Еремеевна! Имея крайнюю нужду в деньгах, имею честь предложить Вам руку и сердце. На случай какого-либо сомнения прилагаю при сем полицейское свидетельство о поведении. Любящий М. Тпрунов.
Дружеское. Любезный Вася! Не можешь ли ты, голубчик, дать мне взаймы до завтра пять рублей? Твой Ипохондриков. (Отвечать следует так: «Не могу».)
Деловое. Ваше сиятельство, княгиня Миликтриса Кирбитьевна! Почтительнейше осмеливаюсь напомнить Вашему сиятельству о карточном должке в размере 1 р. 12 к., кои я имел честь выиграть у Вашего сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел еще чести получить. В ожидании и проч. … Зеленопупов.
Вредное и пагубное. Вашество! Вчера я случайно узнал, что наградами, которые я получил к Новому году, я обязан не моим личным заслугам, а моей жене. Служба моя у вас, конечно, уже невозможна, и я прошу о переводе. Примите уверение в моем к вам презрении и проч. Такой-то.
Ругательное. М. г.! Вы рецензент!
Письмо к литератору. М. г.! Хотя я и не знаком с вами, но не могу, из любви к ближнему и искренно сожалея вас (по всей видимости, вы человек способный), не обратиться к вам с добрым советом: бросьте ваше вредное занятие! Один из ваших доброжелателей. (Подписи следует избегать, в видах возможности компрометации.)
У постели больного
У постели больного стоят доктора Попов и Миллер и спорят:
П о п о в. Я, признаться, плохой приверженец консервативного метода.
М и л л е р. Я, коллега, ничего не говорю вам о консерватизме… Дело ваше верить или не верить, признавать и не признавать… Я говорю о режиме, который следовало бы изменить in concreto…[52]
Б о л ь н о й. Ох! (Встает через силу с постели, идет к двери и робко заглядывает в соседнюю комнату.) Нынче ведь и стены слышат.
П о п о в. Он жалуется, что у него в груди теснит… жмет… душит… Не обойтись без сильного возбуждающего…
Больной стонет и робко заглядывает в окно.
М и л л е р. Но прежде, чем давать возбуждающее, я просил бы вас обратить внимание на его конституцию…
Б о л ь н о й (побледнев). Ах, господа, не говорите так громко! Я человек семейный… служащий… Под окнами люди ходят… у меня прислуга… Ах! (Безнадежно машет рукой.)
Картинки из недавнего прошлого
В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флер-д’оранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость…
– Да, – говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. – Такие-то дела! Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры… по горло! Насилу к вам собрался. Собирался, собирался и наконец таки я у вас, душа моя… Ну? Как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе… Срок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе… Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее… Pardon, извиняюсь!
– Что вы… помилуйте-с! Мы и забыли-с!… Хе-хе…
– Там по векселям моим приходится, кажется, тысяч триста да процентов… если не вру, тысяч двадцать с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилыч, а вот как быть с процентами – ей-богу, не знаю… Сейчас уплатить их вам я не могу, так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня и знаете все эти тонкости… Как быть?
– Очень просто-с! Векселя мы заменим новыми, а проценты, ваше —ство, припишем к капитальному долгу…
– Вы велики, моншер! Ну-с, теперь вторая просьба… Жена моя купила себе маленькую дачу… этакую ферму, знаете ли… с рассрочкой на три года. Завтра, душа моя, представьте, срок платежа. До зарезу нужно сорок четыре тысячи! Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство… здесь в Скопине, кроме вас, никого нет у меня знакомого! Кто надпишет мне бланк?
– Это не суть важно, ваше —ство… Мы вам найдем бланконадписателя. Иван, поди сюда!
Входит сторож Иван.
– Подай чаю, – говорит ему Рыков, – да вот надпиши его —ству бланок![53]
Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана двугривенным.
Заседание скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с головою.[54]
– Нам, господа, нужно выбрать кассира банка, – говорит голова. – Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный…
– Отсутствующие не могут быть избираемы, – говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека «вредного».
– А где же Кичкин, братцы? – шепчутся друг с другом гласные, переглядываясь. – Нешто его нет?
– Нету… Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился…[55]
– Хитер, шельма! Афонасова споил[56], Ивана подкупил[57], Егора в кабалу взял… Отчеты эти самые, положим, рассматривать… Да для че их глядеть? Один смех только! Жульничество!
– А вы, господин, потише-с! – шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармонийкой, по всем признакам клеврет Рыкова. – Сами должны, а такие слова говорите!
– Не я один должен, все должны ему!
– Все и молчите.
– Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений, – говорит голова. – В банке всё обстоит благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтоб лжу бесовскую в людей вселять…[58] Нахожу всё верным и обстоятельным.. Никто ничего не желает возразить?
Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000.
– В таком разе предлагаю, – продолжает голова, – выразить нашу благодарность И. Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел!
– Благодарим! Благодарим!
Рыков кивает головой и уезжает восвояси.
Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб.[59], беседует с «просителем» (в Скопине почтмейстер – начальство).
– Что вам угодно?
– Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается не полученным. Могу ли я узнать о судьбе этого письма? Потом – я не получил 41 № «Вестника»[60], где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого нумера.
– Прошу не облокачиваться!
– Третьего дня мой знакомый не получил «Новостей»[61], где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с – не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»?[62] Оно, представьте, тоже не получено!
– Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденций прекращен! Приходите завтра!
Устрицы
Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок… По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.
Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: Fames[63] – болезнь, которой нет в медицинских учебниках.
Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.
Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню…
Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы… Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно – не видно…
Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.
Наконец странная болезнь вступает в свои права.
Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.
– Устрицы… – разбираю я на вывеске.
Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!
– Папа, что значит устрицы? – спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.
Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего… По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.
– Папа, что значит устрицы? – повторяю я.
– Это такое животное… Живет в море…
Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном… Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок… быстро, быстро, потому что всем есть хочется… ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.
Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом… Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава – всё пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного…
Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно…
– Папа, устрицы постные или скоромные? – спрашиваю я.
– Их едят живыми… – говорит отец. – Они в раковинах, как черепахи, но… из двух половинок.
Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я всё понимаю!
– Какая гадость, – шепчу я, – какая гадость!
Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу…
Я морщусь, но… но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего… Я ем и этих… Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску… Ем всё, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!
– Дайте устриц! Дайте мне устриц! – вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.
– Помогите, господа! – слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. – Совестно просить, но – боже мой! – сил не хватает!
– Дайте устриц! – кричу я, теребя отца за фалды.
– А ты разве ешь устриц? Такой маленький! – слышу я возле себя смех.
Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.
– Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?
Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы…
Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.
– Ха-ха! Он раковины ест! – смеется толпа. – Дурачок, разве это можно есть?
Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.
– Я, кажется, простудился, – бормочет он. – Что-то такое чувствую в голове… Словно сидит в ней кто-то… А может быть, это оттого, что я не… тово… не ел сегодня… Я, право, странный какой-то, глупый… Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько… взаймы? Наверное бы дали.
К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он всё еще ходит и жестикулирует…
Либеральный душка
Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, «бурбона», урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному.













